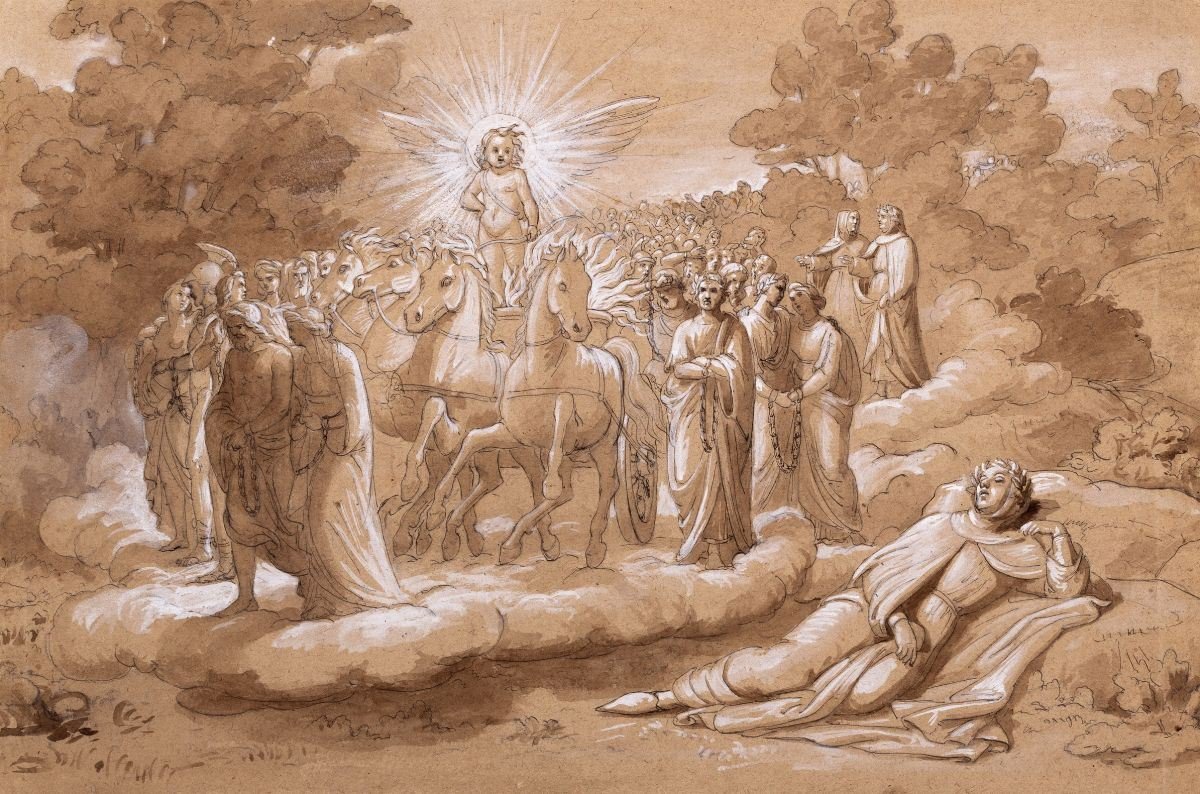
Автор текста: Ill-Advised
Оригинал на английском языке.
Франческо Петрарка: Инвективы. Под редакцией и переводом Дэвида Марша.
Библиотека I Tatti Renaissance, том 11. Издательство Гарвардского университета, 2003.
0674011546. xx + 539 стр.
Остальные авторские статьи-обзоры можно прочитать здесь
Из всей пыли пепел умерших споров — самый сухой.
— Артур Куиллер-Коуч
Как говорит словарь, инвектива — это обличительное или оскорбительное сочинение (или высказывание и т. п.). Четыре произведения в этой книге вполне соответствуют этому определению. К сожалению, читать их большую часть времени довольно скучно. Петрарка буквально изливает свою желчь ведрами, и, пока его кулаки неустанно обрушиваются на лицо противника (или на его доброе имя), он не всегда утруждает себя тем, чтобы быть остроумным, изобретательным или хотя бы интересным. Современные Usenet и всевозможные веб-форумы производят гигабайты подобного материала — только без учёности Петрарки и множества классических аллюзий. Как отмечает редактор во введении (сс. xi–xiv), инвектива была практически самостоятельным малым литературным жанром в древности, возможно, и в эпоху Возрождения. Можно предположить, что некоторым читателям эта книга может быть интересна в техническом плане — чтобы увидеть, какими риторическими и стилистическими средствами автор клеймит своих противников.
В остальном, с точки зрения содержания, эти тексты мало вдохновляют: они в основном на уровне такого рода высказываний: «Мистер Смит — дурак и подлец, к тому же у него воняют ноги, а по профессии он сантехник, а как известно, все сантехники — заядлые пьяницы; родом он из деревни Нижний Бристлбридж, которая триста лет назад подарила миру двух известных разбойников, а жители которой, как всем известно, регулярно насилуют своих овец». Я могу понять, что Петрарка просто хотел выплеснуть свою злость; могу также понять, что тем, кто желал видеть осмеянным конкретного человека, было приятно читать эти тексты; но для нейтрального читателя, не вставшего ни на чью сторону, здесь вряд ли найдётся что-то привлекательное. Настоящих аргументов против его оппонентов мало; в основном это чистая риторика, пышные жесты и неразбавленная брань, исходящая, похоже, из самой глубины души. Конечно, можно утверждать, что мистер Смит — дурак и у него вонючие ноги, но что вы этим доказали? Сказать легко, но это не аргумент и не доказательство. Вы доказали лишь то, что готовы опуститься до уровня написания подобного в публичном виде. А можно также утверждать, что родина мистера Смита породила таких-то и таких-то негодяев, и притворяться, будто из этого следует, что и он сам плохой человек, — но, ей-богу, этим никого не обманешь: все знают, что так это не работает. Говоря подобное, вы просто оскорбляете интеллект читателя. Такой стиль ожидаешь увидеть у какого-нибудь мерзкого демагога-политика, но никак не у порядочного писателя и интеллектуала.
Если бы у меня были счеты с теми же людьми, которых он здесь ругает, то, полагаю, чтение могло бы оказать катарсическое воздействие; но поскольку у меня их нет, именно избыток энергии и насилия в его стиле не позволил мне сопереживать ему и, таким образом, ценить или получать удовольствие от его оскорблений. Несколько из этих инвектив были написаны в ответ на сочинения, направленные против самого Петрарки; было бы интересно, если бы книга включала и эти тексты, чтобы можно было увидеть обе стороны. Сейчас же мы видим в основном сторону Петрарки — и лишь изредка то немногое, что он цитирует из доводов оппонентов. Из этого малого создаётся впечатление, что его противники не были ни более порядочными, ни более честными в споре, чем он сам.
В качестве примера рассмотрим первую инвективу — «Против врача». Хотя Петрарка в какой-то момент говорит, что его спор касается только этого конкретного врача, а не всей медицинской профессии, он тем не менее с явным удовольствием снова и снова повторяет вещи, которые иначе как насмешкой и позором для всей врачебной профессии воспринимать нельзя. Не то чтобы я был большим поклонником врачей, но многие выпады Петрарки против них попросту глупы. Он то и дело упоминает, что врачи часто заняты грязными, отвратительными делами вроде осмотра мочи больных (§31). Даже если это так, из этого вовсе не следует, что в этом есть что-то постыдное или морально дурное. Напротив, поскольку врачебная практика приносит благо человечеству, следует быть благодарным врачам за то, что они готовы заниматься этим, несмотря на подобные неприятные обязанности. Правда, Петрарка, возможно, считал, что медицина вовсе не полезна, и, учитывая её состояние в его время, трудно его за это осуждать.
Четвёртая инвектива, «Против порицателя Италии», уже интереснее, хотя всё ещё глуповата. Здесь речь идёт о пребывании папства в Авиньоне, и Петрарка писал папе, убеждая его вернуть престол обратно в Рим. Это вызвало ссору с неким французом, который, естественно, защищал Авиньон, и Петрарка написал эту инвективу в ответ. Он постоянно называет своего оппонента «галлом», а не французом, и приводит главным образом примеры из античной истории, чтобы доказать, что Италия, и особенно Рим, куда славнее Галлии (т. е. Франции). Меня ужасно раздражает привычка, весьма обычная для итальянских гуманистов, говорить «мы», когда речь идёт о Древнем Риме. В этом есть что-то режущее, высокомерное и напыщенное: итальянцы — не древние римляне, Италия — не Римская империя; сама мысль об этом очевидно и нелепо смешна. С другой стороны, должен признать: во времена Петрарки и с его точки зрения Италия не выглядела столь смешно, как теперь. В ту эпоху она во многих отношениях была более развитой, чем большинство других европейских стран, и сохраняла лучшую связь со своим классическим прошлым. И, признаться, нельзя сказать, будто в том, что итальянец XIV века ощущал преемственность с людьми, жившими на этой земле 1300 лет назад и от которых произошли он сам, его язык и культура, есть что-то нелепое. В конце концов, я и сам ощущаю преемственность с людьми, населявшими мою страну 1300 лет назад; разница лишь в том, что они были нецивилизованные варвары, а предки Петрарки тех же веков были представителями знаменитой античной цивилизации.
Как бы то ни было, эта инвектива всё же довольно занимательна, по крайней мере как пример того, что национальные соперничества везде и всегда одинаковы — и одинаково глупы. «Вы можете судить о достоверности его аргументов уже по тому, что он начинает с похвалы умеренности галлов в еде» (§9). «Красноречие присуще грекам. И я добавлю галлов к грекам: уступая им в уме, они превосходят их в хвастовстве и болтливости» (§55). «Что такое вся история, как не хвала Риму?» (§60; но, думаю, определение Гиббона ближе к истине.) «В Италии Рим был основан троянцами; но кто основал Трою? На самом деле её основал итальянец из Тосканы» (§104; источник? Разумеется, Вергилий — этот образец подхалимажа Августа, достоверного исторического повествования, кто же ещё). В §78 он перечисляет людей, якобы сосланных в долину Роны, включая Ирода и Понтия Пилата; но я сильно сомневаюсь в надёжности этих сведений.
Дерзость следующих строк (§59) просто поражает: «Мы видим истинность того, что написано в подлинных исторических хрониках: “Все народы должны знать, что римский народ начинает и заканчивает лишь справедливые войны”». А чуть далее в том же абзаце он цитирует некоего автора, утверждавшего, что римляне правят другими народами с мудростью и благоразумием, потому что они так привыкли к этому, тогда как «когда людям впервые улыбается удача, её новизна ослепляет их, и они теряют самообладание от восторга». Ах, эти империалисты — они одинаковы во все эпохи. Не знаю, смеяться над этим или плакать. Как это часто бывает в инвективах Петрарки, он снова прибегает к нелепым риторическим трюкам, чтобы подтвердить свои взгляды. Например, смешное словесное жонглирование, которым он «доказывает», что Рим следует считать «священным городом» (§24): «Гражданское право постановляет, что всякое место, где погребено тело […] считается “священным”. Насколько же, значит, должна быть священной сама Римская земля! В ней покоятся целые останки стольких доблестных и славных мужей и правителей!» Какая же это полная бессмыслица! Как кто-то вообще может воспринимать подобный “аргумент” всерьёз? Чёрт возьми, был ли он вообще предназначен к тому, чтобы его воспринимать всерьёз?
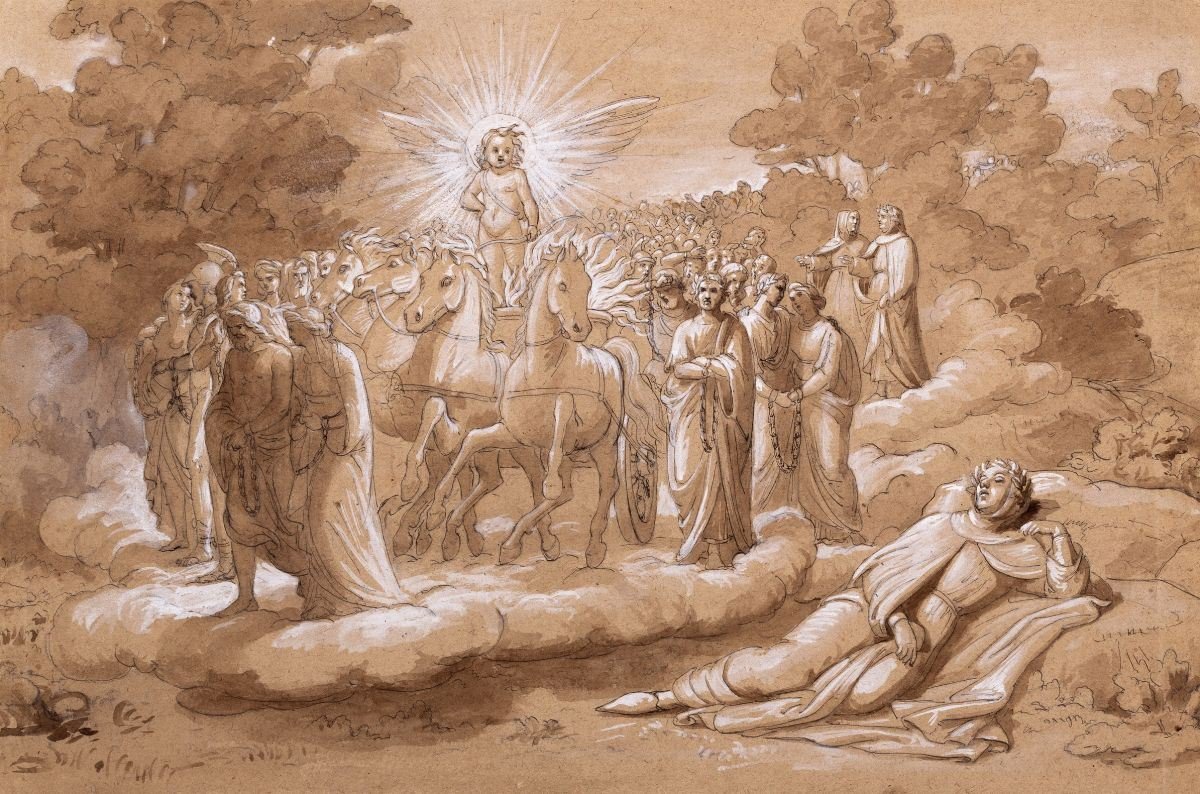
Самая интересная из этих инвектив — третья, «О собственном невежестве и невежестве многих других». Четверо друзей Петрарки стали завидовать его славе (§14) и обвинили его в невежестве (они «вынесли краткий приговор: я человек хороший, но без учёности», §24). (Отчасти причиной, по-видимому, было то, что Петрарка не имел привычки выставлять напоказ свои знания и красноречие в повседневных разговорах с друзьями; §45, 47.) Я очень восхищаюсь и уважаю ответ Петрарки: быть добрым и скромным куда важнее, чем быть учёным (§24, 27, 41–42). Затем, признав собственное невежество, он обвиняет своих хулителей в невежестве тоже. Здесь он куда сдержаннее, чем в других инвективах, больше рассуждает и аргументирует, почти без слепой ярости и бессмысленных оскорблений; поэтому эта инвектива гораздо приятнее для чтения. Более того, его отношение к четырём друзьям остаётся удивительно терпимым и дружелюбным — как и их отношение к нему (§137, 151). Невежество, говорит он, вообще вещь чрезвычайно распространённая, даже среди тех, кто славится своей мудростью (§144–145).
В этой инвективе Петрарка оказывается довольно благочестивым и религиозным человеком — куда более, чем я ожидал. Впрочем, временами это меня раздражало. Его четверо друзей, похоже, питали преувеличенное почтение к древним философам и их авторитету, особенно к Аристотелю. Скептицизм Петрарки по отношению к такому слепому принятию авторитета философа (§48) вполне разумен, но затем его главная претензия к Аристотелю оказывается в том, что тот не был христианином и, следовательно, его идеи недостаточно согласуются с христианскими верованиями (§49–50; он «не понимал, или понял, но пренебрёг двумя вещами, абсолютно необходимыми для счастья, а именно верой и бессмертием», §50; отсутствие у него монотеизма, §55). Для Петрарки христианство несравненно важнее всякой философии (§52). Он хвалит Цицерона за те места в его сочинениях, где будто бы предвосхищаются христианские идеи (§60–67; в §62 он цитирует особенно любопытный отрывок из «О природе богов» Цицерона, 2.34–35, показывающий, что «разумный замысел» вовсе не новая идея!). Однако Цицерон, конечно, не зашёл так далеко, чтобы стать монотеистом, — что вызывает суровое порицание Петрарки (§75–76). Позднее он критикует и других философов, опять-таки главным образом за их политеизм (§79–82); не лучше обстоит дело и с метемпсихозом Пифагора (§84) или атомами Демокрита (§86). Как бы то ни было, меня несколько огорчает эта жёсткая, скучная, самодовольная ортодоксальность Петрарки. Он цитирует скептические вопросы, поставленные неким эпикурейцем по имени Веллей, упомянутым в одном из произведений Цицерона, и комментирует: «Это вопрос неверующего и безбожного ума. Он говорит так, будто спрашивает о плотнике или кузнеце, а не о Том, о Ком написано: “Он сказал — и сделалось.”» (§96.) Вот, собственно, и вся его защита христианства: это вера, и ты должен верить в неё слепо — просто потому что так надо, и точка (§95–97). С одной стороны, такое отношение, конечно, вполне логично: ведь христианство — это, в конце концов, религия; вопрос веры. Если бы его можно было доказать доводами, то не было бы нужды верить — это стало бы просто фактом. Но это не так, и потому вполне разумно, что Петрарка прямо говорит: в это надо верить без доказательств и причин, просто верить. С другой стороны, это, конечно, ужасно печальное положение дел. Принятие подобной религиозной позиции — это полное уклонение от ответственности; это выдумывание ответа, не зная правильного; это поиск убежища в слепой вере вместо того, чтобы попытаться понять окружающий мир и осмыслить его, честно признать тот факт, что существует множество вещей, которых мы просто не знаем и не понимаем, и что это не повод придумывать вымышленные ответы, не зная правильных. Справедливо замечено, что религия часто действует как печать на уме человека, не позволяя ему смотреть под иным углом и не давая признать, что кто-то может столь же законно верить в чуть иные сказки, чем он сам. Взгляните хотя бы на это упрямое исповедание веры из §103: «Но есть другой, кому я поклоняюсь. Он не обещает мне пустых и легкомысленных догадок о ложных вещах, не имеющих цели и основания. Он обещает знание Самого Себя. И если Он дарует это, то будет излишним заботиться о вещах, Им сотворённых». В этом месте полно выражений, направленных против древних языческих философов (см. также §133 для подобных мест), но разве ему никогда не приходило в голову, насколько удачно те же самые фразы можно использовать против его собственных убеждений? Что всё христианство выглядит для атеиста как пустая и легкомысленная догадка о ложных вещах, не имеющая прочного основания? Познание «Самого Его», то есть того, чего вовсе не существует, — что может быть ещё более избыточным? Если можно не верить в n – 1 богов, почему не и в n-го? Но, конечно, все эти аргументы ужасно, до боли, изношены. Их, наверное, пережёвывали миллионы раз, по крайней мере со времён Вольтера, а скорее всего и задолго до того. У меня нет ни малейшего желания спорить с верующими: слишком маловероятно, что кто-то из них передумает. Мне просто ужасно надоели эти их жалкие, печальные заблуждения, и я бы хотел, чтобы они наконец от них отказались, как им следовало бы сделать уже давно.
етрарка также критикует Аристотеля за то, что, хотя он написал много прекрасных работ об этике, его труды не слишком эффективно побуждают людей к нравственным действиям; Петрарка считает, что различные латинские авторы, особенно Цицерон, в этом смысле гораздо лучше. Это вполне возможно; я сам не читал «Этику» Аристотеля, но слышал, что многие его сочинения – это, по сути, школьные учебники и, соответственно, довольно скучные. Рассел в своей «Истории западной философии» (книга I, часть 2, гл. XX) выражается об «Этике» Аристотеля в нескольких изящных фразах: «Эта книга обращена к благонамеренным людям средних лет и используется ими, особенно с XVII века, чтобы подавлять пыл и энтузиазм молодёжи. Но человеку с какой-либо глубиной чувств она, скорее всего, будет отвратительна». Петрарка говорит об Аристотеле (§108): «Ибо одно дело знать, а другое – любить; одно дело понимать, а третье – желать. Не отрицаю, что он учит нас природе добродетели. Но чтение его не даёт нам ни одного из тех наставлений, или даёт лишь очень немногие, которые побуждают и воспламеняют наши умы любить добродетель и ненавидеть порок». Особенно впечатляет первая фраза — она применима во многих случаях. Увы, как часто мы знаем, что было бы нам во благо, но не можем собраться с решимостью это сделать! Петрарка продолжает в §111: «Благоразумнее стремиться к доброй и благочестивой воле, чем к обширному и ясному разуму. Как говорят мудрецы, объектом воли является благо, а объектом разума — истина. Но лучше хотеть добра, чем знать истину».
Вот ещё одно отличное наблюдение (§92): «Ясность — высшее доказательство понимания и знания. Всё, что ясно понято, может быть ясно выражено […]» [прим. забавно, но это практически цитирование Аристотеля]. В §113 Петрарка подчёркивает, что его жалобы направлены не столько против самого Аристотеля, которого он на деле весьма уважает, сколько против позднейших аристотеликов — людей, будто бы считающих, что Аристотель дал ответы на все вопросы и является источником всякого авторитета и мудрости. Конечно, трудно не согласиться, что чрезмерная зависимость от любого отдельного философа или авторитета смешна и вредна. Из всех древних философов наибольшую похвалу у Петрарки получают платоники, поскольку их воззрения ближе всего к христианским верованиям (§119–120); если бы они родились позже, философы вроде Платона и Цицерона несомненно стали бы христианами (§128). Петрарка говорит, что не жалеет о прочтении трудов Цицерона (§126, 128).
Хорошее замечание о комментаторах: «Есть люди, которые не осмеливаются писать что-либо своё. В желании писать они обращаются к толкованию трудов других» (§115). Но Петрарка здесь немного несправедлив, говоря только «не осмеливаются»: дело ведь не только в смелости, но и в способности и таланте к писанию. Я, например, прекрасно осознаю, что этих качеств у меня нет. К счастью, у меня нет и амбиций становиться писателем. В заключение скажу, что я вряд ли порекомендовал бы кому-либо читать эту книгу — разве что вас интересуют риторические тонкости жанра инвективы. Из всех книг серии ITRL, что я читал, эта, пожалуй, самая скучная. Лучше бы я перечитал его сонеты, чем тратил время на эти инвективы. Самой интересной инвективой была третья, «О собственном невежестве», но даже она была несколько омрачена его христианским рвением. Пожалуй, самым занимательным во всём собрании инвектив остаётся обилие цитат из древних авторов, среди которых встречаются весьма любопытные. А если же вы просто хотите почитать тирады, личные выпады и бессмысленные препирательства — эта книга подойдёт, но, конечно, Usenet ещё лучше. Или, может быть, adequacy.org [прим. Лурк начала 00-х].
