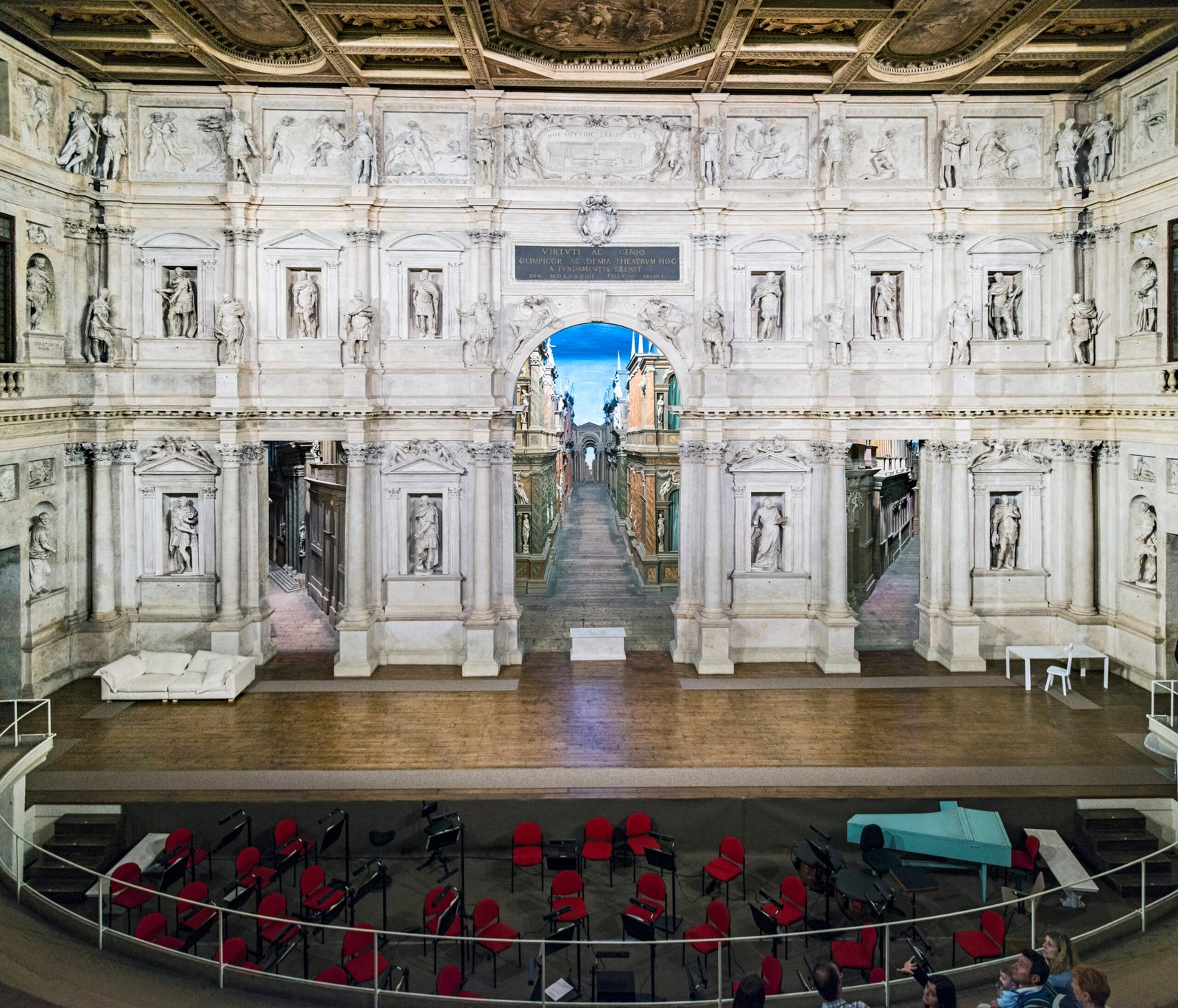
Автор текста: Ill-Advised
Оригинал на английском языке (1, 2).
«Гуманистические комедии». Под редакцией и переводом Гэри Р. Грунда.
Библиотека I Tatti Renaissance, том 19. Издательство Гарвардского университета, 2005.
0674017447. xxx + 460 стр.
Остальные авторские статьи-обзоры можно прочитать здесь
В эту книгу вошли пять комедий XV века (на самом деле одна из них датируется концом XIV века).
Пьер Паоло Верджерио:
Павел (1390)
Не понимаю, почему эту пьесу вообще называют комедией. В ней, собственно, нет ничего смешного. Павел — студент университета из довольно состоятельной семьи; судя по всему, не лишённый способностей, но никак не может заставить себя сесть за учёбу вместо того, чтобы тратить время и деньги на пирушки. Наконец, во сне к нему приходит вдохновение, и он решает исправиться, но его хитрый раб Герот делает всё возможное, чтобы вернуть его на путь порока. (Пока Павел на этом пути, у Герота есть масса возможностей получать свою долю от этого кутежа — см. стихи 341–355). Павел, хотя и начинает чувствовать, что это не он управляет слугой, а наоборот (стихи 167–172, 227–228), и хотя другой его раб, Стих, старается убедить его заняться учёбой всерьёз (сцена 3), всё же не может устоять перед соблазном и соглашается с предложениями Герота. Герот нанимает для Павла проститутку, но пытается первым переспать с ней. Это приводит к одной из немногих действительно забавных сцен всей пьесы (с. 55): Павел, раздражённый тем, что его так долго заставляют ждать, слышит шум из соседней комнаты и думает, что «Герот подрался» (стих 681). Это даёт драматургу повод разыграть серию двусмысленных каламбуров, основанных на том, что в латинском языке «слова, означающие “погибнуть”, “умереть” и “иссохнуть от любви” (perire), совпадают со словом “испытывать оргазм”» (примечание переводчика, с. 442). К счастью, эти каламбуры довольно удачно переводятся («“Я кончаю!”»). Пьеса заканчивается тем, что Герот хвастается этим и другими своими безнравственными проделками перед слугой другого человека — Паписом.
Как я уже сказал, в этой комедии не так много смешных вещей; но больше всего меня раздражает её общий настрой. Насколько я понимаю, в комедиях добро в конце должно побеждать, а злодеи — быть разоблачёнными, осмеянными и, возможно, пристыженными или наказанными. Так устроены, например, комедии Мольера. См. также статью на Википедии о комедии и вот эту веб-страницу. Но здесь, в Павле, «плохая сторона», представленная Геротом, наоборот, торжествует и открыто выставляет напоказ своё бесстыдное, аморальное циничное мировоззрение. В Героте нет ничего вызывающего сочувствие, поэтому он не должен был бы в итоге победить. Да и концовку этой пьесы никак нельзя назвать счастливой — а ведь счастливый конец является ещё одним из основных требований жанра комедии. Так что это, строго говоря, вовсе не комедия. Но, разумеется, и не трагедия; под её признаки она подходит ещё меньше. Что же это тогда? Жалкий, грязноватый кусочек реальности, в котором мало или совсем нет ничего хорошего, вот что это такое.
Кстати, Вержерио родился в Копере (стр. 3). [Прим.: для автора это важно, потому что сам он родом из Словении].
Леон Баттиста Альберти:
Филодокс (1425)
Эта пьеса несколько лучше предыдущей. Она всё ещё не очень смешная, но, по крайней мере, в ней счастливый конец, и в основном побеждают «правильные» персонажи. Любопытно, что почти все действующие лица носят имена с греческим значением, и автор объясняет их в предисловии (с. 73–75). Так, Доксия означает «слава», Филодокс — «любящий славу» (или Доксию), сестра Доксии Фемия — «известность»; есть ещё персонаж Фортуний, у которого раб по имени Династ («ибо, действительно, власть особенно подвластна фортуне») и т. д. Таким образом, вся пьеса имеет приятный и освежающе очевидный аллегорический смысл. Фортуний, «дерзкий юноша» (с. 83), пытается добиться славы, но в итоге завоёвывает лишь известность (и даже её ему приходится похищать), тогда как Филодокс, гораздо более удачливый персонаж, с помощью своего мудрого и рассудительного друга Фронея, в конце концов женится на Доксии.
В целом, это была довольно приятная пьеса. Единственное, что меня по-настоящему раздражает, — это реакция всех на изнасилование Фемии Фортунием. Впрочем, я не уверен, идёт ли речь только о «изнасиловании» в старом смысле, то есть «похищении», или и в современном. На с. 137 описано лишь похищение, но на с. 163 оно упоминается как изнасилование. Как бы то ни было, даже похищение само по себе достаточно ужасно. Меня возмущает реакция остальных персонажей, которые советуют паре просто пожениться: «позор от изнасилования можно смыть законным браком» — говорит авторитетный персонаж, старый Хронос, капитан городской стражи (с. 163); сестра Фемии, Доксия, тоже одобряет: «Раз уж дело зашло так далеко и нет оснований ожидать лучшего исхода, я считаю разумным выбрать меньшее из двух зол» (с. 165). Старая служанка Доксии, Мнимия («Память»), тоже соглашается (на той же странице). Сама Фемия, по-видимому, вообще не принимается в расчет. То есть — фу. Брак как награда за изнасилование — не перебор ли это? Полагаю, это типичный результат патриархального общества, где даже немыслимо, что молодая женщина могла бы остаться незамужней и со временем выбрать себе мужа по своей воле (если вообще захочет)…
Любопытный эпизод связан с авторством пьесы: «Я обманул людей, расспрашивавших, откуда я её взял, заставив их поверить, что это отрывок из очень древней рукописи. Все легко поверили, ибо пьеса и правда походила на комедию и на древний образец, а поверить, что я, юноша, занятый каноническим правом, способен на какую-то литературную заслугу, было нелегко. Кроме того, считалось, что комедийный талант в наше время вовсе не процветает» (с. 77–79). Лишь примерно через десять лет он публично признал своё авторство.
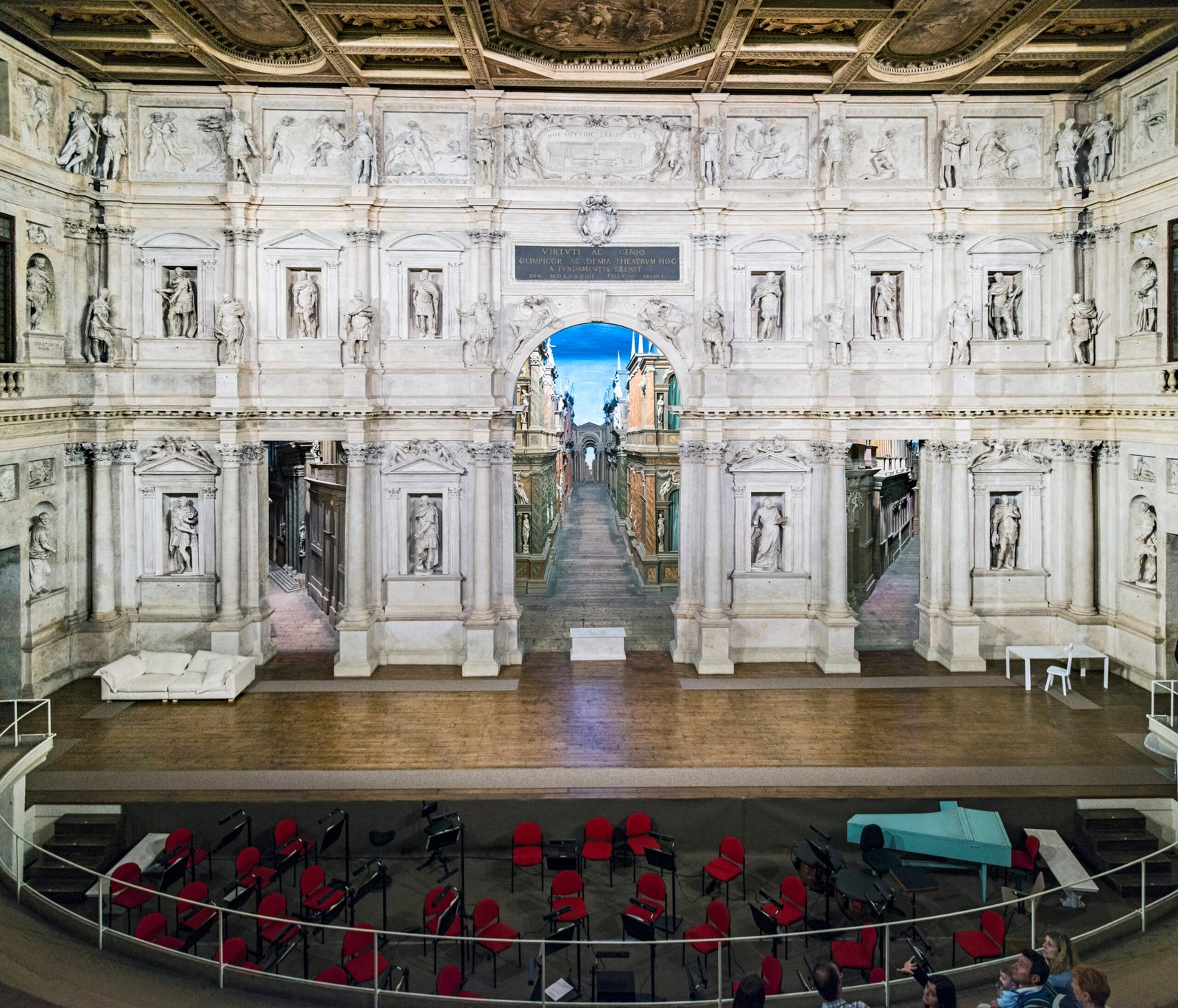
Уголино Пармский:
Филогения и Эпифеб (ок. 1430)
Это была одна из двух самых приятных пьес из пяти в данном томе, но и она, по сути, вовсе не кажется мне комедией. Наоборот, основная тема довольно печальна. Филогения — девушка, которую юноша по имени Эпифеб соблазняет и уговаривает бежать с ним. Со временем становится ясно, что они не смогут жить вместе вечно, не будучи разоблачёнными, и тогда Эпифеб находит крестьянина по имени Гобий, лжёт ему, будто девушка — девственница, и тем убеждает его жениться на ней. Одновременно он устраивает всё так, чтобы Филогения могла продолжать встречаться с ним и изменять мужу.
Возможно, проблема просто в том, что с тех пор нравы сильно изменились; как бы то ни было, конец пьесы не кажется мне особенно счастливым. Он скорее печален и грязноват. Не могу не пожалеть Филогению. Насколько можно понять, она из приличной городской семьи, а в итоге выходит замуж за глуповатого крестьянина — и всё это лишь потому, что беспринципный Эпифеб захотел немного развлечься с ней. Она, по сути, жертва — и Эпифебовых ухищрений, и ограничений, которые общество налагало на поведение женщин. На самом деле лишь с точки зрения подобного ограничительного патриархального порядка пьеса может казаться с «счастливым концом»: с этой позиции, ей, вероятно, повезло, что она вышла замуж за относительно приличного (хотя и туповатого) мужа, а не оказалась в монастыре, на костре или выброшенной на улицу, где её ждала бы судьба проститутки и нищенки. Но с современной точки зрения всё это выглядит скорее грустно и едва ли подходит под жанр комедии. Эпифеб — своего рода женоненавистник, по крайней мере по современным меркам. Он, похоже, считает, что если он любит женщину, то она обязана отвечать взаимностью (§1, с. 173), и вообще воспринимает отношения в духе противостояния: «Никто, или очень немногие, не может добиться от женщины желаемого, не будучи назойливым или не прибегая к постоянным ухищрениям» (§5, с. 177). К слову, он лжёт Гобию и о возрасте Филогении: говорит, что ей всего шестнадцать (§55, с. 237), тогда как сама она утверждает: «Мне уже двадцать» (§8, с. 181).
В §34 (с. 211) его друг Эмфоний высказывает весьма занятное предложение: «Всякий раз, когда встретишь женщину, отведи глаза, покажи, что не хочешь на неё смотреть, и презри её. Каждый мужчина должен поступать так со всякой женщиной, которую встретит. Конечно же, отсюда последует, что женщины, отчаявшиеся и взбешённые, охваченные гневом и похотью, без сомнения обезумеют от любви; они станут кувыркаться, чтобы вновь снискать наше расположение. […] Они будут следовать за нами куда бы мы ни пошли […] И когда столкнутся с нами, они схватят нас, как манну небесную». Тут, пожалуй, и добавить нечего — одно только представление этой картины [прим. тут была ссылка на сайт с мемами, но она уже не работает] стоит всех слов. Может быть, мне следует забрать свои жалобы на то, что это плохая комедия. Один этот абзац, должно быть, заставил людей упасть со стульев от смеха.
Ещё одно диковатое высказывание Эмфония, касающееся идеи Эпифеба выдать Филогению за Гобия (§44, с. 223): «Но если всё закончится удачно, как мы надеемся, тогда потом и другие девушки позволят нам делать с ними всё, что захочешь — ведь они будут знать, что мы способны найти мужей для своих любовниц после того, как насладимся ими. Все решат, что твой план благочестив и свят, и будут превозносить его до небес». Думаю, это должно быть безумно смешно, да? Потому что иначе это не имеет никакого смысла. Видимо, что-то не так с моим чувством юмора.
В пьесе есть и любопытные несогласованности. «Аргумент» (то есть краткое изложение сюжета в начале пьесы) говорит, что Эпифеб «безнадежно влюблён в Филогению», и в §1 он сам утверждает, что «всегда искренне любил эту девушку», но затем в §29 Эмфоний говорит о нём: «наш друг Эпифеб снова обесчестил девственницу». И заметьте, снова!!! Значит, он врёт в §1 — это понятно; но почему автор поддерживает его ложь в «аргументе»? Чтобы меня не обвинили в том, что я изображаю Филогению исключительно жертвой, надо признать: она не совсем лишена инициативы во всей этой истории. В §8 (с. 181) она произносит несколько красноречивых фраз, признающих женскую сексуальность: «Право же, как долго подобает держать под замком дома девицу, готовую к мужчине? До шестнадцати лет, я слышала? Мне уже двадцать — и это меня убивает. Я родилась из плоти и крови, как любая другая девушка; моё тело создано для любви, я не могу не испытывать желания. И чем сильнее природа склоняет нас к этому греху, тем больше он должен быть прощён». А в §42 (стр. 219–221) видно, что у неё были и другие, более благоразумные варианты, кроме бегства: «Какая глупость — уходить из дома среди ночи, бросив родителей, даже не попрощавшись. Конечно, я могла бы утолять свои желания и дома, как, я знаю, делают другие девушки моего возраста». Есть и довольно забавная сцена, где она исповедуется перед свадьбой (§71, сс. 257–259):
— «Отец мой, многие мужчины занимались со мной сексом».
— «И это случилось по твоей собственной воле?»
— «О нет, совсем нет! Меня прельстили ловкими речами […] я была наивна, как все мы, юные девушки. Вот почему мне пришлось удовлетворять похоть стольких мужчин».
— «Тогда это не грех […] если это было не по твоей воле, а из нужды, заставившей тебя на позорный поступок, говорю: ты невиновна».
— [про себя] «Ну, слава богу, я всегда могла утолить свою страсть, не делая ничего дурного!»
Интересно, что в §41 (с. 219) Филогения упоминает гипотетического мужчину, который «мнит себя героем-завоевателем, если, как говорится, ведёт список своих многочисленных подружек в своей маленькой чёрной книжке». Это меня заинтриговало — неужели в XV веке уже были «маленькие чёрные книжки»? Я-то думал, это относительно новое изобретение — просто записная книжка для номеров телефонов. Сначала я решил, что переводчик модернизировал оригинал, чтобы сделать текст ближе современному читателю; но потом посмотрел оригинал и, хотя латинского не знаю, не могу не заметить, что там тоже говорится о чём-то, записанном в книге: «et pro munere palmario sibi ducit si plures, ut aiunt, in codice descripsit». Эпифеб в §5 (с. 177) говорит: «Фортуна всегда благоволит смелым». Я всегда считал эту фразу цитатой из Вергилия, но впервые встретил её много лет назад в «Пятнадцатилетнем капитане» Жюля Верна. И к моему удивлению, примечание переводчика (с. 445) указывает, что это цитата из «Формиона» Теренция, 1.4.26. Я был поражён — почему бы не процитировать Вергилия, которого широко считают источником этой фразы? Но потом вспомнил, что Теренций жил более чем за сто лет до Вергилия. Интересно, что латинская форма фразы, кажется, все время немного меняется. В электронном тексте «Формиона» на Perseus встречается вариант «fortes Fortuna adiuvat» — «Фортуна помогает храбрым». Уголино в своем «Филогения и Эпифеб» пишет «fortibus fortuna semper favit» (с. 176). А у Вергилия в «Энеиде» (10.284) читается «audentis Fortuna iuvat».
Энеа Сильвио Пикколомини:
Хрисис (1444)
Это одна из самых коротких пьес в этом томе. В ней нет ничего особенно забавного, не говоря уж о смешном. Двое священников, Диофан и Теобол, — завсегдатаи двух куртизанок, Хрисис и Кассины, но, похоже, их задевает тот факт, что у девушек есть и другие любовники помимо них, а именно два юноши по имени Седулий и Харин. Сначала я думал, что девушки на самом деле испытывают симпатию к двум юношам (см., например, с. 289 и 303) и встречаются со священниками только ради денег; но в конце концов они признаются в настоящей любви к обоим священникам (с. 343), и обе пары воссоединяются для более или менее счастливого финала пьесы.
Здесь есть к чему придраться. Во-первых, сюжет кажется довольно слабым и каким-то хаотичным, с множеством незаконченных линий. Слишком многие персонажи остаются периферийными, появляются лишь в одной-двух сценах без достаточной связи с остальным действием. Во-вторых, читая пьесу, вы вряд ли будете хохотать от души; есть несколько (очень немного) мест, где можно улыбнуться, — и только. А это приводит к другой, ещё более серьёзной претензии: возможно, кто-то мог бы сказать, что в этой пьесе всё же есть юмор, но если и так, то это юмор очень, очень чёрного толка; можно рассматривать всю пьесу как одно большое, непрерывное издевательство над отвратительными пороками человеческой природы. Автор не упускает ни малейшей возможности подчеркнуть эти пороки и часто даже специально ищет повод, чтобы это сделать: например, если большая часть пьесы посвящена проблемам, порождённым жаждой секса и денег, автор всё же позаботился вставить две совершенно лишние сцены, где обжора-повар Артракс восхваляет свой аппетит к еде (сцены VII и XVI). Они полностью периферийны по отношению к остальной пьесе и их можно было бы выкинуть, не изменив ровным счётом ничего.
И в самом деле, вся пьеса — это один сплошной грязный каталог человеческих недостатков. В первой сцене Диофан самодовольно объясняет, как хорошо живётся ему и Теоболу как священникам («У нас есть богатство, ресурсы, роскошь; мы рождены лишь для того, чтобы есть и пить; мы можем спать и отдыхать столько, сколько захотим. Мы живём для себя; другие живут для других. […] Нам не нужно брать постоянную жену […] если возлюбленная нам нравится, мы возвращаемся к ней; если она нам не нравится, мы просто меняем курс», стр. 285). В третьей сцене Либифан и Пифия соглашаются, что ни мужчины, ни женщины никогда не бывают верны в браке (с. 295). В четвёртой сцене Харин восхваляет свой собственный гедонистический образ жизни, проводимый в полном пренебрежении ко всяким общественным или политическим вопросам. В пятой сцене мы видим Кантару — циничную старую сводню («Немного здоровой любви – дело хорошее […], но то, как эти двое воркуют и воркуют, просто отвратительно», с. 303) и страстную любительницу вина. В шестой сцене Теобол выражает мрачный взгляд на отношения между полами («Я знаю, как женщины действуют и думают: чего бы вы ни захотели, они не хотят, и наоборот», с. 311), а Диофан откровенно признаётся в похоти («Я могу лишить себя еды и питья, но не секса. Я хочу спать в объятиях моей Кассины, даже если от неё пахнет козой», с. 309). В восьмой сцене мы видим горькие жалобы Харина на любовь («только беспощадная пытка, дикая и ужасная […] Любовь – такая насмешка над моим разбитым разумом», с. 313). В десятой сцене обе куртизанки, Хрисис и Кассина, с цинизмом обсуждают свою привычку регулярно бросать любовников («Новый любовник хочет сразу же угодить тебе» и поэтому более щедр, стр. 319; «Кассина: «Ни один любовник не нравится мне дольше месяца; календы каждого месяца всегда приносят мне новых любовников». — Хрисида: «Ты слишком постоянна в своей любви! Лучше бы праздновать новые свадьбы в ноны и иды», стр. 321). Теобол и Диофан в нескольких эпизодах проявляют прискорбную степень мизогинии и презрения к проституткам (тем более нелепую, что они сами к тем же проституткам и ходят); см. стр. 307, 327, 329. Архименид добавляет собственный циничный монолог в сцене XIII. В пятнадцатой сцене Диофан, всё ещё сердясь на свою Кассину, создает одну из немногих по-настоящему смешных сцен в пьесе, описывая в мельчайших подробностях насилие, которое он хотел бы над ней учинить, прерывая его после каждой фразы совершенно льстивыми (и, несомненно, совершенно неискренними) выражениями одобрения раба Конгрио:
— Д.: “Хочу вырвать ей глаза.”
— К.: “Какая сила!”
— Д.: “Переломаю ей кости.”
— К.: “Так ей и надо.”
— Д.: “А если я решу отрезать ей нос?”
— К.: “Говорю тебе, делай.”
— Д.: “И уши тоже не пощажу.”
— К.: “Таких не стоит иметь с ушами.”» (с. 337).
Пьеса заканчивается ещё одним великолепным выпадом сарказма: «Знай, что мораль пьесы такова: будь добродетелен, держись подальше от куртизанок, сутенёров, паразитов и буйных пирушек.» (с. 347). Разумеется, всё остальное действие пьесы почти ничего не делает, чтобы внушить подобную мораль. В целом совершенно недобродетельные персонажи этой пьесы чувствуют себя вполне неплохо; и нельзя сказать, что им стало бы лучше, если бы они действительно выбрали путь добродетели. Запоминающаяся цитата из Архименида (сцена XIII, стихи 611–613, стр. 329): «Удовольствие — ничтожная вещь в жизни человека, а страдания долговечны. Скорбь всегда спутница наслаждения». Эта фраза достойна «зала славы пессимизма» — рядом с начальными строками «Береники» По («Страдание многообразно. Несчастье земли многоформно. Простираясь над широким горизонтом, как радуга, его краски столь же различны, как цвета того свода, — столь же отчётливы и столь же неразрывно смешаны»). Прекрасный образчик сарказма у Хрисис — в сцене, где Теобол и Диофан объявляют о намерении порвать отношения с ней и Кассиной: «Дело принимает серьёзный оборот. Что нам делать, Кассина? Если мы повесимся сейчас, всё пойдёт насмарку. […] Мы потратим деньги на верёвку и доставим удовольствие этим двоим, которые будут веселиться за наш счёт […]. Лучше продолжать жить и набивать животы. Это будет раздражать их куда больше, чем им хотелось бы думать» (с. 329).
В этой пьесе есть любопытное противоречие: на стр. 285 Седулий описан в списке действующих лиц как «молодой человек», но на стр. 291 его друг говорит ему: «Ты уже на закате лет». Правда, список персонажей составил переводчик, а не сам автор, так что, возможно, это просто ошибка переводчика. Так что же сказать об этой пьесе? Я далёк от того, чтобы жаловаться на чьё-то низкое мнение о человеческой природе — ведь я сам такого же мнения; но всё же столь неустанное подчеркивание этого, при почти полном отсутствии комического облегчения, делает эту «комедию» куда менее приятной для чтения, чем хотелось бы. (Кстати, автор впоследствии стал папой — забавно видеть, как будущий папа пишет пьесу о проститутках и их клиентах, причём пьесу, которая не делает ни малейшей попытки прямо морализировать или упомянуть религию. Полагаю, то, что такое было возможно, является одной из самых захватывающих особенностей эпохи Возрождения. Для сравнения: недавно умерший папа Иоанн Павел II тоже писал пьесы, но все они, похоже, куда более религиозны по духу).
Томмазо Меццо:
Эпирот (1483)
Думаю, это была моя любимая пьеса в этом томе — или, может быть, она делит первое место с «Филогенией и Эпифебом». В ней есть по крайней мере несколько действительно смешных сцен и подлинно счастливый финал. Клитифон и Антифила влюблены друг в друга, но не осмеливаются жениться, поскольку у неё нет приданого. Их планы ещё больше осложняются путаницей, связанной с другим Клитифоном — другом первого, носящим то же имя! Этот второй Клитифон встречается с проституткой, и из-за совпадения имён первый Клитифон на время оказывается обвинённым в этом. Однако истина раскрывается, и, более того, дядя Антифилы (тот самый Эпирот, то есть уроженец Эпира) возвращается домой после многих лет, проведённых за границей; оказывается, он довольно состоятельный человек и потому обеспечивает Антифиле приданое, благодаря чему она наконец может выйти замуж за Клитифона. Есть также побочная линия с участием старухи Памфилы, которая тоже влюблена в Клитифона; есть сцена, смешная или грустная — в зависимости от взгляда, — в которой она жалко пытается скрыть морщины под героическими слоями косметики. В конце она выходит замуж за дядю Антифилы. Есть и несколько забавных эпизодов, почти не связанных с основным сюжетом: в одном мы наблюдаем за работой шарлатана-врача, а в другом — за тем, как группа музыкантов ловко избегает расплатиться за ужин в трактире. В целом это было весьма приятное чтение; из пяти пьес в этом томе именно эта наиболее соответствует тому, как я представляю себе настоящую комедию.
Оказывается, латинское слово для обозначения старухи — anus :)) (с. 354). Согласно словарю Льюиса и Шорта на сайте Perseus, оно отличается от латинского слова anus («анус») только долготой гласного a. Но судя по этимологиям, приведённым в этом словаре, сходство этих двух слов, вероятно, чисто случайное. Дядя из Эпира произносит любопытную фразу на стр. 409: «Dramburi te clofto goglie». В примечании переводчика на стр. 450 говорится, что по мнению Людвига Брауна, редактора немецкого издания этой пьесы, эта фраза — албанская и значит: «Пожалуйста, закрой рот!». Браун указывает на параллель с «Пунийцем» Плавта, где персонаж по имени Ганнон несколько раз говорит на своём родном пунийском языке. Это вполне логично, ведь Эпир частично совпадает с территорией современной Албании, и язык, родственный албанскому, вероятно, уже использовался там в древности. Впрочем, я нашёл эту фразу, цитируемую на нескольких албанских сайтах, всегда со ссылкой именно на эту пьесу Меццо. Согласно Википедии, самые древние дошедшие до нас тексты на албанском датируются 1462 годом; следовательно, фраза из «Эпирота», впервые напечатанного в 1483 году, является одним из самых ранних засвидетельствованных фрагментов албанского языка. И в любом случае, звучит она просто великолепно; жаль, что Данте не знал албанского — «Dramburi te clofto goglie» прекрасно бы вписалась рядом с «Raphèl maì amècche zabì almi» (Ад, XXXI, 67) и «Pape Satàn, pape Satàn aleppe» (Ад, VII, 1). 🙂
Разное
В этой книге необычно много опечаток, например: «goard» (вместо «gourd», стр. 123), «these deed» (стр. 157), «I can’t help» (стр. 181), а также пропущенные точки на стр. 215, 267, 273 и 429. Во многих книгах переводы с латыни, кажется, имеют некоторую тенденцию к чопорности; поэтому переводчик этой книги заслуживает похвалы за доблестные усилия использовать более разговорный тон во многих частях этих пьес.
«I came in to sow some wild oats. […] Or rather, I came on a panty-raid.» (Паулус, с. 33) — «Я пришел, чтобы посеять немного дикого овса. […] Или, скорее, я пришел с набегом на трусики»;
«Меня назначат цензором столовой: я буду либо главным по еде, либо генералом кувшинов» (Филодокс, стр. 137);
«Oh, come off it!» (Филодокс, с. 163) — «Да брось ты!».
«В более широком смысле можно сказать, что поскольку комедия всегда противопоставляет тех, кто находится в тисках условностей, тем, кто желает любви и процветания (bene esse), она всегда будет глубже отзываться в сердцах людей, живущих во времена политического авторитаризма и строгих социальных норм» (Введение переводчика, с. ix.). Я согласен с этим определением комедии, но при этом не могу отделаться от мысли, что несколько пьес из этого тома едва ли можно вообще назвать комедиями. «Ещё в X веке Хротсвита, монахиня из Гандерсхайма, переписала на латыни пьесы Теренция, “заменив столь многочисленные кровосмесительные пороки женской похоти целомудренными деяниями святых дев”» (Предисловие переводчика, стр. ix. Цитата, по-видимому, взята (стр. xxviii) из предисловия к сочинениям Хротсвиты в Patrologia Latina, т. 137.) Две мысли: (1) Похоже, мне придётся почитать Теренция 🙂 (2) Похоже, мне пора завести список великолепно нелепых имён средневековых монахинь. Хротсвита почти так же хороша, как Остреберта, и определённо лучше, чем Веребурга. В предисловии переводчика есть еще несколько интересных отрывков.
Заключение
Боюсь, что начинаю повторяться, как заезженная пластинка
