
Автор текста: Стивен Томлинсон (Университет Алабамы)
Написано в 2005 году.
Оригинал на английском языке можно скачать — по ссылке.
«Весть в последнем письме месье де Лафайета о том, что ваше зрение улучшилось, внушает мне надежду, что вы сможете завершить ваш последний труд и завершить идеологический круг, в котором вы столь успешно и счастливо продвинулись. Я надеюсь на это ради блага дитя моей старости — Университета Вирджинии… Его несчастье состоит в том, что тождество языка ограничит выбор профессоров странами, говорящими на нашем языке. Но именно ваша наука должна будет проникнуть сквозь эту преграду».
— Томас Джефферсон — Дестюту де Траси, 5 ноября 1823 года
В своём предисловии 1957 года к книге «Живые мысли Томаса Джефферсона» Джон Дьюи утверждал, что французская политическая философия имела лишь незначительное влияние на Джефферсона (Dewey, 1957). За исключением, быть может, законов, регулирующих наследование собственности, Дьюи настаивал на том, что «каждая из характерных политических идей Джефферсона… была им чётко сформулирована ещё до» того, как он летом 1784 года принял пост американского посланника в Париже (Dewey, 1957, с. 23). Сочинённые в 1781-1782 годах «Заметки о Виргинии» (Jefferson, 1984) подтверждают правоту Дьюи: отвечая на вопросы французской делегации в Филадельфии, Джефферсон внёс вклад в статистическое обследование Америки, представив широкий обзор географических, экономических, социальных и политических условий жизни в штате, ясно демонстрируя преемственность своих ранних и позднейших взглядов.
Широта научных познаний Джефферсона, его классическая образованность и красноречивая защита либеральных идеалов — включая доктрину естественных прав и разделения церкви и государства — были немедленно оценены философами Просвещения (Ellis, 1998). Однако, несмотря на обсуждение истории и государственного устройства с Филиппо Маццей, природы видов — с Бюффоном, а расовых вопросов — с Кондорсе, Джефферсон всегда сохранял как интеллектуальную, так и социальную дистанцию между собой и французскими учёными. Потрясённый парижской моралью — а, возможно, и собственными страстями, вышедшими из-под контроля — он не смог подражать эксцентричному Франклину. Из всех обществ, которые он посещал, вероятно, наиболее комфортно он чувствовал себя в салоне мадам Гельвеций. В Отёе, месте встреч Кондильяка, Дидро, Д’Аламбера и Гольбаха, в 1780-х годах собирались материалистические философы и либеральные политические теоретики. Именно здесь застенчивый и замкнутый вирджинец завязал самые тесные связи с Пьером Кабанисом, Пьером де Ла Рошем (редактором собрания сочинений Гельвеция) и экономическим теоретиком Пьером Самюэлем Дюпоном де Немуром. Воспитанный на трудах Локка, Шефтсбери, Болингброка, Хатчинсона и Кеймса, Джефферсон, безусловно, проявлял сочувствие к политическим и эпистемологическим дискуссиям, проходившим в салоне. Но он не стал принимать нового учителя. Отвергнув радикальные выводы сенсуализма, он вернулся домой, по-прежнему прочно укоренённым в философии морального чувства шотландской школы и вигской политической мысли, усвоенной им в юности. И только в последние два десятилетия жизни, после ухода с поста президента, Джефферсон увлёкся трудами Дестюта де Траси и стал пропагандистом Идеологии в Америке. Таким образом, Дьюи и другие комментаторы всё же несколько заблуждаются, утверждая, что если между двумя нациями и существовала линия влияния, то, несомненно, она шла от Америки к Франции; ведь, как будет показано в этой главе, материалистические труды Траси — особенно его тексты по экономике, политике, религии и народному образованию — дали мощное философское обоснование зрелому видению Джефферсона о добродетельной республике (Adams, 1997). Как он заявил в 1820 году, после учреждения кафедры Идеологии в Университете Вирджинии, труды Траси непременно «станут у нас Настольной книгой Государственного деятеля» (Chinard, 1925, с. 203).
Улучшение расы
Образовательные предложения Джефферсона изложены в Вопросе 14 «Заметок о Виргинии», сразу после его размышлений о расе — уместное расположение, учитывая его взгляды на совершенствование человеческой природы и тот факт, что 40% населения штата находились под гнётом рабства. Это авторитетное изложение физических, моральных и интеллектуальных способностей красных, белых и чёрных народов Нового Света сформировало рамки дискуссий об эмансипации и обучении афроамериканцев на последующие семьдесят пять лет (Winthrop, 1968). Оно стало узлом юридических и научных споров о принадлежности к человеческому виду, статусе мулатов, связи между климатом и расой, а также последствиях социальной интеграции — вопросов, с которыми Самуэлю Гридли Хау пришлось примирить вигскую политическую идеологию при создании основного документа Бюро вольноотпущенников США (Tomlinson, 2005).
Джефферсон начал своё обсуждение человеческого совершенствования с пояснения того, как штат Виргиния пересмотрел колониальные законы в духе новой республики. Наиболее значимым среди этих изменений, вопреки утверждению Дьюи, была поправка к правилам наследования, устанавливающая, что «земля любого человека, умершего без завещания, должна быть разделена поровну между всеми его детьми», а также закон, направленный на то, «чтобы утвердить религиозную свободу на самой широкой основе» (Jefferson, 1984, с. 263). Хотя он ещё не был внесён в законодательное собрание, Джефферсон также отметил, что был подготовлен проект резолюции об освобождении рабов штата, их колонизации в какой-либо отдалённой земле и привлечении белых рабочих на замену. «Вероятно, спросят», продолжал он, «почему бы не оставить и не включить чернокожих в состав штата, тем самым сэкономив расходы на завоз белых поселенцев, которые заняли бы оставленные ими ниши?» (Jefferson, 1984, с. 264). Он отвечал двумя раздельными аргументами: глубоко укоренившимися социальными предрассудками белых и основополагающими «различиями, которые установила природа» между расами. Перечислив ряд физиологических отличий — цвет кожи, структура волос, потоотделение, объём лёгких, привычки сна (все они, по его мнению, имели моральное значение), — он перешёл к интеллектуальным способностям чернокожих. В отличие от индейцев, которые создавали искусство и «поражали речами возвышенного красноречия, доказывающими силу разума и чувства, пылкость и возвышенность воображения», африканец, по его мнению, не знал ничего о рисунке и создавал лишь примитивную музыку (Jefferson, 1984, с. 266). Даже литературные труды образованных чернокожих были, по его словам, незрелыми. Их воображение, заключал он, было «тупым, безвкусным и аномальным» (там же). Если «в памяти» они были «равны белым, то в рассудке [они] значительно уступали» (там же). Можно ли объяснить такие различия суровыми условиями их порабощения? По-видимому, нет. Несмотря на ещё более тяжёлые условия, античный мир свидетельствовал о достижениях белых рабов. «Несчастье, — размышлял Джефферсон, — часто рождает самые пронзительные строки поэзии» (Jefferson, 1984, с. 269). «Среди чернокожих достаточно страданий, Бог свидетель, но нет поэзии» (там же). В любом случае, настаивал он, общеизвестное «улучшение чернокожих в теле и разуме при первом смешении с белыми было замечено каждым и доказывает, что их неполноценность — не просто результат их жизненных условий» (там же). Он предположил, «лишь как гипотезу, что чернокожие, будь то изначально отдельная раса или ставшие таковыми в силу времени и обстоятельств, уступают белым в способностях как телесных, так и умственных» (Jefferson, 1984, с. 267). «Неужели любитель естественной истории, — спрашивал он, — тот, кто философски наблюдает градации среди всех видов животных, не оправдает стремление сохранить и в пределах рода человеческого те различия, которые установила природа?» (там же). Речь шла о сохранении чистоты белой расы. «У римлян, — отмечал он, — для освобождения требовалось одно усилие: раб, став свободным, мог смешаться с обществом, не запятнав крови своего хозяина. У нас же необходимо второе усилие, не известное истории: освободив его, надо удалить за пределы возможного смешения» (Jefferson, 1984, с. 270). Разрываясь между моралью и практикой, он был готов приложить все усилия, чтобы подготовить освобождённых рабов к независимой жизни — «отправив их в далёкую страну с оружием, домашней утварью, ремесленными инструментами, семенами, парами полезных животных и т.д.» — но при этом совершенно не оставлял надежды на образование для чернокожих в Виргинии (Jefferson, 1984, с. 264).
Для белых граждан, однако, образование было неотъемлемой частью политических принципов Джефферсона. Он даже утверждал, что его законопроект 1779 года О более всеобщем распространении знаний «был самым важным во всём нашем законодательном кодексе», поскольку в случае принятия он завершал бы комплекс законов против майората, entails и за отделение церкви от государства (Padover, 1952, с. 70). Как учил Монтескьё, он понимал, что во всех обществах таится коррупция и что необходимо политическое устройство, препятствующее разложению правительства. Но вместо восхваляемой британской системы «сдержек и противовесов» Джефферсон верил в представительную форму правления и здравый смысл простого народа, способного избирать мудрых и добродетельных лидеров — точнее, представителей, которые уже выберут этих лидеров. «После того как мы подавили аристократию духовенства» и «взрастили равенство условий» в обществе, — говорил он впоследствии Джону Адамсу, — «образование подняло бы массу народа на такую высоту морального уважения, которая необходима для их собственной безопасности и для упорядоченного правления; и тем самым завершило бы великую задачу — дать им способность избирать истинную аристои для государственной службы» (Jefferson, 1959, II: 390). Таким образом, образование в Виргинии по Джефферсону должно было включать два компонента: формирование грамотного населения, способного делать осознанный выбор, и подготовку моральной и интеллектуальной элиты.
Тогда как Адамс видел в главной цели государственного управления — контроль над страстями, Джефферсон полагался на основополагающее моральное чувство, общее для всех мужчин и женщин. Совесть, писал он своему племяннику Питеру Карру, является столь же неотъемлемой частью человеческой природы, «как чувство слуха, зрения, осязания» (Jefferson, 1984, с. 901). Хотя она дана людям в большей или меньшей степени,
…её можно укрепить с помощью упражнения, как и любую конкретную часть тела. Это чувство в известной мере подчинено направляющей роли разума; но для этого требуется совсем немного разума: даже меньше, чем того, что мы называем здравым смыслом. Изложи моральный случай пахарю и профессору. Первый рассудит его не хуже, а порой и лучше второго — потому что его не сбили с пути искусственные правила. (Jefferson, 1984, с. 901–902)
Вооружённые этим пониманием и базовыми знаниями о природном и социальном мирах, сами граждане могли бы обеспечить моральную основу добродетельного общества. С этой целью Джефферсон предложил систему бесплатного образования для всех (белых) детей. В пределах каждого округа (в миниатюрной республике площадью в пять квадратных миль) предполагалось строительство школ и наём учителя, который давал бы трёхлетний курс чтения, письма и арифметики, а также уроки по принципам гражданской добродетели и республиканского правления. Изучение Библии — слишком сложной для незрелого ума — должно было быть заменено «полезными фактами из истории Греции, Рима, Европы и Америки», которые обучали бы сущностным чертам человеческой природы и основным иерархическим структурам хорошего общества (Jefferson, 1984, с. 273).
По мере укрепления разума эти знания позволяли бы каждому гражданину «достичь собственного наивысшего счастья, показывая ему, что оно не зависит от положения в жизни, куда его поместил случай, но всегда является результатом доброй совести, хорошего здоровья, занятия делом и свободы в любом справедливом начинании» (Jefferson, 1984, с. 273). Таким образом, великая концепция Джефферсона о политическом сообществе, поддерживаемом через общественное образование, сильно отличалась от формы зарождающейся демократии, лежащей в основе образовательной философии Дьюи: прогресс и стабильность достигались бы не через веру в коллективный разум и совместное решение проблем, а через уважение к мудрым и благородным лидерам.
Второй заботой Джефферсона была селекция и воспитание элиты. Осознавая этические проблемы евгенического проектирования — «ведь опыт показывает, что моральные и физические качества человека, будь они хорошими или дурными, в определённой степени передаются от отца к сыну», — он довольствовался существованием «случайной аристории, порождённой случайным сочетанием производителей» (Jefferson, 1959, с. 388). Эта аристория, писал он Адамсу, — «наипрекраснейший дар природы для обучения, управления и хранения государственных поручений в обществе» (там же). Исходя из этого, он предложил революционную схему отбора и подготовки своей естественной аристократии. Каждый год школьные попечители отбирали бы лучшего ученика и, за счёт общественных средств, направляли его в одну из двадцати грамматических школ, организованных по всему штату. После одного или двух лет обучения «греческому и латинскому языкам, географии и высшей арифметике», наиболее способные из них выбирались бы для продолжения обучения ещё на четыре года. Таким образом, утверждал Джефферсон, «ежегодно из груды мусора будут извлекаться двадцать лучших гениев» (Jefferson, 1984, с. 272). Наконец, по завершении их образования, «одна половина подлежит отчислению (из них, вероятно, будут рекрутироваться будущие учителя для грамматических школ); а вторая половина — те, кто будет выбран за превосходство способностей и характера — направляется и продолжает в течение трёх лет изучение тех наук, которые они выберут, в колледже Вильгельма и Марии» (там же).
Заключительная часть этой схемы требовала радикальной перестройки альма-матер Джефферсона. Как утверждалось в Законопроекте № 80 об изменении устава колледжа Вильгельма и Марии, первоначальная миссия учреждения — подготовка англиканских священников — должна была уступить место гражданским потребностям народа. Это предполагало замену латинского, греческого и богословия на более светскую и научную учебную программу. Древние языки, жаловался он в Заметках, «наполняли колледж детьми» (Jefferson, 1984, с. 277). Ограничив такие подготовительные навыки предыдущим уровнем образования, можно было бы основать профессиональные школы права, медицины и государственного управления, которые заменили бы традиционное обучение на практике знанием принципов, управляющих человеческой природой.
Хотя законодательное собрание не одобрило Законопроект № 80, в 1779 году, когда Джефферсон, будучи губернатором, стал попечителем колледжа, он сумел внедрить отдельные элементы своего плана. Под его руководством учебная программа была перестроена вокруг профессур в области: права и полиции; анатомии и медицины; естественной философии и математики; моральной философии, естественного права и права народов, а также изящных искусств; и современных языков. В Заметках он выражал надежду, что вскоре будут профинансированы и другие кафедры, специализирующиеся в области наук. Однако устав колледжа, нехватка средств и его всё более выраженная изоляция от политического центра штата препятствовали реализации целей Джефферсона. К 1800 году он отказался от идеи преобразования колледжа Вильгельма и Марии. Виргинии, как он теперь понимал, нужен был новый государственный университет, способный подготовить будущих лидеров и предложить Югу альтернативу тому, что он считал пагубным влиянием образования Новой Англии. Разочарование Джефферсона вызывало и нежелание законодательного собрания финансировать общественные школы. В 1796 году была принята сильно ослабленная версия Законопроекта № 79, но, как объяснял он в своей Автобиографии, когда стало ясно, что налоги на образование «возложат на богатых обязанность обучать бедных… состоятельный класс не захотел нести это бремя», и в результате школьное обучение «не началось ни в одном округе» (Jefferson, 1984, с. 43).
Когда государственные обязанности привлекли внимание Джефферсона к национальной арене, он начал разрабатывать несколько схем по созданию системы образования для всей страны. В 1794 году, например, он исследовал возможность основания национального университета с участием эмигрантских преподавателей из Женевского университета. Позже, уже в должности президента, он поручил Дюпон де Немуру разработать систему народного образования и поддержал проект Джоэла Барлоу по созданию национального университета и Института просвещения по французскому образцу. Ни одно из этих предложений не получило поддержки в Конгрессе; по всей видимости, сам Джефферсон испытывал сомнения по поводу федерального контроля над знанием. Таким образом, лишь вернувшись в Монтичелло в 1810-1820-х годах, он с полной энергией посвятил себя делу образовательной реформы, вновь выдвинув трёхуровневую систему народного образования, описанную в законопроектах № 79 и 80. Только теперь, под влиянием философии и общественных наук Идеологов, его первоначальный план был укреплён политической философией Траси, который в преддверии прихода Наполеона сыграл ключевую роль в создании аналогичной системы образования во Франции.
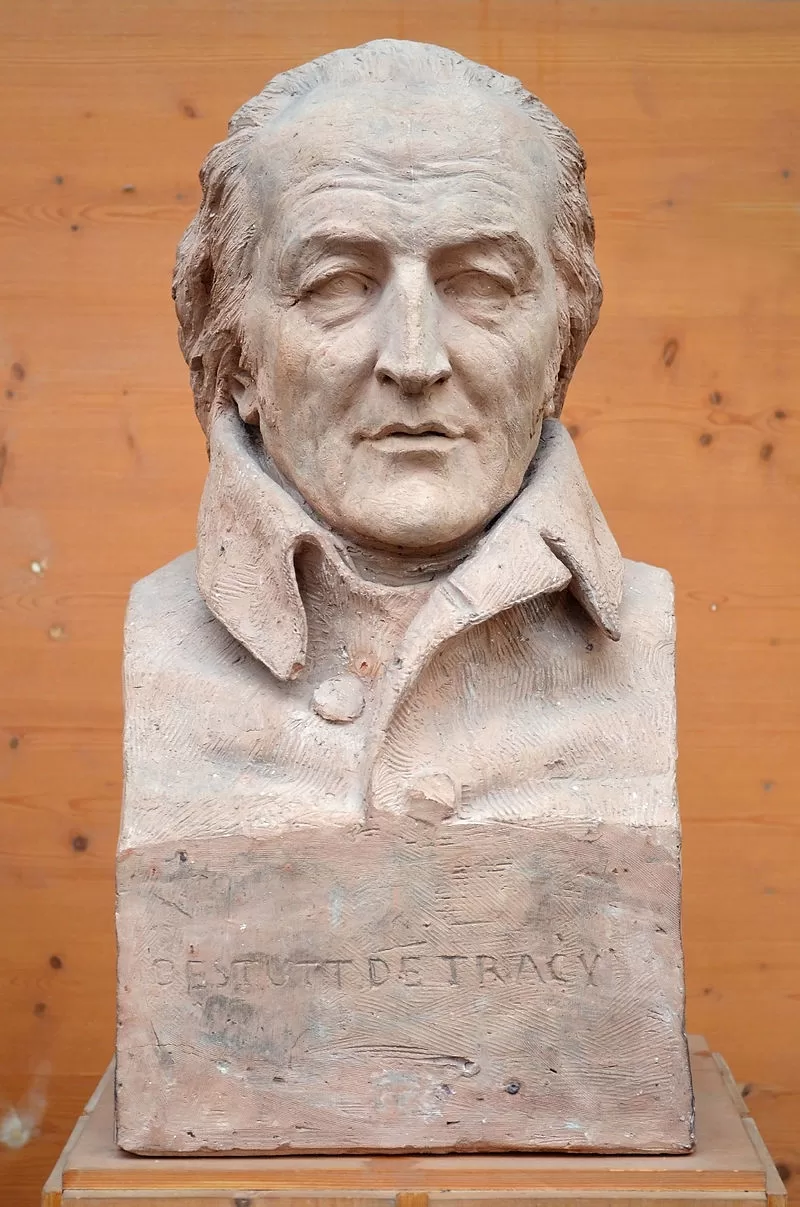
Дестют де Траси
Когда после якобинского террора Сийес, Гара, Вольней и многие другие либеральные реформаторы, собиравшиеся в салоне мадам Гельвеций, пришли к власти в период Директории (1795-1799), они обратились к моральной философии и дисциплинарной педагогике, набросанной Кабанисом, как к средству установления порядка и стабильности в новой республике. Государственная политика должна была основываться на «науке о человеке» — том, что впоследствии получит название «социальная наука». Это зарождающееся движение обрело политическую и философскую направленность в 1796 году, когда друг Кабаниса Дестют де Траси был избран в секцию, посвящённую анализу ощущений и идей, при только что созданном Национальном институте. Именно Траси изложил политическую программу, вытекающую из этой физиологически обоснованной сенсуалистской эпистемологии, и ввёл злополучный неологизм — идеология.
Молодой сторонник Американской республики и либеральных реформ Тюрго, Антуан Луи Клод, граф Дестют де Траси, горячо поддержал революционные призывы к расширению представительства Третьего сословия. В качестве делегата дворянства Бурбонне в Национальном собрании (1789-1791) он выступал в поддержку Декларации прав человека и гражданина, ратовал за отмену рабства во французских колониях и решительно поддерживал антиклерикальное законодательство. Вместе с Кабанисом, Дюпон де Немуром, Талейраном, Гара, Сийесом, Кондорсе и другими выдающимися интеллектуалами, собиравшимися в Обществе 1789 года (Société de 1789), он мечтал о научно просвещённом представительном правлении, способном избежать радикального уравнительства демократов. Больше всего Траси тревожило нарастающее недовольство в армии. В качестве полковника под началом Лафайета (впоследствии ставшего его сватом) он пытался сохранить дисциплину на фоне радикальных нападок на сословные привилегии. После ареста короля и бегства Лафайета в Бельгию Траси подал в отставку и удалился в Отёй, где, вдали от публики, проводил время в обществе Кондорсе и Кабаниса. Но его аристократическое происхождение оказалось неприемлемым для якобинцев. Он был арестован и провёл одиннадцать месяцев в тюрьме, избежав гильотины лишь благодаря падению Робеспьера. Именно в заключении он погрузился в труды Кондильяка и других философов, которые впоследствии легли в основу идеологии — дословно, «науки об идеях».
Подобно эпистемологическим и поведенческим теориям логических позитивистов, Траси полагал, что надёжный фундамент для знания может быть выстроен путём аккуратной сборки идей из базовых элементов чувственного опыта: мышление должно идти от простого к сложному, ступенями, которые ясны внимательному разуму. Однако в отличие от Кондильяка, Траси не рассматривал психические способности как сумму ощущений, а, вслед за Кабанисом, понимал их как базовые реакции человеческого организма. Восприятие, память, суждение и стремление — всё это функции мозга, нервной системы и телесного темперамента. В конечном счёте, идеология была частью зоологии. Но она также предполагала наличие рациональных законов разума и поведения. Объединяя анализ знаков у Кондильяка с умеренным утилитаризмом, Траси показывал, как можно сконструировать социальные и моральные нормы, способствующие счастью. Ключ к человеческому благополучию заключался в создании политического порядка, который бы надлежащим образом регулировал желания, поощряя добродетель и наказывая порок. Ибо, хотя прямое обучение моральным принципам может повлиять на поведение более философских умов, обычный человек мало усваивает из школьных занятий или катехизиса: истинными учителями человечества являются законодатель и закон. Отвергая концепцию моральной интуиции, Траси настаивал, что даже самые элементарные представления о добре и зле приобретаются лишь в процессе социализации — в семье и других культурных институтах. Следовательно, политическим лидерам надлежит проектировать такие общественные и частные практики, которые формируют правильные привычки и обучают население фундаментальной связи между разумом, добродетелью и счастьем. Это включало в себя развитие экономики, поддерживающей мелкое производство и устраняющей долги, спекуляцию и пороки чрезмерного богатства; отмену майората; а также устранение влияния духовенства на гражданские институты.
Политическая экономия находилась в самом центре системы Траси. Основанная на его представлении о человеческом благополучии, производительная деятельность должна была измеряться «благами», способствующими полному и гармоничному развитию способностей. Следуя Жану-Батисту Сэю, он отвергал предпосылку физиократов о том, что богатство определяется исключительно сельскохозяйственным производством. Так, по мнению Дюпон де Немура, промышленность и торговля вносили лишь незначительный вклад в производство полезных благ: ключом к процветанию было просто повышение эффективности земледелия. Характеризуя усилия буржуазии как бесплодные, он предлагал развивать экономику через усовершенствование аграрных технологий и централизованную монархию, способную координировать производство и распределение продовольствия. Сэй считал такой аграрный акцент слишком узким. Промышленный и торговый классы также участвовали в производстве орудий труда, продуктов питания и других материалов, составляющих богатство нации. Ценность, отражающая человеческие потребности, наилучшим образом измеряется рынком. С этим соглашался и Траси. Бесплодными были не средние классы, а землевладельцы, жившие в роскоши за счёт крестьянского труда. В экономической системе Траси действовали три главных субъекта: учёный (savant), обученный пониманию научных принципов, управляющих природой и обществом; рабочий, обеспечивающий физическую силу, необходимую для производства; и предприниматель, вкладывающий капитал для реализации общественно полезных начинаний. Признавая неравенства, заложенные в этой системе взаимодействия денег, разума и труда, он настаивал на том, что интересы каждого класса лучше всего удовлетворяются через развитие их способностей в той роли, в какую их поместила судьба — подобно тому, как утверждал Джефферсон в своих Заметках. Умеренная индустриализация не повредит рабочему: деньги, сэкономленные в одной области, позволяют инвестировать в другую и создавать новые рабочие места. Основной задачей было противодействие неконтролируемому капитализму и грубому неравенству, которое он порождал. Однако Траси надеялся, что в более либеральном государстве владельцы собственности поймут: хорошо оплаченный и обученный работник выгоден для всех. И при представительской форме правления, установленной в Америке, образованные рабочие будут способны оценить важность избрания добродетельных лидеров, действующих в интересах общего блага, а не узкого класса.
Действительно, республиканизм Джефферсона, по-видимому, послужил своего рода образцом для политической теории Траси. В своём Критическом разборе «Духа законов» Монтескьё (написанном в 1805-1806 годах, когда Наполеон укреплял власть и лишал Идеологов политического влияния) Траси защищал представительное правление как современное решение проблемы справедливого общества (Tracy, 1969). Монтескьё выделял три основные формы правления (республику, монархию и деспотию) и исследовал те чувства, которые каждая из них должна вызывать для сохранения власти над народом. Однако, по мнению Траси, такое деление не вскрывает реальных границ политического мира. Он предлагал классифицировать правительства не по способу сохранения власти, а по тому, содействуют ли они общему благу или частным интересам. И вместо того чтобы анализировать, как правительства удерживают власть, гораздо важнее, считал он, рассматривать, как они распространяют знания ради общего или частного блага. Как писал Монтескьё, только «те правительства, которые основаны на разуме, могут желать, чтобы образование было свободным от предрассудков» (Tracy, 1969, iv). «В наследственной монархии, — пояснял Траси, — принц должен внушать и распространять максимы пассивного повиновения и глубокого почтения к установленным формам» (там же). Должно поощряться «неприятие духа нововведений, исследования и обсуждения политических принципов» (там же). И «прежде всего, — продолжал Траси, — он должен использовать религиозные идеи, которые, овладевая умом с колыбели, оставляют прочные и глубокие впечатления, формируют привычки и закрепляют убеждения задолго до наступления возраста размышлений» (там же). Напротив, в республике, где правительство боится «заблуждений и предрассудков», оно должно «постоянно заботиться о распространении точных и прочных знаний всех видов» и
предотвращать, чтобы бедный класс не стал развращённым, невежественным или несчастным; чтобы богатый класс не стал высокомерным и падким на ложные знания; и стремиться привести оба класса к той средней точке, в которой естественным образом утверждаются любовь к порядку, трудолюбию, справедливости и разуму.
(Tracy, 1969, iv: 0)
Траси получил мощное оружие в своей борьбе против господства Церкви с публикацией двенадцати-томного труда Шарля Дюпюи — «Происхождение всех форм религиозного поклонения» (Origine de tous les cultes religieux, 1795). Как резюмировал Траси в своем анонимном Анализе, все мировые религии, включая христианство, могут быть сведены к мифам природы, аллегорическим повествованиям и метафизическим конструкциям, призванным объяснить неведомые силы, управляющие событиями. Особенно опасным, по его мнению, было жречество, создававшее замысловатые богословские конструкции, чтобы оправдать спиритуализацию природы и заглушить разумное исследование. Вместо того чтобы возвышать народ, учить, что счастье и добродетель идут рука об руку, оно стремилось сохранять социальные привилегии путём распространения суеверия и страха. В 1799 году у Траси появилась возможность исправить это зло и изложить собственное видение разумного и морального общества. Будучи избранным в Совет народного просвещения, он направил все силы на создание элитных школ для будущих лидеров, будучи убеждён, что класс научно образованных мыслителей сможет выработать такие институциональные практики, правовые установления и народные обычаи, которые приведут к совершенствованию интеллектуальных и моральных способностей масс.
Правительство Разума
Одним из главных столпов Конституции, принятой Национальным собранием, была приверженность образованию всех граждан. После отмены десятины и налогов, поддерживавших религиозные школы, национализации церковного имущества и закрытия традиционных университетов, Собрание приступило к созданию системы государственного образования, свободной от церковного контроля. Это означало радикальный пересмотр латинской, ориентированной на религию, учебной программы, поддерживаемой Церковью, в соответствии с теориями разума и светской этики, выдвинутыми мыслителями Просвещения. Однако, несмотря на ясность политических целей и философии образования, революционные законодатели столкнулись с трудностями при проработке деталей. Философы не оставили готовых чертежей, и не существовало ни одной национальной системы школьного образования, на которую можно было бы опереться. Следует ли всем детям учиться за пределами начального уровня? Следует ли взимать плату? Кто должен контролировать образование — государственные или местные органы? Здания, парты, книги, учителя — всё вызывало споры. Неудивительно, что за первые два года Республики было представлено более двадцати различных проектов. Наибольшее влияние оказали предложения Мирабо (автором и издателем которых выступил Кабанис) и Талейрана (1791), оба из которых предлагали четырёхуровневую систему, включающую начальные и средние школы, технические колледжи или лицеи (взамен университетов), и Национальный институт.
Для рассмотрения этих проектов короткоживущее Законодательное собрание (1791-1792) назначило Комитет народного просвещения под председательством Кондорсе, который за год до этого вызвал широкий общественный отклик серией из пяти меморандумов о необходимости образования для будущего Республики. Доклад Кондорсе «Общая организация народного просвещения» сохранил ту же основную структуру, но развил более эгалитарную философию (Palmer, 1985, с. 124-129). При этом он не поддерживал уравнительных предложений Робеспьера, который в 1793 году выступал за создание национальной сети интернатов — Домов равенства (Maisons d’Égalités), где дети от 5 до 12 лет воспитывались бы без различий по происхождению. Цель Кондорсе заключалась лишь в том, чтобы устранить резкие неравенства в образовании, лежавшие в основе политического угнетения старого режима (Ancien Régime). Подробностями его проект был схож с предложением Джефферсона, но включал два дополнительных уровня: начальные школы для бесплатного обучения широких масс, средние школы со стипендиями для способных бедных учеников, окружные грамматические школы и лицеи. Наконец, над всеми этими уровнями стояло бы Национальное общество, разделённое на классы по математике и физике, моральным и политическим наукам, прикладным наукам, литературе и изящным искусствам.
Однако момент, выбранный Кондорсе, оказался крайне неудачным. До того как какие-либо меры были приняты, Собрание переключило внимание на угрозу со стороны австро-прусского альянса, и весь энтузиазм по поводу реформ образования был сметён волной патриотизма. Лишь к концу 1794 года, с приходом к власти Идеологов, Национальный конвент (1792-1795) наконец начал действовать. Годы между тем были отмечены казнью Людовика XVI (декабрь 1792) и якобинским террором (сентябрь 1792 – июнь 1794), что привело к опустошению культурной жизни. Школы, университеты, научные общества были закрыты, а многие выдающиеся интеллектуалы и общественные деятели, включая Кондорсе (который избежал гильотины, выпив яд, переданный ему Кабанисом), были казнены или изгнаны. Теперь на первый план вышла потребность в порядке, а не в равенстве. С точки зрения Идеологов, школа должна была стать средством установления светской морали, необходимой для стабильного республиканского правления, а также восстановить статус Франции как ведущего центра науки и искусства. Комиссия по народному просвещению вновь была призвана выработать рекомендации. На этот раз под руководством Гара, Жозеф Ланакаль подготовил ряд докладов, в которых предложил внести поправки в схему Кондорсе в духе усиливающихся анти-демократических настроений. В итоге на основе этих предложений была принята серия законодательных актов, важнейшим из которых стал Закон 3 Брюмера (25 октября 1795 года) Пьера Дону. Он учредил комплексную, пусть и иерархическую, систему образования, которая сохранялась вплоть до реорганизации французского школьного дела Наполеоном в 1802 году и Национального института в 1803 году.
Закон Дону требовал, чтобы в каждом кантоне находилась как минимум одна начальная школа с платой за обучение, а в каждом департаменте — была учреждена école centrale, центральная школа как центр обучения и образовательной активности. В отличие от средних школ, задуманных Кондорсе, эти учреждения не предназначались для продолжения начального образования, а были отдельными элитными академиями для учеников старше двенадцати лет, желающих подготовиться к высшему образованию или карьере на государственной службе. Более того, в противоположность более радикальным планам Ассамблеи, начальное образование даже не было обязательным. Правда, предусматривались средства на обучение способных, но малоимущих учеников, однако эта мера мало утешала демократически настроенных критиков, скорбевших о потере более эгалитарных проектов раннего революционного периода. Таким образом, в то время как на начальные школы возлагалась задача обучать детей из рабочего класса основам грамоты, арифметики, естественной истории и принципам республиканского правления, более академическая программа école centrale включала рисунок, древние языки, математику, физику, химию, общую грамматику, словесность, историю и законодательство — и была ориентирована на детей из среды среднего класса. Следующий уровень образования также отошёл от модели Кондорсе: вместо лицеев предполагалось создать десять высших специализированных академий. И хотя Национальный институт действительно был учреждён, его структура и задачи отличались от представлений Кондорсе. Он был скорее не органом управления всей системой, а центром прославления французской учёности — своего рода живой энциклопедией знаний, как выразился Дону. Институт, исключив прикладные науки, распределил 144 ведущих учёных Франции по трём оставшимся классам из четырёх, предложенных Кондорсе (Stein, 1961). Кабанис, Траси и несколько других видных Идеологов были назначены в секцию Второго класса — Моральных и политических наук — посвящённую анализу ощущений и идей.
На пике якобинской диктатуры были разработаны планы создания корпуса учителей, вооружённых знаниями и педагогическими навыками, необходимыми для воспитания граждан республики. Десять тысяч мужчин должны были пройти обучение в центральной семинарии в Париже, а затем распространить «правильные практики», открывая нормальные школы (écoles normales) в своих департаментах. Поддерживая эту инициативу по распространению искусства преподавания, Гара и Ланакаль ещё в начале 1794 года выступили с предложением создать то, что впоследствии станет École Normale. Однако с изменением политического климата их интересы постепенно сместились — от подготовки начальных учителей к учреждению высшей школы, призванной направлять образование элиты. Соответственно, когда École Normale открылась в январе 1795 года — в единственном зале Музея естественной истории — четырнадцать выдающихся профессоров, приглашённых на четырёхмесячный курс, отнюдь не думали о маленьких детях. Их курсы фактически закладывали учебную программу для écoles centrales, официально учреждённых уже в следующем месяце, согласно Закону 3 Вантоза. Среди множества выдающихся интеллектуалов Лагранж и Лаплас читали лекции по математике, Гара — по «анализу рассудка», а Сикар — по общей грамматике. Всё это должно было показаться весьма эзотерическим для большинства студентов, которых местные власти направили с целью подготовки к работе в начальных школах. Уже к маю более половины из них покинули занятия, оставив преподавателей оправдываться за свою роль не как наставников народных учителей, а как хранителей высшего образования.
Как показали первые годы её существования, система народного образования, созданная Законом Дону, столкнулась с серьёзными проблемами. Из-за отсутствия централизованной власти планы Идеологов неизбежно подрывались местными условиями. Главной заботой стало существование большого числа католических частных школ, гарантированных правом совести, закреплённым в Главе X Конституции. Часто финансируемые из благотворительных источников, эти альтернативные учреждения обучали более половины всех учащихся. Это не только подрывало цель Кондорсе — создание единой системы, но и, по мнению демократически настроенных критиков внутри Директории, представляло собой ощутимую угрозу Республике. В дебатах 1798 года утверждалось, что ортодоксальное духовенство использует начальные школы как инструмент контр-гегемонической борьбы против политической идеологии революции. Чтобы противостоять этой угрозе, были приняты законы, направленные на подчинение частного образования государственной политике. Чиновники обязывались отдавать своих детей в государственные школы; местные власти должны были контролировать частное обучение, следя за тем, чтобы использовались одобренные учебники; а чтобы исключить священников, не преданных гражданским кодексам, директоры школ обязаны были быть либо женатыми, либо вдовцами. Что же касается центральных школ, то их двойственная задача — одновременно обучать как будущих университетских студентов, так и выпускников начальных школ — привела к хаотичному смешению занятий для всех возрастов и уровней подготовки. Посещаемость была нерегулярной, лекции — неорганизованными, а преподаватели не имели должной подготовки. Без бюрократического механизма для исполнения приказов большинство указов министерства попросту игнорировались.
Не менее важной проблемой для демократических критиков было и разделение между начальными и средними ступенями образования. Учебная программа écoles centrales не была связана с программой начальной школы, а по Закону 3 Брюмера поступление разрешалось только с 12 лет — через три года после окончания начального образования. Опасаясь создания новой аристократии, демократы требовали кардинальных изменений. Идеологи сопротивлялись. Помимо колоссальных затрат, они не видели смысла в расширении образования для масс. Зачем обучать миллионы крестьян высшим наукам? Излишняя учёность только озлобит рабочего, предназначенного судьбой к труду. Начальное образование, объяснял Траси, должно быть «коротким и приятным»: оно должно передавать лишь самые базовые знания и ценности правящих классов, но не рассматриваться как введение к обучению в центральных школах. В отличие от Джефферсона, Траси считал, что даже детям classe savante — «образованного класса» — не следует посещать начальные школы. Гораздо лучше, если будущие лидеры общества будут воспитываться дома, развивая вкус в более изысканной среде до тех пор, пока не достигнут зрелости, необходимой для изучения более сложных предметов в écoles centrales — как это описано в Observations sur le Système Actuel d’Instruction Publique («Наблюдения о нынешней системе народного образования») Траси (1801): восьмилетний учебный план по языку и литературе, физическим наукам и математике, а также идеологическим, моральным и политическим наукам. Однако дебаты прекратились. С иностранными армиями у границ Франции и угрозой возрождения якобинства либералы поддержали переворот Бонапарта в ноябре 1799 года. Под руководством Сийеса Идеологи помогли спроектировать политическую систему с тремя палатами — Законодательный корпус, Трибунат и Сенат консерваторов, — но в итоговом соглашении фактически отказались от собственной власти, передав исполнительную функцию Первому консулу. Наполеон не был подотчётен Сенату. Таким образом, 28 декабря, когда Траси, Кабанис, Гара и целый ряд других Идеологов приняли почётную и высокооплачиваемую должность сенаторов, они утратили прямое влияние на формирование государственной политики. С этого момента, утратив полезность для Первого консула, они постепенно превратились в его козлов отпущения — «метафизиков», виновных во всех бедах революции. Теперь недостатки школьной системы предстояло устранять не через парламентские обсуждения, а административным указом.
Поначалу Идеологи были уверены, что Наполеон поможет осуществлению их проекта. Будучи частым гостем в Отёе и членом Национального института, Бонапарт стремился заручиться поддержкой интеллектуалов и обещал сохранить за ними важные государственные назначения. Ключевое значение для их образовательных амбиций имел Совет по народному просвещению — консультативный орган, созданный в октябре 1798 года при министре внутренних дел. Первоначально в его состав входили восемь членов Национального института, включая четырёх представителей секции по анализу ощущений и идей, и с присоединением Траси в феврале следующего года идеологическая направленность совета лишь усилилась.
В 1797 году преподавателям было предписано представить свои учебные планы и конспекты курсов, но откликнулись лишь немногие. Решив выяснить, как на практике реализуются принципы идеологии, Траси направил довольно строгое напоминание вместе с подробной анкетой, предназначенной для оценки эффективности работы ста центральных школ по всей стране. Результаты его не порадовали, но, осознавая, насколько остро велись дебаты в законодательных органах, он постарался отстаивать свои принципы, не давая при этом повода для политической атаки на систему центральных школ. Больше всего Траси заботила подача таких дисциплин, как история, география, законодательство и политическая экономия — то есть социальных наук, необходимых для воспитания будущих savant — мыслителей светского государства. В ряде циркуляров, разосланных незадолго до переворота Наполеона, он напоминал преподавателям о связи между разумом и языком, а также о системе законов, институтов и социальных обычаев, возникающих из познания человеческой природы. Как учителя будущих законодателей и администраторов, они обязаны были готовить студентов к способности формировать общественное поведение в позитивном ключе. Тем не менее представленные материалы свидетельствовали либо о полном непонимании Идеологии, либо о упорной приверженности спиритуализму. Основной проблемой, по отчёту Траси, была неспособность положить философию языка в основание всей образовательной системы. Как могли учащиеся понять смысл своих занятий, если они не осознавали базовую связь между знаками и мышлением? Рекомендуя обратиться к Кондильяку, Траси изложил суть идеологического проекта и объяснил, как упорядоченная система знаков позволяет достичь знания, свободного от концептуальной путаницы, и указывает педагогический путь к разуму и добродетели. Идеология сама по себе должна была стать предметом изучения — как необходимое основание для последующего обучения законодательству, литературе и истории.
Вооружённые знанием о разуме и характере, ученики должны были исследовать гражданские кодексы, уголовное право, коммерческие регламенты и критически оценивать их способность содействовать свободе, процветанию и счастью. Лишь тогда они могли бы по-настоящему оценить историческое развитие обществ. Подобно Кондорсе в его монументальном труде «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1795), Траси рассматривал прошлое сквозь призму невежества и угнетения. Традиционный канон — священные сказания, героические эпопеи и политические мифы — должен был быть заменён научным изучением народов, раскрывающим причинные структуры, необходимые для инженерии общественного прогресса.
Увы, для Идеологов светская социальная наука оказалась непопулярной как среди студентов, так и среди преподавателей — грамматика, законодательство и история были среди наименее посещаемых дисциплин. Многие учителя отмечали, что внимание к письменным навыкам не оставляло времени на философские размышления. Даже те, кто действительно обращался к природе разума, часто смешивали идеологию с спиритуализмом. Более того, хотя преподаватели и принимали идею политической критики, они упорно продолжали представлять откровенные религии или церковные заповеди как основание морали. Что касается истории, Траси замечал общее сочувствие идее изучения прошлого как лестницы к цивилизации, но, к своему огорчению, почти не находил интереса к великому труду Дюпюи.
Представляя отчёт группы Люсиену Бонапарту, Траси настаивал, что écoles centrales доказали свою незаменимость для будущего Республики. Безусловно, требовались некоторые реформы. Необходимо было понизить минимальный возраст поступления, ввести вступительные требования, лучше координировать учебные программы и учредить национальные экзамены — но сама система, утверждал он, была здрава. Сосредоточив внимание на социальных науках, эта строгая форма обучения детей среднего класса в возрасте от 8 до 16 лет подготовит будущую элиту к государственной службе или к профессиональному образованию в одной из специализированных школ. Она даже поможет сформировать ядро преданных учителей, способных произвести революцию в начальном образовании народных масс.
Доклад Траси остался без ответа на столе министра. Прошло восемь месяцев в полном молчании, и лишь в октябре 1800 года Бонапарт распустил Совет и изъял его документы. Решив сохранить существующую систему, Траси вступил в нарастающую общественную полемику о школьной реформе, опубликовав выводы Совета и представив собственный учебник для центральных школ — первую часть своего многотомного труда Элементы идеологии (Éléments d’idéologie, 1803, 1804, 1805). Недовольство отсутствием организации и смутной миссией центральных школ стремительно росло. Стремясь разрядить потенциально взрывоопасную ситуацию и одновременно достичь политических целей Наполеона, чиновники Государственного совета подготовили законопроект, который был в итоге принят Законодательным корпусом 1 мая 1802 года под названием Закон Одиннадцатого Флореаля. Похоже, что сам Бонапарт сыграл ключевую роль в формулировке основных положений этого акта. Он не разделял светских целей Идеологов — и уж точно не нуждался в армии социальных учёных. Возродив элементы плана Кондорсе, новый закон учредил лицеи для обучения детей в возрасте от 9 до 16 лет до их поступления в специальные школы. Школы второго уровня (écoles secondaires), хотя и не были напрямую связаны с лицеями, должны были способствовать продвижению талантливых детей из низших сословий. Однако в действительности эту систему поддерживала не идея уравнивания, а политическое покровительство: лицейское образование становилось наградой для детей верных государственных служащих и одновременно — подготовкой кадров для будущего корпуса преданных, жёстко мыслящих профессионалов государственной службы. Та же логика была применена и к самому преподавательскому корпусу. Согласно законам 1806 и 1808 годов, Наполеон учредил Императорский университет — иерархически управляемую государственную бюрократию, которая превращала преподавателей лицеев и средних школ в государственных служащих и стандартизировала как государственное, так и частное образование.
К этому времени Идеологи практически полностью утратили влияние на государственную политику. Уже вскоре после переворота 18 Брюмера их разрыв с Наполеоном стал необратимым, особенно после их открытого противостояния Конкордату 1802 года. Принципиально выступая против возвращения Церкви в общественную жизнь, они надеялись заблокировать инициативу Наполеона в дебатах, но вместо этого оказались оттеснены от власти, когда Бонапарт оказал давление на Сенат, чтобы очистить Трибунат и Законодательный корпус от оппозиционеров. Четыре месяца спустя Сенат был вынужден провозгласить Бонапарта пожизненным консулом и принять новую конституцию, фактически устранившую возможность контроля над исполнительной властью. Последний гвоздь в гроб Идеологов был вбит в начале следующего года, когда Бонапарт провёл реорганизацию Национального института, упразднив класс по анализу ощущений и идей. Оказавшись вне политической игры и утратив доступ к формированию образовательной политики, Кабанис, Траси и другие Идеологи постепенно ушли из публичной жизни. Идеология стала не только устаревшей, но и опасной: для «науки о человеке» не оставалось места в государстве, которое отрицало саму политику. Таким образом, хотя послереволюционная школьная система Франции и сохранила отдельные элементы структурных реформ, предложенных Идеологами — двухконтурную модель, дававшую базовое знание массам и готовившую элиту к углублённому обучению, — она была лишена своей светской миссии и социально-научного содержания, фундаментального для позитивистского государства, задуманного Траси. Лицей, как ясно понимал Наполеон, стал великим инструментом сохранения его бюрократической империи.

Томас Джефферсон — идеолог
Неудивительно, что, пытаясь сохранить своё влияние в условиях усиливающегося наполеоновского режима, Идеологи искали поддержки у могущественного и сочувствующего союзника — президента Соединённых Штатов и президента Американского философского общества. Это общество, объединявшее научно мыслящих людей (включая Бенджамина Раша, Джозефа Пристли и Дэвида Риттенхауса), было явно расположено к физиологическим доктринам сенсуализма. В 1802 году Джефферсон был избран почётным членом класса моральных наук и вскоре начал получать труды ведущих теоретиков движения. Сэй прислал ему двухтомный Трактат по политической экономии, Кабанис — Отчеты о физическом и моральном, а Траси — первые два тома Элементов идеологии. Обременённый обязанностями государственной службы, Джефферсон не имел времени подробно ознакомиться с этими трудами, особенно — как он позднее признался Адамсу — с довольно «тяжёлым и сухим» эпистемологическим трактатом Траси. Тем не менее он написал авторам ответные письма с благодарностью за оказанную ему честь и выразил интерес к их будущим теоретическим и практическим усилиям. Он обещал, что в отставке чтение этих трудов скрасит его досуг. В 1806 году Джефферсон получил от Траси вторую посылку — французскую рукопись Комментария к Монтескьё. Поскольку публикация была невозможна под надзором Наполеона, Траси надеялся, что труд получит должное внимание в Америке. И тема эта пришлась Джефферсону по душе: ещё в юности он подробно разбирал шедевр Монтескьё в своём commonplace book (рабочей тетради). Хотя он и соглашался с тем, что существует связь между человеческой природой, государственным устройством и институтами — даже принимал физиологические аргументы о климате, темпераменте и нравах, — защиту монархии он считал абсолютно неприемлемой. Траси исправил и актуализировал доводы Монтескьё: соотнося характер государства с антропологической физиологией Кабаниса, он предложил научное обоснование республиканского правления. За исключением небольшого разногласия о достоинствах единоличного или коллегиального исполнительного органа, Джефферсон был в полном восхищении. Перед ним был главный политический текст его поколения. Пока Наполеон заклеймил Идеологов как виновников всех революционных излишеств, Джефферсон распорядился перевести Комментарий и опубликовать его в Америке. Он убедил Джеймса Мэдисона, ректора колледжа Вильгельма и Марии, включить его в список обязательных для чтения книг для выпускников, а в 1812 году написал Томасу Куперу — первому профессору, назначенному в Университет Виргинии — выражая надежду, что Обзор Монтескьё… станет элементарной книгой для молодёжи во всех наших колледжах (Jefferson, 1907, 13: 178–179). Он даже предлагал предварять изучение этого текста «зрелым чтением самой глубокой из всех книг о человеке — Отчетов о физическом и моральном Кабаниса» (Rapports du physique et du moral de l’homme, Tracy, 1803). В 1814 году Джефферсон получил четвёртый том Элементов идеологии Траси, который, после многих трудностей с типографиями, он лично перевёл и опубликовал в 1817 году под названием Трактат о политической экономии (Treatise on Political Economy). Убеждённый, что Траси исправил и систематизировал экономическую мысль от Кенэ до Смита и Сэя, Джефферсон в 1818 году написал министру финансов Альберту Галлатину, предлагая использовать эту книгу как средство борьбы с «глубоким невежеством в области экономической науки». Путём «упрощения принципов» она, по его словам, «умещает весь предмет в узкие рамки» (Chinard, 1925, с. 105-106). Вместе взятые, Комментарий к Монтескьё и Политическая экономия должны были, по замыслу Джефферсона, «стать настольными книгами государственного деятеля… элементарными учебниками для политического отделения» в Университете Виргинии (Chinard, 1925, с. 203).
В 1813 году Адамс написал Джефферсону, взволнованный недавним приобретением — опусом Дюпюи. Джозеф Пристли отверг труд и назвал его автора атеистом. Но Адамс был более сдержан и предложил Джефферсону вместе пройти через все двенадцать томов, чтобы самостоятельно разобраться в споре между материализмом и спиритуализмом. Джефферсон похвалил героизм Адамса, но признался, что его собственный интерес к Дюпюи был вполне удовлетворён аналитическим обзором Траси, который он и переслал своему другу, назвав его «сочной выжимкой для назидания» (Adams and Jefferson, II: 491). Этот спор, сотканный из метафизических и теологических представлений о природе, разуме и духе, находился в самом центре мировоззрения Джефферсона. Следуя деистическому учению Пристли, он сформулировал космологическую картину, в которой материализм соединялся с христианством. Подобно Кабанису, Пристли верил, что органическая материя обладает чувствительной способностью порождать сознание и свободную волю. Для Джефферсона это предположение было гораздо более правдоподобным, чем существование нематериального «я». Ссылаясь на критику спиритуалистов у Локка — в частности, на его утверждение, что отрицать способность Бога наделить материю мышлением — это богохульство, — Джефферсон признавался Адамсу, что ему легче принять «одну непостижимость, чем две… существование, называемое духом, о котором у нас нет ни доказательств, ни представления» и которое, будучи лишённым протяжённости и плотности, «может, тем не менее, приводить в движение материальные органы» (там же). «Говорить о нематериальном существовании — значит говорить о ничто. Сказать, что душа человека, ангелы, Бог — нематериальны, значит сказать, что они — ничто… Я не могу рассуждать иначе. Но я верю, что моё вероисповедание материалиста поддержано Локком, Траси и Стюартом». (прим. автора.: Дугалд Стюарт, с которым Джефферсон подружился в Париже в первый год революции, отстаивал бэконианскую науку о разуме и обществе, схожую с системой Траси, но смягчённую приверженностью к доктрине врождённых истин. Эли Галеви писал, что ученик Стюарта и его преемник в Эдинбургском университете Томас Браун «так много заимствовал у Дестюта де Траси и Ларомигьера, что его обвиняли в плагиате» (Halévy, 1966, с. 453). Оба этих мыслителя сильно повлияли на Джеймса Милля и других философских радикалов, разделявших либеральные взгляды на природу и структуру образования, удивительно схожие с теми, что исповедовали Траси и Джефферсон. Стюарт, впрочем, материалистом не был.). «Почему от материалиста ожидают объяснения того, как материя производит мышление, — спрашивал Джефферсон, — если даже сами учёные не могут объяснить природу тяготения или магнетизма?». Только «на основе ощущения», утверждал он в письме Адамсу, можно «воздвигнуть все достоверности, какие мы способны или нуждаемся иметь. Стоит оставить ощущение — и всё уносится ветром» (Cappon, 1984, с. 568). Джефферсон полагал, что книга Дюпюи Происхождение всех культов, наглядно доказывала справедливость этой максимы в истории религии. Истинное основание веры должно быть заложено в неоспоримом порядке мироздания и неизменных принципах морали. Иисус, настаивал Джефферсон, не был живым божеством, а великим учителем нравственной истины. Отвергая спиритуализм, он признавался, что является христианином: «…в единственном смысле, в каком, по моему убеждению, Иисус желал, чтобы кто-либо им был: искренне приверженным его учению, предпочитая его всем другим, приписывая ему все человеческие добродетели и полагая, что он никогда не заявлял о других» (Jefferson, 1907, с. 1122). Позже в жизни Джефферсон даже утверждал, что ранние христиане сами были материалистами, и обвинял апостола Павла в заражении веры мистицизмом и спиритуализмом. Принятые Церковью, эти туманные идеи были затем, как он писал, «искусственно интерпретированы в механизмы, служившие для того, чтобы присваивать себе богатство и власть» (Jefferson, 1907, с. 1214). Обвиняя разумных людей в безбожии, религии стали «величайшим препятствием для распространения подлинного учения Иисуса и, по сути, представляют собой настоящего антихриста» (там же). Адамс с этим соглашался. Похвалив труд Дюпюи как «величайшую сказку, когда-либо написанную», он также оставался верен нравственному учению Христа: «Десять заповедей и Нагорная проповедь, — сказал он виргинцу, — вот и вся моя религия» (Cappon, 1984, с. 494).
Но кто же такой был этот Траси? «Самый способный ныне живущий писатель по вопросам интеллекта и операций рассудка», — ответил Джефферсон (Cappon, 1984, 494). Описывая три тома Идеологии и свою высокую оценку критики Монтескьё, он пояснил, что этот идеолог завершает «круг метафизических наук» трудом по этике. Однако Джефферсон предостерёг Адамса: Траси следует за Гоббсом и принимает принцип, согласно которому «справедливость основана исключительно на договоре и не вытекает из природы человека» (Cappon, 1984, 494). Он, как и Адамс, верил в врождённое чувство добра и зла, но всё же был убеждён, что, несмотря на расхождения в основаниях, «такой здравомыслящий мыслитель, как Траси, даст нам прочную систему морали» (Adams–Jefferson, 242). Хотя Адамс и счёл Анализ Траси «бледной миниатюрой оригинала», интерес к нему у него всё же проснулся (Adams-Jefferson, 499). Адамс с иронией спрашивал в следующем письме: Что же такое эта Идеология?
«Когда Бонапарт употребил это слово, я был в восторге — по той простой причине, что всегда рад всему, чего не могу понять. Это означает идиотизм? Науку неполноценного ума? Науку безумия? Теорию бреда? Или, может быть, это наука самолюбия, amour propre? Или элементы тщеславия?»
(Adams-Jefferson, 501)
Больше всего он хотел «увидеть его Идеологию о Монтескьё» (там же). Джефферсон пообещал прислать копию Критики, пояснив, что под Идеологией Траси понимал всё то, что французы объединяют под словом Morale (нравственная философия). Адамс был в восторге. На следующий год, читая рукопись Политической экономии, он перескакивал от одной мысли к другой, не в силах оторваться. «Это как будто всё здравое суждение и прочное знание великого мастера Кене и всех его доблестных рыцарей сжато в один маленький шарик» (Adams-Jefferson, 525). Обрадованный такой высокой похвалой Траси, Джефферсон попросил разрешения использовать это письмо, чтобы содействовать распространению книги, и Адамс охотно согласился (Adams-Jefferson, 538-539). Умеренные позиции Траси в духе laisser-faire обеспечивали теоретическое обоснование многим вопросам, с которыми Джефферсон боролся в своей политической карьере. Его яростное противодействие вмешательству государства в экономику — в вопросах национального банка, бумажных денег, прямого налогообложения, установления процентных ставок и государственного долга — как нельзя лучше перекликалось с анти-иерархической борьбой самого Джефферсона против федерализма. Но, возможно, важнее всего то, что Траси помог смягчить идеализированное представление о пасторальной жизни, которое Джефферсон рисовал в Записках о Виргинии. Да, он оставался верен политической ценности земли как источника республиканской добродетели, но события вроде эмбарго 1807 года научили его важности мелкой промышленности для экономической независимости Америки. Опасаясь крайностей британской индустриализации, разложения труда и морального упадка, сопровождающего жизнь в крупных городах, он поддерживал модель Траси: развитие через скромное предпринимательство. Наука и техника должны были служить улучшению инфраструктуры и условий жизни и труда, но общество по-прежнему должно оставаться агроцентричным. Однако одна досадная непоследовательность в этом видении, которую нельзя обойти стороной, — это поддержка Джефферсоном распространения рабства на территорию Миссури. Учитывая его постоянные заявления о разрушительном влиянии рабства на природу и господина, и раба, его поддержка экспансии — даже под предлогом перемещения чёрных с плантаций на фермы — вряд ли могла служить моральным основанием для «империи разума».
“Дитя моей старости”
Помимо политических и экономических трудов Траси, Джефферсон проявлял исключительный интерес и к его работам в области образования. В 1817 году он даже писал Траси, признавшись, что «воспользовался некоторыми ведущими идеями из вашего блистательного трактата о народном образовании» при разработке Центрального колледжа в округе Албемар. Как и école centrale, он задумывался как средняя школа — и лишь позднее, когда были обустроены территория и здания, проект превратился в Университет Виргинии. Тогда Джефферсон вернулся к своей прежней трёхуровневой модели, хотя и сохранил многие элементы учебного плана Траси.
Письмо Джефферсона 1814 года к Питеру Карру, будущему директору колледжа, ярко демонстрирует масштаб этого заимствования. Каждый гражданин, пояснял он, «должен получать образование, соразмерное его положению и занятиям в жизни» (Jefferson, 1907, 1348). Разделив население на «трудящихся» и «учёных», он предложил начальное обучение в чтении, письме, арифметике и географии, а для своей аристократии — среднюю ступень образования, включающую три основные области: языки (древние и современные языки, история, грамматика, изящная словесность и риторика); математика (чистая и прикладная математика, физика, химия, естественная история, ботаника, зоология и анатомия); философия (идеология, этика, право природы и народов, государственное управление и политическая экономия). За исключением курса по теоретической медицине, эта система практически полностью воспроизводила ту, которую Траси предложил для école centrale в своём трактате Observations (Jefferson, 1907, 1346–1342). Джефферсон даже поддержал, вслед за Траси, образование для глухих и слепых. Наконец, как и во Франции, он предполагал создание профессиональных школ для расширения теоретических, научных и прикладных знаний.
В начале 1817 года предложение Чарльза Мерсера о системе народных школ — которое Джефферсон считал финансово несостоятельным и чрезмерно бюрократичным — было с трудом отклонено сенатом штата. Стремясь продвинуть собственную инициативу, он написал своему политическому союзнику Джозефу Кабеллу два проекта: об учреждении начальных школ и об основании государственного университета в Виргинии. Объединённые в законопроект О создании системы общественного образования, эти предложения напоминали план 1779 года, но включали важное изменение: сокращение числа «природных аристократов», которых следовало бы обучать за государственный счёт. Однако даже с этой уступкой законопроект не получил широкой поддержки. Вместо этого был принят альтернативный проект: выделить из литературного фонда $45,000 на обучение бедных детей. Именно в виде дополнения (rider) к этому закону и было одобрено строительство Университета Виргинии, что положило начало четырёхлетней борьбе за финансирование, в которой начальное и высшее образование противостояли друг другу. Учёные до сих пор спорят, какую ступень образования Джефферсон считал важнейшей. Учитывая, что он до самой смерти настаивал на создании народных школ, подобный вопрос кажется несправедливым. Однако, поставленный перед выбором, он писал Кабеллу, что лучше приостановить начальное образование на три года, чем упустить шанс правильно основать университет. Как свидетельствует его собственный эпитафий — «Здесь покоится Томас Джефферсон, автор Декларации независимости США, Закона Виргинии о свободе совести и отец Университета Виргинии» — он считал это дитя своей старости одним из самых значимых проектов всей жизни (Jefferson, 1907, 706).
К 1818 году, когда строительство Центрального колледжа было в полном разгаре, законодательное собрание назначило Джефферсона и ещё двадцать трёх комиссаров ответственными за планирование расположения, структуры, управления и учебной программы Университета Виргинии. Собравшись в таверне на перевале Рокфиш-Гэп, участники комиссии обсудили два альтернативных места, прежде чем остановиться на участке в Албемарле, как наиболее удобном для белого населения штата. Составленный Джефферсоном, Отчёт вкратце изложил план размещения общежитий, учебных корпусов и жилья для преподавателей в виде «академической деревни», призванной способствовать наставническим отношениям между учителем и учеником — столь важным в собственной юности Джефферсона. Однако это лишь отчасти передавало масштаб архитектурного замысла. Убеждённый, что красота служит знаком возвышенности, он спроектировал торжественные аудитории, окружающие величественный квадрат. Изящность Виргинии, как он рассчитывал, привлечёт преподавателей из числа лучших умов Европы и превратит университет в цитадель учёности для студентов со всего Юга и Запада. Законодатели опасались расходов и выступали против преподавателей-иностранцев, но Джефферсона нельзя было остановить. Пока самый изысканный университетский кампус Америки начинал обретать форму, молодой перспективный юрист Фрэнсис Гилмер был направлен в Великобританию для вербовки преподавателей — будущие поколения учёных должны были быть уже американскими. Что касается учебной программы, Джефферсон представил таблицу дисциплин, направленных на воспитание мудрых и добродетельных лидеров, сведущих в государственном управлении, политической экономии и обладающих научными знаниями, необходимыми для создания счастливого и процветающего общества. Она была организована вокруг десяти профессур, включая кафедру идеологии, и в целом повторяла тот план, который он предлагал Карру за четыре года до этого. (В 1824 году, когда начались финансовые трудности, программа была сокращена до восьми кафедр: идеология, общая грамматика и этика были включены в курс моральной философии, а государственное управление и политическая экономия — в курс права.) Также упоминались военная подготовка, гимнастика, ремесленные искусства, танцы и рисование, как и необходимость сохранить светский характер обучения. Профессор этики должен был дать доказательства существования Бога — «источника всех моральных отношений и всех законов и обязательств, вытекающих из них» — и на этой общей основе каждая религиозная конфессия могла бы, в учреждениях вокруг кампуса, «предлагать, как сочтёт нужным, дополнительные занятия по своим особым догматам» (Jefferson, 1907, 467). Это, по словам Джефферсона, отвечало на жёсткую критику в адрес Виргинии за отсутствие религиозного воспитания, сопоставимого с прикладными науками. И более того: «Собрав секты вместе и смешав их с основной массой студентов, — писал он Куперу, тогдашнему профессору в Университете Южной Каролины, — мы смягчим их нетерпимость, освободим от предрассудков и сделаем религию в целом религией мира, разума и морали» (Jefferson, 1907, 1465). До последнего дня жизни Джефферсон твёрдо отстаивал разделение церкви и государства — Виргиния, первый подлинный университет в стране, должна была быть светским учреждением, центром которого станет библиотека, а не церковь. Она также, как он писал Траси в 1820 году, «будет основана на безграничной свободе человеческого ума исследовать и раскрывать всякий предмет, способный быть предметом его размышлений» (Chinard, 1925, 203). Постоянство в должности, равенство в званиях и система выборности должны были охранять драгоценную независимость мысли. Однако по мере того как продолжался отбор преподавателей — особенно после преждевременной смерти Гилмера — знаменитая терпимость Джефферсона начала уступать место настороженности. Опасаясь распространения федерализма, который, по его мнению, проповедовали северные колледжи, посещаемые юными виргинцами, он стал стремиться контролировать преподавание, особенно по столь важным дисциплинам, как право и государственное управление. Убеждённый, что законодательное собрание имеет право гарантировать воспитание будущих лидеров в духе республиканских принципов, он убедил Совет попечителей ввести обязательную учебную программу, основанную на сочинениях Локка, Сиднея, Федералистских записках, Декларации независимости и Прощальном послании Вашингтона. Он также настоял на том, чтобы кафедру права занял лишь такой преподаватель, который предпочитает вигского юриста Эдварда Кука и его Комментарий к Литлтону, а не тори Уильяма Блэкстона. Что касается кафедры моральной философии, то он выбрал бывшего сенатора Джорджа Такера — студента Мэдисона, поддержавшего позицию Джефферсона по Миссури. Отсутствие у него опыта в метафизике не смущало Джефферсона, поскольку, по его словам, «любой человек с хорошим общим образованием» может быстро освоить труды «Локка, Стюарта, Брауна и Траси» (McLean, 1961, 158). В первый же год Такер даже преподавал экономику по учебнику Купера на основе Сэя, пока кафедру права не занял другой человек из круга Мэдисона — Джон Ломакс.
После смерти Джефферсона наука о мышлении Траси постепенно исчезла из учебного плана Виргинского университета — например, Джордж Такер со временем обратился к более привычному для колледжей изложению философии «шотландского здравого смысла». Однако более устойчивая форма Идеологии всё же сохранилась. И хотя справедливо утверждение Пэнглов (Pangle and Pangle, 1993), что возрождающаяся религиозность эпохи благоприятствовала росту конфессиональных колледжей, а не светским и научным дисциплинам, заложенным Джефферсоном, Виргинский университет тем не менее стал ключевым институтом политической культуры южных штатов в довоенный период. Партийный дух, а не социальная наука, стал, по сути, наследием Старого Сачема. За четыре месяца до смерти Джефферсон писал Мэдисону, решительно настроенный сохранить своё республиканское наследие.
«Именно в нашей семинарии должна поддерживаться эта вестальская лампада, чтобы затем вновь зажечь свет в нашем и соседних штатах. Если мы будем верны и бдительны в нашем поручении, то через десяток или двадцать лет большинство в нашем собственном законодательном собрании будет состоять из воспитанников одной школы, и многие её ученики понесут её учение в свои штаты, чтобы заквасить всю массу» (Adams, 1888, 139).
Если, как утверждал сам Джефферсон, юридический факультет был «питомником нашего Конгресса», то Виргиния действительно породила множество влиятельных политиков. Как подробно описывает Уильям П. Трент, за первые пятьдесят лет существования университет подготовил сотни студентов, которые заняли ведущие позиции в политике и профессиональной жизни Юга, способствуя тем самым легитимации особой региональной культуры, ставшей важнейшим фактором в политических конфликтах следующего поколения.
Но наиболее тревожным аспектом джефферсоновского наследия оказалось то, что Виргиния так и не создала полноценной системы народного образования вплоть до 1870-х годов — в то время как реформы, инициированные Горацием Манном в Массачусетсе, уже начали распространяться по стране. Писавший всего через десять лет после смерти Джефферсона, Манн полностью проигнорировал борьбу за государственное образование в Виргинии. Его взгляд на природу человека и общественное благо основывался на второй трансатлантической «науке о человеке» — преемнице Идеологии — френологии. Это была моральная философия, которой Америка не смогла противостоять. Помимо политических доводов о необходимости воспитания мудрых и добродетельных граждан, френология предоставляла «научное» обоснование практически для всех аспектов школьной системы. От физического устройства школьного здания до подбора учебников и подготовки учителей — Манн сумел предложить то, что Джефферсон лишь намечал: конкретные и убедительные научные объяснения целей, методов и содержания образования в условиях новой городской и индустриализирующейся Америки.
В письме Адамсу от 1825 года Джефферсон признавался, что «никогда не испытывал большего удовольствия от чтения книги, чем от книги Флуранса»:
«Кабанис весьма далеко продвинулся в доказательствах, основанных на анатомическом строении и функционировании человеческого механизма, что определённые его части, вероятно, являются органами мышления, и, следовательно, материя может обладать этой способностью. Флуранс доказывает, что она обладает ею: при удалении большого мозга животное теряет все чувства, весь разум и память, но продолжает жить в добром здравии и на неопределённый срок. Будет любопытно увидеть, что на это возразят имматериалисты».
(Adams and Jefferson, 605)
Молодой ученик Кабаниса и Траси, Флуранс изначально хвалил попытки Галля по идентификации и локализации различных «органов» разума в мозгу. Однако к 1822 году его взгляды изменились. Оказавшись в орбите антагониста Галля, Жоржа Кювье, Флуранс представил серию экспериментов с удалением и стимуляцией участков мозга, которые, по его мнению, поддерживали картезианское представление о разуме. Разделив мозг на шесть функциональных зон, он продемонстрировал, что каждая область выполняет определённую роль в общем «ментальном экономе»: так, большой мозг (cerebrum), по его данным, отвечает за чувственный опыт, память, интеллект и свободную волю. Но, как он сенсационно показал, удаление даже значительных частей этого органа не приводило к полной утрате данных способностей, что позволило Флурансу отвергнуть тезис Галля о жёсткой локализации функций. На этом основании он заключал, что мышление распределено по всей области большого мозга, а значит, должен существовать единый управляющий субъект — moi (я). Таким образом, то, что Джефферсон воспринял как эмпирическое подтверждение физической природы мышления и чувств, Флуранс, наоборот, намеревался использовать как опровержение материализма и локализации функций мозга. Именно к этой теории, а также к её образовательным целям, методам и содержанию, мы теперь и переходим.
Источники
- Adams, H. (1888). Thomas Jefferson and the University of Virginia. Washington: Government Printing Office.
- Adams, W. (1997). The Paris years of Thomas Jefferson New Haven: Yale University Press.
- Cappon, L. J. (Ed.) (1984) The Adams-Jefferson letters: the complete correspondence between Thomas Jefferson and Abigail and John Adams 2 vols. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Chinard, G. (1925). Jefferson et les ideologues. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Destutt de Tracy, A. (1801) Observations sur le systême actuel diInstruction publique. Paris: Ve Panckoucke.
- Destutt de Tracy, A. (1804) Éléments d’idéologie: I, idéologie. Paris: Courcier.
- Destutt de Tracy, A. (1803) Éléments d’idéologie: II, grammaire. Paris: Courcier.
- Destutt de Tracy, A. (1805) Éléments d’idéologie: III, logique. Paris: Courcier.
- Destutt de Tracy, A. (1969). A commentary and review of Montesquieu’s spirit of laws. New York: Burt Franklin.
- Destutt de Tracy, A. (1973). A treatise on political economy. Detroit: Detroit Center for Health Education.
- Dewey, J. (1957). The living thoughts of Thomas Jefferson. New York: Fawcett Publications.
- Dupuis, C. (1984). The origin of all religious worship. New York: Garland Publishing
- Ellis, J. (1998). The American sphinx: the character of Thomas Jefferson. New York: Random House.
- Green, A (1991) Education and state formation. London; Palgrave-Mcmillan.
- Halévy, E. (1966) The growth of philosophic radicalism. Boston: The Beacon Press.
- Head, B. (1987). Politics and philosophy in the thought of Destutt de Tracy. New York: Garland.
- Hellenbrand, H. (1990). The unfinished revolution: education and politics in the thought of Thomas Jefferson. Newark: University of Delaware Press.
- Honeywell, R. (1931). The educational work of Thomas Jefferson. Cambridge: Harvard University Press.
- Jefferson, T. (1907). The writings of Thomas Jefferson 20 vols. (A. E. Bough Ed.) Washington: The Thomas Jefferson Memorial Association.
- Jefferson, T. (1984). Thomas Jefferson, writings. M. D. Peterson (Ed.) New York: The Library of America.
- Jordan, W. (1968) Black over white: American attitudes toward the negro 1550-1812. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Kennedy, E. (1978). A philosophe in the age of revolution: Destutt de Tracy and the origins of «ideology.» Philadelphia: American Philosophical Society.
- McLean, C. (1961). George Tucker: moral philosopher and man of letters. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Padover, S. (1952) Jefferson: a great American’s life and ideas. New York: Harcourt, Brace & World.
- Palmer, R.R. (1985). The improvement of humanity. Princeton: Princeton University Press.
- Pangle, L. and Pangle, T. (1993) The learning of liberty. Lawrence: The University Press of Kansas.
- Stein, J. (1961) A scholarly temple from national to Napolonic. History of Education Quarterly 1(4): 7-15.
- Tomlinson, S (2005). Headmasters: phrenology, secular education, and nineteenth century social thought. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- Woloch, I. (1994). The new regime: transformations of the French civic order, 1789-1820s. New York: W.W. Norton & Company.
