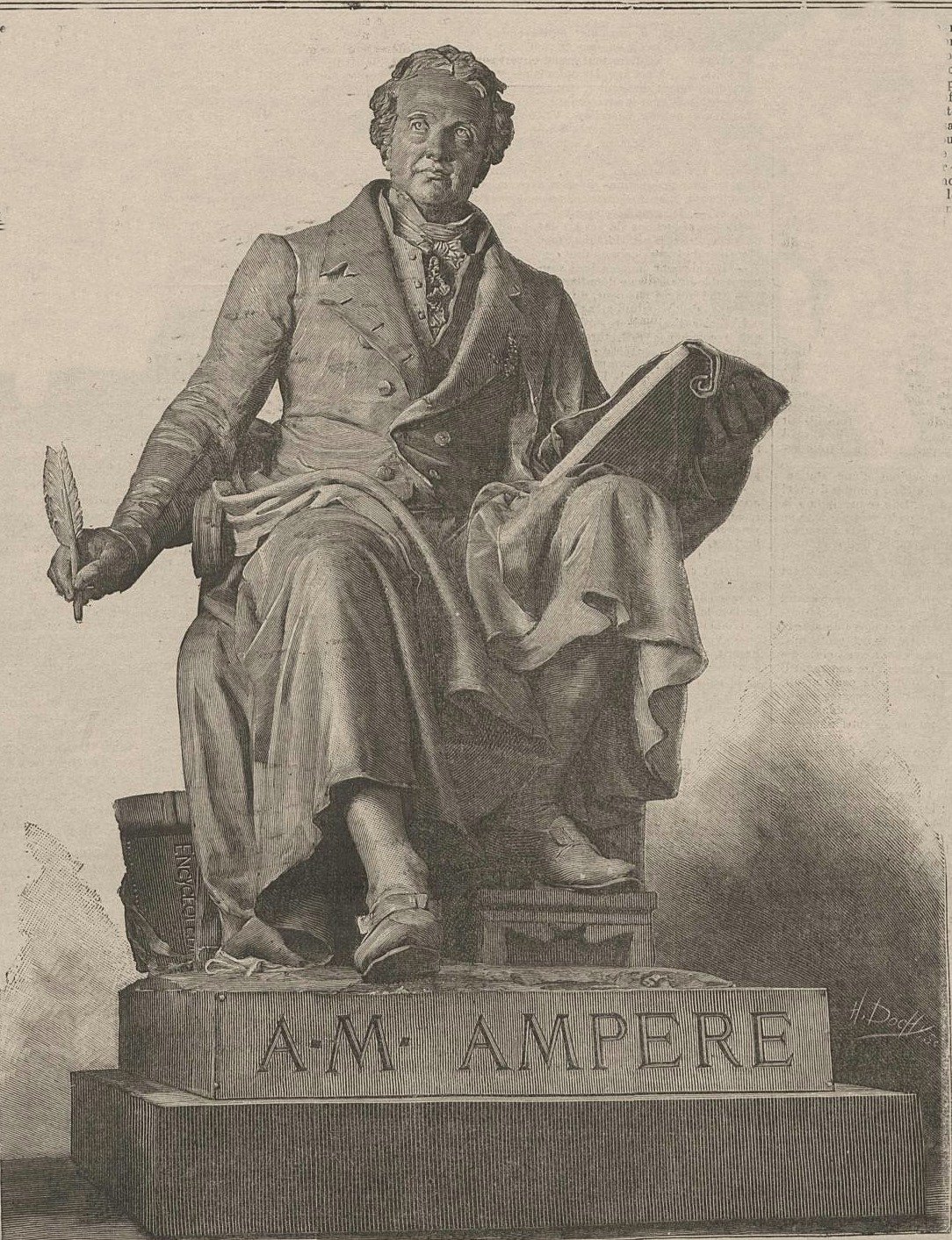
Автор текста: Шарль Браверман (или Чарльз Брейверман ибо в оригинале Charles Braverman)
Перевод с французского оригинала.
Брейверман, Ч. (2015). Научная классификация у Ампера: между Бэконом и натуралистами. Философское обозрение Франции и за рубежом, том 140(3), 307–324. https://doi.org/10.3917/rphi.153.0307
Аннотация от автора: Схемы классификации были неотъемлемой частью научной практики Ампера. Различные классификации, которые он разработал – химических элементов, способностей человеческого разума, различных наук – свидетельствуют о его эклектизме. Однако такой интерес к классификации указывает на то, что последняя считалась парадигматической формулировкой экспериментального метода. Во Франции начала XIX века это было наследием философии Фрэнсиса Бэкона. Но это наследие также поставило перед наукой онтологический вызов: классификация была бы лишь произвольным и субъективным созданием номинальных видов. В своей научной практике Ампер обращается к другому наследию – наследию натуралистов. Тем самым он утверждает, что отношения, выраженные в схеме классификации, могут соответствовать отношениям, существующим в реальности.
Чтобы оценить значимость классификационного подхода в истории наук, необходимо начать с изучения практики самих учёных [1]. Так, Андре-Мари Ампер (1775–1836) известен тем, что питал подлинную «страсть к естественным классификациям» (Locqueneux, 2009), и его эклектизм побуждает нас видеть в нём не только пионера электромагнетизма. Его классификационная практика раскрывает своеобразное понимание истории наук и её связи с философией, наследником которой является начало XIX века во Франции. Это наследие принимает у Ампера форму синтеза между английским эмпиризмом, восходящим к Фрэнсису Бэкону (1561–1626) и переданным через «Энциклопедию», и практикой натуралистов.
Для понимания оснований и значимости классификации, решающее значение имеет, прежде всего, влияние Бэкона. Речь идёт не о том, чтобы изучать сочинения Бэкона с целью выяснить, как именно он описывает особенности своего классификационного метода, но скорее о том, чтобы проанализировать, каким образом философия Бэкона была воспринята во Франции в начале XIX века, с тем чтобы выявить связанные с этим вопросы. С этой точки зрения, Ампер не является изолированным мыслителем, ибо наследие Бэкона, касающееся научной практики, подробно анализировалось одним философом того времени — Пьером Мэном де Бираном (1766–1824). Его современники и коллеги, такие как Дестют де Траси (1754–1836) и Кабанис (1757–1808), считали его тонким знатоком наук; он обладал видением истории наук и философии, основанным, главным образом, на Бэконе и Ньютоне, которые оба считаются отцами экспериментального метода, его теоретизации и применения. Каким же образом Мэн де Биран интерпретировал это бэконианское наследие, и какие проблемы мог вынести из него Ампер? Будучи в юности усердным читателем «Энциклопедии» (Launay, 1925, гл. 1; Valson, 1886, с. 44) и находясь в тесном контакте с Мен де Бираном с 1805 года, он был полностью погружён в этот бэконовский контекст, ставящий классификацию в центр научной деятельности. Однако он не мог не осознать онтологической проблемы, присущей классификационному подходу. Какой ответ на этот вызов он находит в своей научной практике? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть ещё одно центральное влияние на мысль Ампера — влияние натуралистов.
Классификация, как образец научной практики Ампера
Помимо своих исследований в области электромагнетизма, Ампер постоянно совмещал разнообразные научные и философские занятия, что свидетельствует о его по-настоящему эклектическом интересе и интенсивном использовании метода классификации. Интеллектуальный эклектизм и методологическая необходимость классификации отражены в речи, произнесённой им в Бурге в 1802 году, когда он вступил в должность профессора Центральной школы этого города (Ampère, 1936, т. 1, с. 106). В этой речи проявляется двойственное понимание классификации: с одной стороны, стремление представить её как научный метод, отражающий индуктивный подход, моделью которого служит Ньютон; с другой — проект построения классификации наук, позволяющей определить предмет и метод физики. Эта речь показывает, что научный метод может быть понят через парадигму классификации.
Действительно, Ампер настаивает на двух различных уровнях научного исследования. Прежде всего речь идёт о том, чтобы исходить из классификации свойств, установленных опытным путём. Для этого первого этапа Ампер пользуется термином «естественная история», что подразумевает, хотя и неявно, классификационный подход натуралистов (отсюда и терминология, связанная с «родами» и «видами»), но в более широком смысле должно быть отнесено к Фрэнсису Бэкону, который рассматривал естественную историю как отправную точку всякой науки, понимая её как разумную организацию экспериментальных фактов (Bacon, 1620, сс. 82–83). Однако эта история не должна быть чисто эмпирическим и пассивным собранием сведений, но должна уже предполагать упорядочение посредством разума и экспериментальную деятельность, направленную на то, чтобы заставить природу проявить свои свойства. Скорее всего, именно через «Предварительный дискурс» к Энциклопедии Ампер усвоил это определение естественной истории (d’Alembert, 1894, с. 163). Как бы то ни было, это оправдывает использование классификационного инструмента для точного перечисления различных эмпирически установленных характеристик; именно эту идею и подхватывает Ампер.
На втором этапе становится возможным определение законов на основе классификации экспериментальных фактов, добавляя к ней более высокий порядок и выявляя взаимосвязи между наблюдаемыми свойствами. Это предполагает количественную оценку эмпирических наблюдений, чтобы с помощью математики определить взаимосвязи, существующие между различными наблюдаемыми величинами. Таким образом становится ясно, что для Ампера закон выражает в математической форме постоянное отношение между количественно определёнными экспериментальными данными.
Затем Ампер приводит в пример Ньютона, который, как считается, открыл закон всемирного тяготения, позволяющий объяснить все данные наблюдений, относящиеся к движениям тел. Ньютон прекрасно иллюстрирует индуктивный подход, который описывает Ампер: он состоит в том, чтобы подняться от классификации наблюдений к постоянным соотношениям, существующим между различными свойствами, выявленными и количественно измеренными опытным путём. Этот образ Ньютона, несомненно, также восходит к Предварительному дискурсу к Энциклопедии (там же, сс. 100–103), где тяготение предстает как результат размышлений, исходящих из законов Кеплера, которые, в свою очередь, были выведены из астрономических наблюдений.
В своей научной практике Ампер проявлял особый интерес к химии, что привело в 1816 году к публикации «Опыта естественной классификации простых тел» (Essai de classification naturelle pour les corps simples, Ampère, 1816). Изучение архивов Ампера показывает его стремление выработать классификацию, основанную на рассмотрении аналогий и различий в свойствах, которые можно наблюдать опытным путём в химических реакциях. Хотя связь с таблицами Бэкона (Bacon, 1620, II, 11–12–13, с. 195 и далее) — таблицами присутствия, отсутствия или степеней — не обозначена явно, следует отметить, что метод Ампера вполне соответствует организации различных простых тел в зависимости от наблюдаемого сродства (см. документы из папки 239, коробки 13, в архивах Ампера). Так, он сближает лимонную кислоту с хининовой кислотой, поскольку ни та, ни другая не осаждает нитрат серебра. Грибная кислота помещена между хининовой и яблочной, потому что они сходны по совокупности своих свойств (там же, лист 197). Ампер также выстраивает иерархию различных кислот одного и того же рода в зависимости от градации их сродства к воде. Наконец, как подчёркивает Дидье Делёль, анализируя различие между experientia и experimentum, метод Бэкона является активным и не сводится к простым пассивным наблюдениям: «Испытание, предпринимаемое исследователем, прежде всего имеет целью выяснить, что произойдёт, если…» (Deleule, 2010, с. 88). Ампер остаётся верен этой активной стороне открытия, связанной с классификацией, когда утверждает:
«Известные соединения, носящие название двойного хлорида, образованные соляной кислотой и щёлочами, должны быть вновь исследованы, и мне представляется весьма вероятным, что результат этого исследования покажет существование в растворах этих металлов […], существует соединение хлорида и соляной кислоты, объединённых в тех же пропорциях, что и в соединениях, о которых мы только что говорили».
(там же, лист 166).
Этот пример применения классификационного подхода к химии позволяет понять, что для Ампера классифицировать — это в более общем смысле значит следовать индуктивному методу, провозглашённому Бэконом и распространённому Энциклопедией [2]. В классификации индивиды соответствуют совокупности фактов, наблюдаемых учёным, — фактов, которые распределяются в зависимости от эмпирически установленных характеристик. Виды — это законы, открытые учёным благодаря постоянным соотношениям, выявленным классификацией свойств, связанных с опытными фактами. Наконец, роды — это причины, которые выражают аналогии между законами, открытыми ранее. Следовательно, классификация не является достоянием лишь химии или естественной истории; это не один инструмент среди других, а по сути парадигма, воплощающая экспериментальный метод.
От речи в Бурге, произнесённой в 1802 году, до Опыта философии наук (Essai de philosophie des sciences) 1834 года Ампер постоянно утверждал этот парадигматический характер классификации. Это последнее произведение вновь подчёркивает значение классификации в формировании научного знания, и фиксирует последовательное сведение: от сырых фактов к фактам, упорядоченным посредством эксперимента, и затем — от фактов к законам, а от законов к причинам (Ampère, 1834, с. XIX).
Однако различие, проведённое Ампером между разными уровнями классификации, предполагает четыре различные точки зрения на явления: автоптическая, то есть непосредственное наблюдение фактов; криптористическая, то есть поиск скрытого за фактами; тропономическая, то есть установление законов; и криптологическая, то есть определение общих причин, выражающихся в законах. Это также позволяет дифференцировать частные науки и, следовательно, классифицировать их. Интерес Ампера к классификации наук достигает вершины в его Опыте 1834 года, который представляет собой классификацию наук, прямо возобновляющую проект Бэкона, переданный через Энциклопедию [3]. Как утверждает Бэкон в книге О прогрессе и распространении знаний (1605), классификация наук равнозначна возможности «восстановления» науки путем выявления пробелов, существующих в «маленьком интеллектуальном глобусе» (Bacon, 1620, I, 84). Это выражение «маленький интеллектуальный глобус» побудило Шанталь Жаке назвать Бэкона «философом-мореходом» (2010, с. 8), подчеркнув, что картографирование наук позволяет составить «программу того, что ещё предстоит сделать», и предполагает «коллективную организацию исследования» (там же, с. 14). Облегчение открытий посредством организации и распространения науки — такова цель «продвижения знаний» Бэкона. И именно эти аргументы в пользу проекта классификации наук Ампер считал основополагающими для развития науки и её преподавания (Ampère, 1834, с. 17 и сл.).
Но зачем же возвращаться заново к классификации, предложенной Бэконом и распространённой через Энциклопедию? Для Ампера классификация наук предполагает размышление как об предмете каждой дисциплины, так и о специфической для неё точке зрения. Это, следовательно, предполагает рассмотрение способностей, которые составляют возможность познания. Однако, по мнению Ампера (1834, с. 3), слабое место классификации Бэкона заключается именно в её опоре на трихотомию человеческих способностей: память, воображение, разум (Bacon, 1605, с. 89). Эта трихотомия лежит в основе разделения на три фундаментальные науки: историю, поэзию и философию. По Амперу, Бэкон упустил реальное расчленение способностей мышления, и его классификация наук порочна отсутствием подлинного определения тех связей, которые могут быть уловлены человеческим духом.
Исходя из этого утверждения, Ампер открыто критикует классификацию наук, предложенную Бэконом. Её недостатки обнаруживаются в отмеченных аналогиях между некоторыми науками, которые на деле вовсе не схожи, и, напротив, в разобщении других, которые, как считает Ампер, связаны между собой тесным родством (1834, с. 3). Эти ошибки, по его мнению, объясняются тем, что Бэкон ограничился следованием существующему употреблению слов и остался пленником уже установленных названий. Ему следовало бы освободиться от укоренившихся в языке привычек, чтобы заново осмыслить аналогии между дисциплинами и связи, которые они поддерживают со способностями ума (Ampère, 1834, сс. 2–4). Эта критика показывает, что подлинный метод классификации должен, по Амперу, придавать большое значение эмпирическому исследованию: речь идёт о том, чтобы следовать духу наследия Бэкона, выходя за пределы его собственных заблуждений.
Классификация, таким образом, предполагает здесь надзорный, возвышающийся взгляд на отдельные науки. Классифицировать науки значит также классифицировать акты интеллекта (то, что Ампер называет в соответствии с употреблением его времени «психологией»). Эта последняя классификационная работа занимала Ампера более двух десятилетий, начиная с 1803 года. Следовательно, классификация является методом, присущим науке о науках, что, несомненно, объясняет важность метафизики в глазах Ампера. В 1814 году Ампер не колеблется писать своему другу Жаку Ру-Бордье, что его открытия в химии являются тем, что он «сочёл самым важным во всей [своей] жизни», но лишь «после того, что [он] сделал в метафизике» (Ampère, 1936, сс. 462–463). У Ампера термин «метафизика» имеет очень широкое значение и может охватывать три оси философского вопрошания: психологию, изучающую происхождение наших идей, функционирование наших способностей и их классификацию; философию наук, которая есть классификация наук, обосновывающая себя в классификации наших способностей; онтологию, которая ставит проблему соотношения наших идей с реальностью.
Таким образом, научная практика Ампера предполагает классификацию на трёх уровнях: классификацию наук, классификацию актов интеллекта и отождествление экспериментального метода с классификацией. Превращение классификации в парадигму научного подхода не является чем-то исключительным в начале XIX века, поскольку модель этой тройной классификации есть не что иное, как философия Бэкона, передаваемая в особенности через Энциклопедию. Поэтому необходимо углубить характеристики этого классификационного метода, восходящего к Бэкону, и проанализировать онтологические последствия этой методики, как они описывались в ту эпоху и как они проявились выше в проблеме произвольных наименований.
Наследие Бэкона: реформа научной практики и онтологический вызов
То, что классификация является парадигматическим воплощением экспериментального метода, унаследованного от Фрэнсиса Бэкона и проиллюстрированного Ньютоном, — это, в самом деле, мнение, которое находим не только у Ампера, но и у Мен де Биранa. В своём Мемуаре о разложении мышления, удостоенном награды Института в 1805 году, последний стремится определить философский метод, характерный для психологического исследования, и затем, чтобы дистанцироваться от него, он интересуется экспериментальным методом, который является классификационным и который должен быть объективным. Так как Биран и Ампер сблизились лишь после 1805 года, то труд Бирана 1804 года и речь Ампера 1802 года представляют собой два независимых свидетельства значения классификации и влияния Бэкона. Оба они ясно показывают, насколько интеллектуальная среда эпохи была проникнута определённой историей философии и науки, сосредоточенной на понятии классификации, и в которой героями выступали такие мыслители, как Бэкон и Ньютон, чему способствовали отчасти влияние Энциклопедии и господствующее положение Идеологии.
Французская философия в то время действительно была институционально и интеллектуально отмечена печатью Идеологии, во главе которой стоял Дестют де Траси, а медицинские и физиологические исследования Кабаниса сыграли для неё важную роль. Именно в рамках этого французского эмпиризма берёт начало история новой философии, начало которой восходит к Бэкону и которая продолжается в Локке и Кондильяке. Бэкон предстает здесь как тот, кто позволил философии освободиться от схоластических туманностей и полностью перейти к подлинно философскому методу, — методу экспериментальному. Для Идеологов он «открывает новую эру в истории […]. Траси может приписать ему открытие того, что наблюдение и опыт, чтобы собрать материалы, и дедукция, чтобы их обработать, — это единственные достоверные методы» (Goetz, 1993, с. 135).
История философии, изложенная в Мемуаре о разложении мышления, признает это бэконовское авторство, даже если цель Бирана заключается в том, чтобы основать новый философский метод, способный ответить требованиям психологии (Montebello, 1994, с. 28), то есть исследованию генезиса всех наших способностей (метод, получивший название субъективной рефлексии). Эта дистанция по отношению к экспериментальному методу, исходящему от Бэкона (Baertschi, 1982, с. 13), свидетельствует, в свою очередь, о том, что этот метод характеризует всякую науку, претендующую на то, чтобы дать объективное представление: для Бирана бэконовский метод соответствует подходу, которого должны придерживаться натуралисты, физики, химики и физиологи.
Это объективное представление, обеспечиваемое бэконовским методом, вполне соответствует классификации, которая исходит из наблюдаемых фактов и затем выявляет постоянные соотношения между ними. Первые тридцать страниц Мемуара посвящены рассмотрению понятия классификации, её достоинств и её ограничений: она позволяет дать сводку фактов, облегчая работу памяти и открывая возможность предсказаний, при этом кладёт конец спору о скрытых причинах и притязанию на знание самой сущности вещей, уточняя определение самого понятия причины. Мэн де Биран также подчёркивает пределы экспериментального метода, понимаемого как классификация: присущую разуму тенденцию искать систематическое единство и тем самым претендовать на определение причины любого явления; кроме того, классификация может оказаться результатом произвольного упорядочивания явлений, что ставит под угрозу саму возможность претензии на истину. Все размышления Бирана о методе классификации, заимствованном у Бэкона, фактически вращаются вокруг понятия причины, рассматриваемого как центр возможностей науки.
Первое достоинство классификации как научной практики состоит, таким образом, в её способности давать «резюме» (Maine de Biran, 1804, сс. 27–28) наблюдаемых фактов. В своей речи в Бурге Ампер также представлял классификационный подход как «единственное средство многому научиться за короткое время и облегчить память, формируя собственное суждение» (Ampère, 1936, т. 1, с. 111). Если классификация есть резюме, то потому, что, по Бирану, в ней воспроизводится индуктивный путь, рекомендованный Бэконом: исходить из множества наблюдаемых фактов, чтобы подняться к законам, а затем — к причинам. В соответствии с этой целью Биран интерпретирует закон как «класс» (Maine de Biran, 1804, с. 27) регулярных фактов. Причина же есть класс классов, поскольку она соответствует тождеству, воспринимаемому между различными законами. Биран также прибегает к примеру Ньютона, чтобы показать, что такая классификация в физике приводит к причине, называемой «тяготением». Она отсылает к множеству фактов, которые подчиняются законам, включающим некую идентичность, которую гений Ньютона сумел уловить (движение планет, явление приливов, падение любого тела на Землю, колебательное движение маятника и т. д.).
Исходя из бэконовской индукции, интерпретация понятия причины как класса имеет важное значение для того, на что наука может претендовать в познании. Второе достоинство классификации как научного подхода состоит, следовательно, в том, что она позволяет утверждать спасительный «научный агностицизм» (Gouhier, 1948, с. 84), характерный для духа до-позитивистской эпохи. Классификационный метод, как воплощение индукции, знаменует собой подлинный разрыв со схоластикой, что является большой заслугой Бэкона (Maine de Biran, 1804, с. 27). Говорить о научном или эпистемологическом агностицизме — значит утверждать невозможность познания субстанциальных причин, объясняющих реальное функционирование наблюдаемых фактов, и вместе с тем предотвращать умножение скрытых причин.
Здесь Биран проводит различие между двумя возможными интерпретациями понятия причины: легитимной — в терминах класса, и обскурантистской — в терминах субстанции. Первая — это то, что он называет «Xn», а вторая представляла бы собой «абсолютное X» (Maine de Biran, 1804, с. 28). «Xn» означает причину как совокупный класс множества опытных фактов; это иллюстрирует аналогию (в её этимологическом смысле), воспринимаемую учёным между n наблюдаемыми фактами. Говорить об «абсолютном X» означает, для Бирана, говорить о причине, которая действительно произвела наблюдаемое нами явление; речь уже идёт не о суммировании n опытных фактов, а о производящей причине единичного наблюдаемого явления. Пример тяготения, которое Биран рассматривает как причину, означает, что термин «тяготение» есть лишь класс, суммирующий, или резюмирующий аналогии, наблюдаемые между множеством различных фактов. «Тяготение» — всего лишь имя, не имеющее никакой реальности, независимой от множества фактов, которые оно суммирует. Для него существуют лишь наблюдаемые факты: тяготение, как класс, не имеет никакого реального существования, и о нём нельзя ничего знать. На вопрос «Что реально производит движение Земли?» нет научного ответа. Тяготение есть выражение аналогии, воспринимаемой между движением всех планет и движением тел на Земле. Иными словами, чтобы перефразировать выражение Ньютона, философски обоснованное Бираном: учёный не должен вымышлять гипотез, а обязан оставаться в пределах, налагаемых индукцией, исходящей из опытных фактов.
Определяя законы, а затем и причины, классификация лишь подчёркивает, до какой степени невозможно в действительности объяснить функционирование природы. Классификация отсылает только к именам, резюмирующим эмпирическое многообразие и позволяющим легко в нём ориентироваться, — к чисто номинальным абстракциям, связанным с индукцией. Каждая выявленная причина была бы, следовательно, одновременно «молчаливым и унизительным признанием нашего невежества» (Maine de Biran, 1804, с. 28). Из этого научного агностицизма Биран выводит психологическую необходимость для учёного свести к минимуму случаи такого признания. Таким образом, классификация неизбежно стремится к идеалу единства, при котором число причин сокращается благодаря теоретической деятельности учёного. Классификация, как воплощение экспериментального метода, тем самым подразумевает редукционистскую направленность научной теории. Уже в 1804 году Мэн де Биран упоминает попытки свести химические сродства к тяготению, а магнетизм — к электричеству (Maine de Biran, 1804, с. 29).
Таким образом, понятие причины у Бирана интерпретируется через номиналистическую теорию классификации (Azouvi, 2000, с. 105), что позволяет избежать метафизического спора о скрытых причинах и их реального существования. Научная практика оказывается таким образом освобождённой от всякого метафизического господства, поскольку учёный должен довольствоваться описанием аналогий, не претендуя на объяснение реального функционирования мира. Именно это классификационное понимание понятия причины оправдывает использование термина «пред-позитивизм» для характеристики начала XIX века во Франции. Оно также служит стимулом для научного исследования, которое стремится к прогрессу в классификации, сокращая число причин. Однако этот номинализм, связанный с классификационным методом, унаследованным от Бэкона, не лишён рисков для научной практики.
Первый из этих рисков, по мнению Бирана, связан с тенденцией к редукции до причинного единства, которая обнаруживает склонность разума возвращаться к «скрытому мотиву неизвестной внешней производительной силы» (Maine de Biran, 1804, с. 29). Учёные, следовательно, иногда поддаются иллюзии, что причинная редукция позволит уловить ту самую причину, которая реально действует в природе. Классификация перестала бы тогда просто предоставлять причину как имя, которое следует понимать как Xn, и превратилась бы в «абсолютное X». Против этой тенденции Мэн де Биран утверждает, что сокращение числа причин ничуть не меняет их интерпретации как класса, то есть как имени, простого обобщения, не обладающего никаким реальным существованием.
Для Бирана склонность забывать о чисто номинальном характере понятия причины идёт рука об руку с распространённым неведением относительно её происхождения. Именно здесь, по мнению Бирана, возникает риск идеализма, связанный с классификационным подходом. Понятие причины должно быть рассмотрено в его психологическом происхождении, чтобы объяснить философские основания научного метода. Этот тип подхода характерен для Идеологии, которая, в русле эмпиризма, стремилась объяснить происхождение наших идей, исходя из ощущения. Мэн де Биран выдвигает тезис, согласно которому понятие причины имеет чисто субъективное происхождение — в интимном сознании волевого акта (Baertschi, 1982, сс. 32 и след.). Для него субъект может осознавать, что он прилагает усилие, чтобы произнести звуки, и, следовательно, что он является причиной этих звуков, которые слышит (Henry, 2011, с. 110). Точно так же он осознаёт себя причиной усилия давления, оказываемого его рукой на предмет, который ему сопротивляется. Следовательно, понятие причины имеет субъективное происхождение, и нигде во внешнем мире человек не может с уверенностью найти причину, которая действует (Montebello, 1994, с. 196 и след.). По Бирану, мы лишь выводим, исходя из субъективного опыта нашего причинного могущества, что вне нас существуют причины, упорядочивающие наблюдаемые нами явления. Этот причинный порядок, который мы предполагаем во внешнем мире, учёный надеется обнаружить с помощью классификации. Но в Мемуаре о разложении мышления нет никаких гарантий, что такой порядок существует и что классификационные решения позволяют его обнаружить: порядок природы и наличие постоянных причин остаются верой, а вовсе не установленным фактом.
Номинализм, связанный с классификацией, и приписывание субъективного происхождения понятию причины поднимают, таким образом, вопрос об онтологической значимости научного знания. Исходя из экспериментального метода, лежащего в основе классификации, можно ли утверждать, что соотношения, которые она выражает, соответствуют реальности? Такова, по анализам Мэна де Бирана, философская проблема, сопряжённая с бэконовским наследием, когда экспериментальный метод интерпретируется в терминах классификации. Бирановская позиция здесь является симптомом сомнения, встречающегося также и внутри самой научной практики и не могущего быть игнорированным учёными, если они не хотели пользоваться инструментом, значение которого они не контролировали. Учёные же XVIII и начала XIX века были осведомлены об этой трудности, и история их дисциплин уже показывала, что классификационные попытки могли давать сбои.
Пример Ампера здесь представляет собой случай взаимосвязи между научной практикой и философией. Его классификационный подход и является именно той точкой взаимодействия, посредством которой он отвечает на онтологический вызов, стремясь продемонстрировать возможность подлинного знания, в котором соотношения отражают саму структуру реальности, а не являются лишь плодом произвольных решений. Важным инструментом здесь становится различие между классификацией произвольной и классификацией естественной.
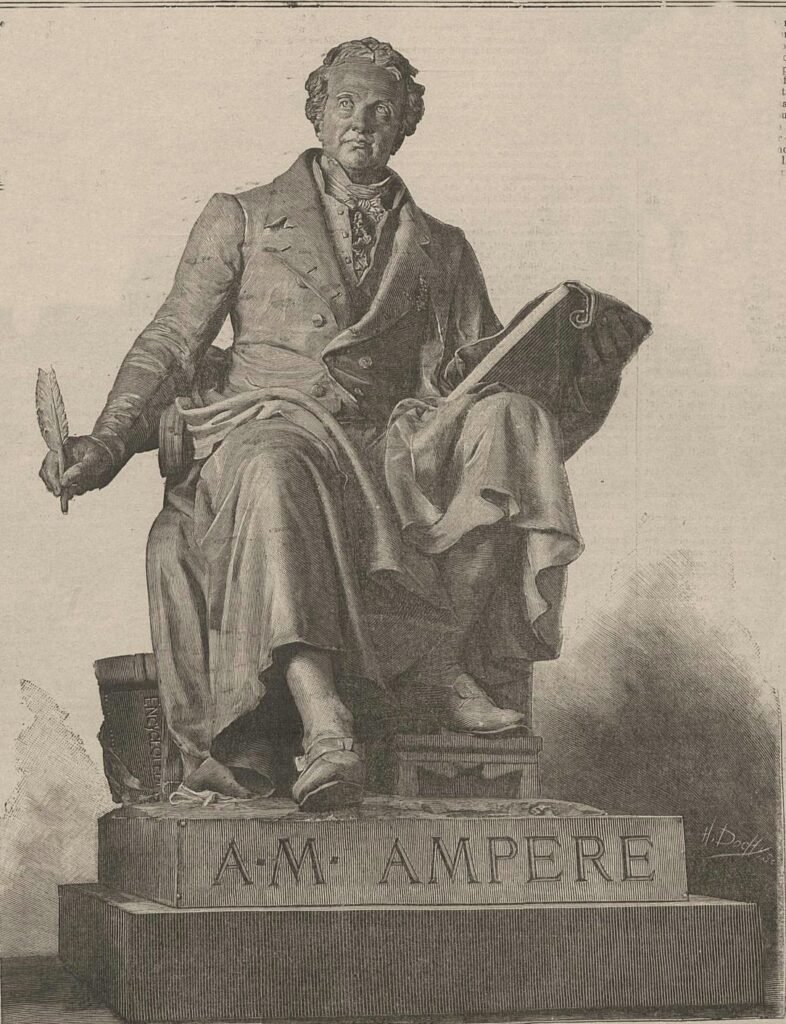
Естественная классификация, теория соотношений и онтологическое обязательство
Для Ампера, как и для Бирана, экспериментальный метод и индукция могут быть охарактеризованы как классификация. Но, помимо этой философской ассимиляции, сама научная практика Ампера и названия его публикаций показывают его стремление обосновать свои классификации так, чтобы их нельзя было считать простыми произвольными делениями. В химии статьи, которые он публикует в 1816 году, носят заголовок: Опыт естественной классификации простых тел. Точно так же в 1834 году он дополняет заглавие своего Опыта о философии наук подзаголовком: Аналитическое изложение естественной классификации всех человеческих знаний. В обоих случаях Ампер явно претендует на то, что предлагает именно естественные классификации. Уже в конце первой декады XIX века в его мысли вырисовывается центральная проблематика — вопрос об онтологической значимости знания. Переписка Мэна де Бирана и Ампера показывает, насколько последний видел проблему вмешательства субъективности и произвола в познание (Maine de Biran, 2000, сс. 211–217). Проблема заключалась не только в субъективном происхождении некоторых идей, центральных для познания: сама классификация предполагает, что учёный должен делать выбор.
Учёный, во-первых, должен проводить эксперименты, и это не совершается наугад. Затем он должен определить законы, и это предполагает выбор критериев сравнения. Наконец, поиск причин требует теоретических решений относительно того, какие критерии принять (Ampère, 1834, с. XIX). Проблема возникала бы, например, в вопросе о том, предполагает ли электродинамика использование идеи причины-действия на расстоянии, мыслимой по модели тяготения (такой выбор он делает в своём знаменитом труде по электродинамике 1826 года), или же утверждение причины, действующей постепенно, от точки к точке, и связанной с динамикой особого флюида — это убеждение он, например, выражает в письме к Огюсту де Ла Риву от 2 июля 1824 года (об этой колеблемости см. Blondel, 1982, сс. 161 и след.; Caneva, 1980). Каждый классификационный уровень предполагает сокращение многообразия; и каждое сокращение предполагает выбор, чтобы его осуществить. Таким образом, ошибка Бэкона в его классификации наук заключалась бы именно в произвольности его решений, показывающей, что он не сумел правильно определить человеческие способности, оправдывающие его классификацию. Будь то субъективное происхождение наших идей или выборы, совершаемые в научной деятельности, риск заключается в отрицании самой возможности того, что классификация может быть истинной, то есть соответствовать порядку, который реально присутствует в действительности. Весь вопрос для Ампера состоит, следовательно, в том, является ли классификация произвольным порядком, навязанным учёным феноменам, или же она открывает порядок, который уже присутствует в природе. Употребляя в явной форме выражение «естественная классификация», он ясно принимает сторону в пользу возможности открытия естественного порядка.
Это выражение несомненно унаследовано у натуралистов, и в особенности у ботаника Бернара де Жюссьё (1699–1777), которого Ампер прямо называет за его разрыв с классификацией растений шведского натуралиста Линнея (1707–1778) (Ampère, 1834, с. 2). Классификация Бернара де Жюссьё была затем систематизирована и расширена его племянником Антуаном-Лораном де Жюссьё (1748–1836). Последний в 1789 году опубликовал труд под названием Genera plantarum secundum ordines naturales disposita (Jussieu, 1789), а затем, в 1824 году, статью под названием «Принципы естественного метода растений» (Principes de la méthode naturelle des végétaux, Jussieu, 1824). Ампер, несомненно, читал оба этих сочинения [4], которые опираются на одни и те же методологические принципы.
Точно так же Жорж Кювье (1769–1832) остался знаменитым благодаря развитию сравнительной анатомии, и именно в этом качестве Ампер на него ссылается (1834, с. 8). Сам Кювье обращался к Бэкону в своих лекциях в Коллеж де Франс, где преподавал и Ампер. Здесь индукция утверждалась как метод науки, а Бэкон представлялся как один из мыслителей, совершивших «полную революцию в идеях». Хотя Кювье придавал мало значения конкретным результатам исследований Бэкона, он всё же приводил в пример его работы о теплоте, чтобы проиллюстрировать его метод классификации через таблицы присутствия, отсутствия и степеней (Cuvier, 1841, сс. 272 и сл.). Будучи другом семей Кювье и Жюссьё, Ампер заимствует у них центральный пункт «естественного метода» классификации: проведение эмпирического исследования, максимально исчерпывающего, характеристик и соотношений, присущих изучаемым объектам, а затем их объединение на основании выявленных аналогий.
Тот факт, что Ампер считает, вместе с Жюссьё (1824, с. 9), что существует естественный порядок, который учёный может надеяться открыть благодаря прогрессу своих классификаций, прямо отвечает на подозрение в том, что классификация могла бы быть лишь субъективным и произвольным производством имён, не соответствующих ничему в реальности. Даже если «науки создаются человеком и для человека» (Ампер, 1834, с. 3), классификации не были бы обречены на произвол, но позволяли бы, благодаря эмпирическому исследованию, открыть реальный порядок. В этом смысле деятельность субъекта и его выборы оправдывались бы апостериори согласованностью его классификации и постоянством соотношений, которые она описывает.
Ссылаясь на идеал естественной классификации, Ампер остаётся ещё и косвенно верен духу метода Бэкона. Действительно, Бэкон настаивает на мысли, что «истинная и законная индукция» есть «сама ключевая основа истолкования» (Бэкон, 1620, II, 10). И вот, даже критикуя классификацию наук, предложенную Бэконом, Ампер утверждает необходимость найти «ключ», который позволил бы оправдать ту классификацию, которую он сам предлагает [5]: «Моей классификации требовался своего рода ключ, подобный тому, который г-н де Жюссьё, чтобы классифицировать естественные семейства растений, вывел из числа семядолей, из прикрепления тычинок, из отсутствия или наличия венчика» (Ампер, 1834, с. XIV).
У натуралистов ключом является принцип подчинения признаков, на который Ампер здесь косвенно ссылается. Этот принцип, состоящий в организации классификации в зависимости от признаков, постоянных внутри класса и переменных в других, соответствовал бы истинной и законной индукции. Таким образом, метафора ключа у Ампера, как у Бэкона и у натуралистов, выявляет то, что позволяет преодолеть риск произвола, оправдывая притязание на познание естественного порядка. Это не простое пассивное наблюдение даёт возможность познать этот порядок, но экспериментальная деятельность, в которой природа ставится «под вопрос» (Жаке, 2010, с. 8).
Сам опыт Ампера в области практики классификации не мог не привести его к утверждению, что классификация есть результат прогресса и последовательных изменений, связанных с новыми соотношениями, которые открываются всё более исчерпывающим сравнительным исследованием характеристик классифицируемых объектов. «Совершенство» (Ампер, 1834, с. 10) классификации было бы, таким образом, горизонтом эмпирического и поступательного подхода, который надеется достичь порядка, присущего природе, и который предполагает беспрерывное обсуждение существующих классификаций сообществом учёных.
Химическая классификация Ампера также опирается на работы французских натуралистов (Locqueneux, 2009, сс. 3–8). Подобная классификация должна основываться на максимально полном учёте химических реакций, эмпирически зафиксированных. Цель заключается в том, чтобы сблизить тела, обладающие наибольшим количеством сходств в связанных с ними реакциях (и, в этом смысле, одного лишь выделения какого-либо одного типа реакции недостаточно). Эта классификация соответствует «тропономической» точке зрения, в рамках которой учёный стремится отразить постоянные соотношения, в которые вовлекаются различные простые тела при химических реакциях.
Однако Ампер не ограничился тем, что свёл различные химические реакции к классификации простых тел. В 1814 году он также стремился объяснить химические комбинации, исходя из математической теории, вдохновлённой кристаллографией Рене Жюста Гаюи (1743–1822) и экспериментальными результатами Луи Жозефа Гей-Люссака (1778–1850). Эта геометрическая теория химического соединения, хотя и предшествующая классификации простых тел, позволяет понять научный подход Ампера, роль математизации и её связь с тем, что принято называть его теорией соотношений (Locqueneux и Scheidecker Chevallier, 1994).
Геометрия позволила бы определить пространственные соотношения, заключённые в химических комбинациях, и это соответствовало бы тогда «криптологической» точке зрения, согласно которой в классификации необходимо восходить к причинам ранее установленных законов. Опыт о философии наук подтверждает этот анализ, переименовывая кристаллографию в «молекулярную геометрию», определяемую как «науку, имеющую предметом определение того, что называют первичными формами в телах, способных кристаллизоваться, на основании вторичных форм, данных наблюдением, или, наоборот, объяснение существования вторичных форм, когда известны первичные» (Ампер, 1834, с. 48). Кристаллография представляла бы собой, таким образом, образцовый тип науки, претендующей дать каузальное объяснение (геометрического порядка) феноменологическому химическому наблюдению и законам, установленным на основании постоянных соотношений, выявленных в опыте. Переход от тропономической точки зрения к криптористической в рамках классификации означал бы для Ампера возможность описывать причинные связи, реально присутствующие в природе.
Ампер защищает теорию отношений, утверждая, что если сама природа вещей остаётся для нас непознаваемой, то человек, напротив, может познавать отношения между этими вещами (Marcovich, 1977). Именно эти отношения в идеале должны быть выявлены в классификации. Как это уже проявлялось в подходе французских натуралистов, классификация должна выражать, исходя из эмпирического описания признаков каждого индивида, постоянные связи между этими признаками. Так, классификация Линнея часто критикуется как произвольная. Деления на роды и виды, которые она предлагает посредством своих наименований, основывались бы лишь на выборе поверхностных критериев, привязанных «к некоторым из внешних органов, более лёгких для изучения» (Жюссьё, 1824, с. 9), и, следовательно, не отражали бы постоянных связей между всеми частями организма живого существа. В этом смысле знать, что такое то или иное животное или растение, значит не познавать изолированно его собственную природу, а познавать постоянные связи, которые поддерживаются между различными частями его анатомии, а также аналогии и различия с другими организмами. В классификации знание есть, таким образом, именно знание отношений, и сам индивид познаётся лишь в соотношении с другими индивидами.
Если Ампер действительно принимает эпистемологический агностицизм, утверждающий, что сама природа каждой вещи ускользает от познания, то он всё же отвергает мысль, что этот агностицизм ставит под вопрос возможность объективного знания, сводя её к простому номинализму или идеализму, основанному на субъективной деятельности учёного. Его цель состоит в прояснении способов этого объективного знания. Это, разумеется, не есть знание самой природы внешнего по отношению к субъекту объекта, но знание отношений между объектами, остающимися сами по себе непознаваемыми. Именно прогресс эмпирического исследования характеристик изучаемых объектов и математический поиск постоянных соотношений внутри этих характеристик позволяют рассматривать возможность поступательного движения к классификации действительно естественной [6]. Такая классификация тогда могла бы претендовать на соответствие связям, реально присутствующим в природе.
Изучение научной практики Ампера и анализ её философского контекста позволили выявить важные элементы для понимания классификационного подхода, который предстает как философская модель научного метода в русле традиции Бэкона. Интерпретация этого бэконовского наследия, осуществлённая Мэн де Бираном, приводит к эпистемологическому агностицизму, который ставит под угрозу сам порядок классификации, сводя его к простому номинальному порядку, навязанному природе произвольной деятельностью учёного. Чтобы ответить на этот онтологический вызов, научная практика Ампера возобновляет идеал «естественной классификации», присутствующий у натуралистов. Всестороннее эмпирическое исследование, математизация и дискуссия между учёными позволяют в идеале выстроить порядок, который не был бы навязан природе, но совпадал бы с самим порядком природы. Утверждение возможности естественной классификации придаёт, таким образом, смысл и надежду на прогресс научной деятельности, отвергая её сведение к произвольной и субъективной практике.
Рассмотрение философской структуры, обосновывающей этот онтологический выбор Ампера, показало бы, что он предполагает исправленный кантианство, отказ от наивного эмпиризма [7] и укоренён в религиозном убеждении (Lewandowski, 1936), оправдывающем надежду на познание порядка природы, независимого от человеческого духа. Как бы то ни было с этими философскими аргументами, его научная практика наглядно иллюстрирует стремление сохранить онтологическую установку, сопряжённую с классификационным методом.
Примечания
- Мы выражаем благодарность двум анонимным рецензентам Revue, чьи замечания и комментарии способствовали улучшению и уточнению настоящей статьи.
- О значении Энциклопедии, но также, например, и Бюффона, в распространении философии Бэкона во Франции вплоть до начала XIX века см.: Adam, 1890, с. 349 и след.
- Жак Мерло-Понти настаивает на этом возвращении к проекту Энциклопедии, однако он тогда отбрасывает бэконовское вдохновение, хотя у Ампера оно явно присутствует (Merleau-Ponty, 1977, с. 114).
- Genera plantarum фигурирует в описи библиотеки Ампера, и сам он прямо цитирует этот труд в Опытe (Ampère, 1834, с. XXXIII).
- Об организации амперовской классификации наук см.: Merleau-Ponty, 1977.
- Хотя работа Дюгема значительно позднее, чем у Ампера, можно заметить, что она также описывает физическую теорию через идеал естественной классификации (Duhem, 2007). Несмотря на критику индуктивизма Ампера, предпринятую Дюгемом, можно показать родство их аргументативных стратегий, что мы рассматриваем в статье, готовящейся к публикации («Ампер и Дюгем: естественная классификация и онтологические обязательства»).
- Мы затрагиваем некоторые аспекты этого стремления исправить кантианство в статьях «Ampère et le fantôme de Kant» (в печати, Philosophia Scientiæ, 2015) и «The Kantian Legacy in French Empiricism during the Early 19th Century» (в печати, Kant Yearbook, 2015).
Библиографические ссылки
- Adam Charles (1890), Philosophie de Francis Bacon, Paris, Félix Alcan.
- Alembert Jean Le Rond d’ (1894), Discours préliminaire de l’Encyclopédie, Paris, A. Colin.
- Ampère André-Marie (1816), « Essai de classification naturelle pour les corps simples », Annales de Chimie et de Physique, 1 et 2 : pp. 295-308 et pp. 373-410 ; pp. 5-22 et pp. 105-125.
- Ampère André-Marie (1826), Théorie mathématique des phénomènes électro-dynamiques, uniquement déduite de l’expérience, Paris, A. Hermann, 1883 pour l’édition utilisée.
- Ampère André-Marie (1834), Essai sur la philosophie des sciences, ou Exposition analytique d’une classification naturelle de toutes les connaissances humaines. Première partie, Paris, Bachelier.
- Ampère André-Marie (1936), Correspondance du grand Ampère, Paris, Gauthier-Villars.
- Azouvi François (2000), Maine de Biran, la science de l’homme, Paris, Vrin.
- Bacon Francis (1605), Du progrès et de la promotion des savoirs, Paris, Gallimard, 1991 pour l’édition utilisée.
- Bacon Francis (1620), Novum organum, Paris, Puf, 2010 pour l’édition utilisée.
- Baertschi Bernard (1982), L’Ontologie de Maine de Biran, Fribourg, Éditions universitaires.
- Blondel Christine (1982), Ampère et la création de l’électrodynamique (1820-1827), Paris, Bibliothèque nationale.
- Caneva Kenneth (1980), « Ampère, The Etherians, And The Œrsted Connec- tion », British Journal for the History of Science, n° 13, pp. 121-38.
- Cuvier Georges (1841), Histoire des sciences naturelles. Deuxième partie comprenant les 16e et 17e siècles, Paris, Fortin et Masson.
- Deleule Didier (2010), Francis Bacon et la réforme du savoir, Paris, Éditions Hermann.
- Duhem Pierre (2007), La Théorie physique : son objet, sa structure, Paris, Vrin.
- Goetz Rose (1993), Destutt de Tracy : philosophie du langage et science de l’homme, Genève, Librairie Droz.
- Gouhier Henri (1948), Les Conversions de Maine de Biran, Paris, Vrin.
- Henry Michel (2011), Philosophie et phénoménologie du corps, Paris, Puf.
- Jaquet Chantal (2010), Bacon et la promotion des savoirs, Paris, Puf.
- Jussieu Antoine-Laurent de (1789), Genera plantarum : secundum ordines naturales disposita juxta methodum in Horto Regio Parisiensi exaratam, Paris.
- Jussieu Antoine-Laurent de (1824), Principes de la méthode naturelle des végétaux (article extrait du XXXe volume du Dictionnaire des sciences naturelles), Paris.
- Launay Louis de (1925), Le Grand Ampère, Paris, Librairie Académique Perrin.
- Lewandowski Maurice (1936), André-Marie Ampère la science et la foi, Paris, Grasset.
- Locqueneux Robert (2009), « André-Marie Ampère ou la passion des classifications naturelles » (texte issu d’une conférence à Lille dans le cadre du séminaire « Pourquoi classer ? »).
- Locqueneux Robert et Scheidecker Chevallier Myriam (1994), « La théorie mathématique de la combinaison chimique d’André-Marie Ampère », Revue d’histoire des sciences, n° 47(3), pp. 309-352.
- Maine de Biran Pierre (1804), Mémoire sur la décomposition de la pensée, Paris, Vrin, 1988 pour l’édition utilisée.
- Maine de Biran Pierre (2000), Correspondance philosophique Maine de Biran-Ampère, Paris, Vrin.
- Marcovich André (1977), « La théorie philosophique des rapports d’André-Marie Ampère », Revue d’histoire des sciences, n° 30(2), pp. 119-123.
- Merleau-Ponty Jacques (1977), « Essai sur la philosophie des sciences d’Ampère », Revue d’histoire des sciences, n° 30(2), pp. 113-118.
- Montebello Pierre (1994), La Décomposition de la pensée : dualité et empirisme transcendantal chez Maine de Biran, Grenoble, J. Millon.
- Valson Alphonse (1886), La Vie et les travaux d’André-Marie Ampère, Lyon, Vitte et Perrussel.
