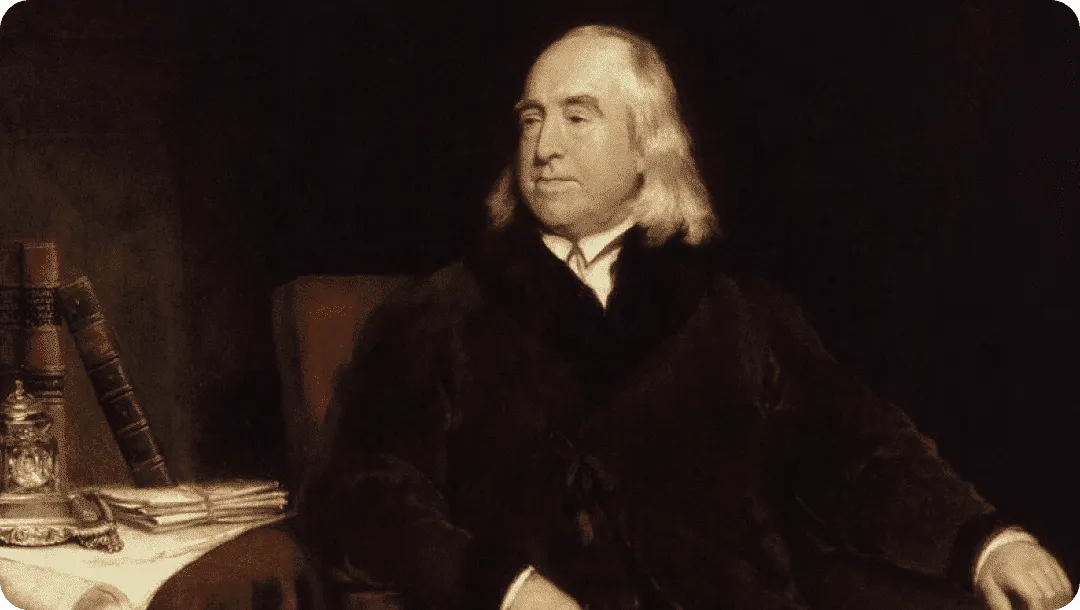
Автор текста: Маттиас Хёш (Matthias Hoesch)
Опубликовано онлайн издательством Cambridge University Press: 18 января 2018 г.
Из журнала Utilitas, Volume 30, Issue 3
Оригинал на английском
Аннотация: Общеизвестно, что Бентам находился под влиянием идей Гельвеция. Однако тот факт, что Бентам заимствовал некоторые элементы у Гельвеция, подводит нас к вопросу о том, как он изменил идеи Гельвеция и в каких отношениях он стремился продвинуться дальше Гельвеция. Исходя из утверждения Бентама, что Гельвеций был Бэконом нравственной науки, тогда как он сам должен был стать Ньютоном, я утверждаю следующее. Во-первых, теорию Бентама можно понимать как попытку подробно разработать теоретическую программу, которую наметил Гельвеций для реформы нравственной философии. Во-вторых, в отличие от Гельвеция, теория Бентама руководствуется соображениями осуществимости, и это приводит к более умеренным утверждениям, чем у Гельвеция. В-третьих, тогда как Гельвеций не показал, каким образом утилитарные принципы должны влиять на политические решения, в подходе Бентама граждане, и особенно философы, рассматриваются как активные политические агенты.
В нескольких местах Джереми Бентам упоминает сочинения Клода Адриана Гельвеция как определяющие для его собственной философии. Согласно автобиографическим заявлениям Бентама, лишь после прочтения главного труда Гельвеция De l’esprit он решил сосредоточиться на философии права, политической теории и политике.¹ В краткой версии своей статьи об утилитаризме он утверждает в третьем лице, что «г-н Бентам неоднократно говорил, что он обязан [De l’esprit] немалой частью пылкости своего желания сделать свои труды полезными для человечества в максимально возможном масштабе».² Бентам, конечно, иногда пытается дистанцироваться от Гельвеция, но утверждение явно преобладает. В письме к д’Аламберу он пишет, что вся его система основана на гельвецианских идеях.³ Его тетрадь для выписок содержит утверждение, что право должно почерпнуть у Гельвеция руководящие принципы для своей «материи», то есть для своего содержания.⁴ Не меньше он восхваляет Гельвеция как образец использования точного и адекватного языка.⁵
В частности, Бентам возводит принцип полезности к Гельвецию. В письме к Вольтеру он пишет: «Я строил исключительно на фундаменте полезности, заложенном Гельвецием».⁶ Боэринг цитирует его следующим образом: «Монтескьё, Баррингтон, Беккариа и Гельвеций, но больше всего Гельвеций, привели меня к принципу полезности».⁷ Определение Гельвецием справедливого человека как человека, чьи действия служат общественному благу, для Бентама заключает «больше полезной истины, чем содержится во всех томах этики».⁸ Согласно другим местам, именно у Гельвеция Бентам впервые встретился с принципом полезности: «Я не мог бы легко подумать, что он [принцип полезности] был нов для кого-то, если бы не вспомнил, что до того, как я прочитал Гельвеция, он был нов даже для меня самого».⁹ В другом месте Бентам упоминает, что его убеждения о связи интереса и мнения, а также о психологических причинах дурного поведения также восходят к Гельвецию.¹⁰
Но поскольку в других случаях Бентам делает противоположные заявления относительно своих источников, эти замечания не дают достаточного основания утверждать, что Бентам обязан своими идеями исключительно Гельвецию, а не другим источникам, которые он сам упоминает, а именно Эпикуру, Юму, Локку, Пристли, Беккариа и д’Аламберу.¹¹ Они также не показывают точно, какими именно конкретными теоремами Бентам обязан Гельвецию. На основании существующих текстовых свидетельств, по-видимому, трудно доказать подобные утверждения.
Следовательно, в литературе большинство авторов в общих выражениях утверждают, что Гельвеций сыграл «значительную роль»¹² в становлении философии Бентама. Обычно они ссылаются на различные сходства, такие как идея полезности, теория действия и утверждение, что решающим средством применения принципа полезности является законодательство.¹³ Почти никто из авторов не пытается показать, что конкретные понятия или теоретические особенности восходят к Гельвецию.¹⁴ До настоящего времени наиболее развернутые утверждения сделал Фредерик Розен. Он утверждает, что Гельвеций научил Бентама, помимо важности таких понятий, как удовольствие, боль, интерес и законодательство, использовать принцип полезности в предписывающих целях, тогда как Юм использовал его лишь с описательной целью. С другой стороны, Розен утверждает, что Гельвеций выступает за «царство добродетели», где законодатель может неограниченно вмешиваться в личную жизнь, тогда как Бентам разработал представление об автономной сфере частной морали, выходящей за рамки законодательства. Таким образом, согласно Розену, Бентам рассматривал мораль как потенциально противоположную законодательству.¹⁵ Однако, поскольку и Бентам, и Гельвеций довольно неоднозначно оценивают границы политического действия, Розен вынужден снабдить свои утверждения оговоркой «возможно».¹⁶
В настоящей статье я хотел бы защитить некоторые утверждения, которые выходят за рамки общепринятого представления о наличии определённого влияния, но при этом учитывают ограниченность того, что мы знаем на основании существующего текстового материала. Мне представляется возможным прояснить отношения между Бентамом и Гельвецием, поставив вопрос о том, каким образом Бентам пытается использовать идеи Гельвеция. Как Бентам использует идеи Гельвеция и как он пытается их развить? Чтобы ответить на этот вопрос, нет необходимости доказывать, что Бентам следует именно за Гельвецием, а не за другими авторами. Достаточно предположить, что Бентам действительно следует за Гельвецием, и показать, в каких именно отношениях он это делает. Двигаясь в этом направлении, я приду к некоторым результатам, которые могли бы подтвердить модифицированную версию утверждения Розена о наличии некоего разногласия между Бентамом и Гельвецием.
Я хотел бы выдвинуть предположение, что способ, каким Бентам обращается с гельвецианскими идеями, является не столько содержательной ревизией основных идей нравственной философии Гельвеция, сколько переходом от чисто теоретического понимания философии к практическому. Хотя сам Гельвеций уже пытался сформулировать философию, ориентированную на практическую пользу, по мнению Бентама, он не сумел выйти за рамки теории, и Бентам видел свою задачу в том, чтобы из гельвецианских идей создать подлинную «философию практики». Я хотел бы обосновать это предположение тремя путями.
- Во-первых, я хочу показать, что все основные элементы философии Бентама можно понимать как попытку разработать гельвецианскую программу реформы практической философии в отношении к конкретным областям действия и реализовать её на практике. Мои доказательства здесь исходят из совпадения между самоописанием Бентама и тем, что действительно можно найти у Гельвеция (раздел I) и у Бентама (раздел II).
- Во-вторых, я приведу доказательства того, что переход к практике сопровождается ориентацией на практическую реализуемость нормативных идей, что, в свою очередь, связано с определёнными изменениями этих идей. Это можно показать, сопоставив Бентама и Гельвеция в вопросе осуществимости (раздел III).
- В-третьих, я утвержу, что между De l’esprit Гельвеция и более поздним Бентамом представление о том, какие именно агенты необходимы для реализации нормативных идей, радикально изменяется: тогда как Гельвеций отдаёт предпочтение пониманию политики «сверху вниз», Бентам всё больше обращается к модели политики среднего класса. Я постараюсь показать это, обсуждая роль гражданина у Гельвеция и Бентама, а также освещая политическую деятельность самого Бентама (раздел IV).
Для начала я рассмотрю самоописание Бентама, упомянутое выше. Оно основано на цитате, которая, будучи единственным отрывком из рукописи UC xxxii. 158, включённый в Economic Writings, изданные Вернером Старком, уже давно известна исследователям.¹⁷ Однако, пытаясь дать более убедительную интерпретацию, я в ходе своей аргументации неоднократно буду ссылаться на ранее неопубликованную часть рукописи, любезно предоставленную мне Проектом Бентама при Университетском колледже Лондона.¹⁸ В 1780-е годы, в качестве введения к задуманному, но так и не разработанному крупному труду о Гражданском кодексе, Бентам пишет:
Настоящая работа, как и все другие работы того же автора, которые были или могут быть опубликованы в будущем по законодательству или любой другой отрасли моральной науки, представляет собой попытку распространить экспериментальный метод рассуждения из физического мира на мир нравственный. Тем, чем был Бэкон для первого, Гельвеций был для второго. Он заложил основы, единственно верные основы моральной науки; но, сделав достаточно для одного человека и больше, чем сделал кто-либо другой, он на этом остановился, оставив надстройку, чтобы её возвели уже другие руки. Таким образом, мир нравственности получил своего Бэкона, но его Ньютону ещё только предстоит появиться.¹⁹
Здесь Бентам намекает на распространенное в то время мнение о том, что современная научная революция совершается в два этапа.²⁰ Согласно этому взгляду, Бэкон отверг схоластику, сочтя её бесполезной, и разработал новый метод эмпирического исследования, но пока это оставалось лишь манифестом. Реализация нового метода, которая в конечном итоге привела к мощным новым открытиям, началась только с появлением Ньютона. Бентам переносит эту двухступенчатую модель на нравственную науку, и из его слов ясно, что он сам хотел бы стать Ньютоном нравственной науки.
И всё же не следует преувеличивать значение аналогии с отношениями Бэкона и Ньютона. Во-первых, в текстах Бентама есть места, которые говорят об обратном. Например, Бентам также претендует на то, чтобы быть Бэконом нравственной науки. Он задумывает написать труд под названием «Novum organon Juris», то есть перенести «Novum organum scientarium» Бэкона на практическую философию. Во-вторых, приведённый отрывок отмечен риторикой, которая, возможно, бросает на Гельвеция менее лестный свет, чем кажется на первый взгляд. В некоторых отношениях Гельвеций уже был близок к тому, чтобы стать Ньютоном нравственной науки, перенося такие термины, как «вселенная» и «законы движения», на область нравственности²¹ и объясняя человеческие действия единым законом.²²
Тем не менее, цитата слишком ясно показывает, что, с одной стороны, Бентам хочет перенять идеи Гельвеция, но, с другой стороны, не желает останавливаться на этом — и это касается не только периферии, но и самого ядра его теоретического развития («настоящего труда, как и всякого другого труда»). Можно ли доказать, что Бентам действительно стремится к этой цели в своих сочинениях? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо объяснить, в каких именно отношениях Бентам мог видеть в Гельвеции Бэкона нравственной науки.
I
ГЕЛЬВЕЦИЙ КАК БЕКОН НРАВСТВЕННОЙ НАУКИ
Отправной точкой эпистемологии Гельвеция является сенсуализм, который рассматривает все человеческие суждения как ощущения.²³ Из этого Гельвеций заключает, что нравственные суждения нельзя разделить на правильные и неправильные с помощью критерия рациональности; более того, суть философии заключается в том, как люди судят фактически. По его мнению, если наблюдать за нравственными суждениями людей, то обнаруживается, что они всегда ориентированы на интересы того, кто выносит суждение,²⁴ и что то, что считается их интересом, зависит исключительно от категорий удовольствия и боли.²⁵ Таким образом, когда отдельный человек формирует суждение о каком-либо действии, он всегда судит в свете собственного интереса, выгоды. А раз он также всегда действует в соответствии со своими суждениями, Гельвеций одновременно утверждает психологический эгоизм.
Гельвеций объясняет якобы альтруистические поступки тем, что некоторые люди — будь то в силу физических или образовательных факторов, — имеют потребности, побуждающие их к таким поступкам, например, «весёлый нрав, сильное стремление к славе и уважению». Однако такие от природы светлые натуры редки: «Но число этих людей столь мало, что я упоминаю о них лишь к чести человечества».²⁶
Чтобы перейти от психологического эгоизма к критерию нравственности, Гельвеций вводит общественное суждение, противопоставляя его индивидуальным суждениям. Первое суждение также является чувством и, как таковое, определяется не разумом, но также интересом. Однако здесь интерес уже не частный, а общий, направленный на наибольшее благо для большинства людей. Таким образом, общественное суждение образует «подлинную честность».²⁷ Гельвеций ясно считает, что суждение публики не является случайной суммой множества индивидуальных суждений, а напротив, развивает своего рода объективность. Публика «защищена от влияния, свободна от всякого частного интереса»; она судит «как сторонний наблюдатель».²⁸ И всё же объективность или «непогрешимость» публики относится лишь к пренебрежению частными, индивидуальными интересами. Даже публика может быть введена в заблуждение относительно того, что служит её собственному общему интересу.
Из этой принципиальной возможности заблуждения следует, что определение «истинной» добродетели, хотя изначально и ссылалось лишь в описательном смысле на фактические суждения широкой общественности, таит в себе значительный критический потенциал: многое из того, что в некоторых обществах считается добродетельным, теряет свой добродетельный характер, когда подвергается сомнению его реальный вклад в общественное счастье. Сюда входят, например, ритуальные действия различных религий. Гельвеций перечисляет, как в Индии людей, позволяющих себя съесть крокодилам, считают святыми; как на острове Формоза (ныне Тайвань) жрицы сбрасывают с себя всю одежду и катаются по земле; и как в Индостане люди поклоняются половым органам брахманов.²⁹ И всё же, между строк ясно читается, что он столь же явно питает отвращение к ритуальным предписаниям и нравственным директивам христианства. Гораздо более значительным, чем эта критика религии, однако, является критический импульс, направленный на политику.³⁰ Отношение между эгоистическими действиями индивидов и нравственным принципом есть отношение напряжённости, которое может быть разрешено только политическим путем:
«Все люди стремятся лишь к собственному счастью; от этой тенденции их невозможно отвратить; эта попытка была бы бесплодной, а даже успех – опасным; следовательно, только путем соединения личного и общего интереса можно сделать их добродетельными. Если это признать, то нравственность, очевидно, есть не что иное, как пустая наука, если она не соединена с политикой и законодательством».³¹
Как показывает эта цитата, Гельвеций в конечном счёте озабочен добродетелью человечества, то есть классической категорией индивидуальной этики. В то же время становится очевидным, что этой цели можно достичь лишь посредством политики. В этой мере нравственная философия трансформируется в проект, связанный с политической пластичностью общества: объектом теоретического интереса становится уже не сама добродетель, а политические условия, в которых возникает добродетельное действие. Соответственно, индивиды перестают быть прямыми адресатами нормативных идеалов; они становятся функцией политической воли. «Чтобы направлять движения человеческой марионетки, необходимо знать те нити, которыми она приводится в движение».³²
Что касается природы этого политического влияния, Гельвеций намекает на две расходящиеся модели: с одной стороны, это прямое вмешательство законодателя в действия индивидов, модель, которая действует посредством наград и устрашений.³³ Но Гельвеций редко обращается к этому прямому механизму. Большая часть его рассуждений посвящена другому, косвенному типу политического влияния на человеческое поведение. Два элемента последнего — это не конкретные законы, касающиеся конкретных поступков, а, во-первых, тип государственного устройства и, во-вторых, воспитание.
Соответственно, то, что считается добродетельным в обществе, по существу зависит от общих политических принципов, таких как «форма правления» или конституция.³⁴ Только путем изменения общих политических принципов, то есть формы правления, хорошие нравы могут распространиться среди всего населения, что, в свою очередь, повлияет на счастье большинства. Гельвеций пишет удивительно мало о формировании такой формы правления, которая порождала бы «истинные» добродетели. Подходящие институты им не обсуждаются; вместо этого он отделяет идеальную форму правления от деспотизма и подчеркивает спирали коррупции, которые поддерживают существование деспотических обществ.
В отдельных случаях Гельвеций описывает свой идеал хорошей политики несколько точнее. Так, он предусматривает создание всеобъемлющей системы государственного образования, направленной на воспитание страсти к славе.³⁵ Поскольку Гельвеций рассматривает характер человека как полностью являющийся результатом его воспитания, то таким образом все люди могли бы, в принципе, быть направлены к добродетели и, следовательно, все члены общества могли бы в конечном счете быть счастливы.³⁶ Критика, неявно направленная здесь на социальное неравенство, проявляется более отчетливо при дополнительном условии, что всеобщее счастье требует ограничения разрыва между богатыми и бедными до умеренной степени.³⁷
Теория Гельвеция, несомненно, в некоторых отношениях остаётся недоразвитой. И всё же ясно, в каких именно отношениях, по мнению Бентама, эта теория содержит предпосылки нового типа этического теоретизирования, способного сделать Гельвеция Бэконом нравственной науки. Если во введении к De l’esprit Гельвеций программно требует, чтобы «мораль рассматривалась, как и все другие науки, и основывалась на эксперименте»,³⁸ то это требование в сущности распознаётся в четырёх аспектах его теории, а именно в тех, которые составляют ядро гельвецианских реформ:
-
Именно посредством эмпирического наблюдения обосновывается психологический эгоизм.
-
Именно посредством эмпирического наблюдения вводится принцип наибольшей полезности как принцип «истинной» добродетели.
-
Вопрос о практической реализации этого принципа может быть решён только в рамках эмпирических наук.³⁹
-
Нравственная наука — не цель сама по себе, а предписывающая, ориентированная на полезность наука, имеющая целью выработку руководящих принципов для законодателя в применении нравственного принципа.
В дальнейшем я хотел бы попытаться реконструировать то, как именно Бентам подхватывает именно эти аспекты — хотя иногда и в несколько изменённой форме.
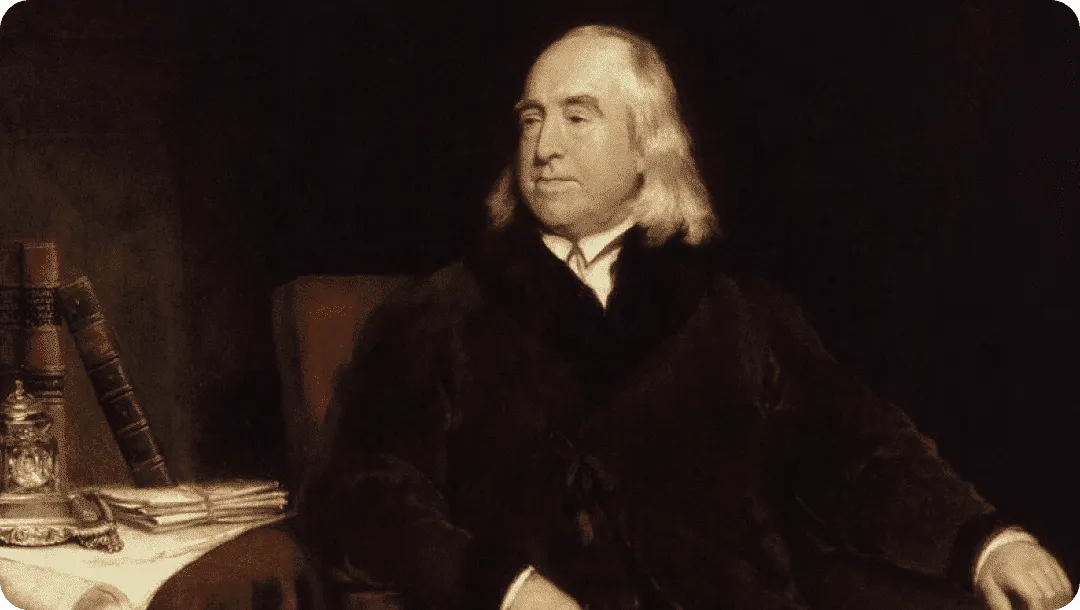
II
РАЗРАБОТКА БЕНТАМОМ ИДЕЙ ГЕЛЬВЕЦИЯ
Краеугольный камень философии Бентама заключается в убеждении, что человеческие действия в значительной мере определяются личным интересом, хотя можно сомневаться в том, что теория действия Бентама представляет собой сильную форму психологического эгоизма.⁴⁰ Как и у Гельвеция, личный интерес всегда связан с категориями удовольствия и боли. Удовольствие и боль, таким образом, являются «полновластными владыками» человечества, к трону которых «прикована цепь причин и следствий».⁴¹ Сильнее, чем Гельвеций, Бентам подчеркивает, что эта ориентация на личный интерес может иметь место в очень долгосрочной перспективе, предвосхищая экономическую направленность теории.⁴²
Бентам также следует за Гельвецием в том, что находит содержательное наполнение своего основного нравственного принципа в формуле наибольшего счастья для наибольшего числа людей. В то время как для Гельвеция важнейшей задачей было включение счастья масс в горизонты моральной философии в любом смысле, Бентам добавляет рассуждения о возможности уравновешивания удовольствия и боли, одного за счет другого. Более важное различие между двумя мыслителями заключается в неприятии Бентамом гельвециевого сенсуализма и роли общественного суждения. Суждения в гельвецианском смысле для Бентама были бы не более чем симпатиями и антипатиями по отношению к определённым принципам.⁴³ Вместо этого принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей вводится как своего рода первый принцип, принимаемый каждым деятелем и способный служить для доказательства дальнейших утверждений, но сам по себе недоказуемый. По крайней мере, существует способ дать рациональное обоснование этому принципу, показав, что всякий возможный его противник либо приходит к бесчеловечным выводам, либо бессознательно предполагает сам этот принцип.⁴⁴
Более того, Бентам следует за Гельвецием в его идее о том, что задача политики и, служа политике, в частности, задача права — искусственно согласовывать частные интересы⁴⁵ с интересом общего блага. Соответственно, законодатель должен убедить каждого индивида соотносить своё счастье со счастьем всех: «каждый индивид должен… быть побуждён к тому, чтобы формировать своё поведение»⁴⁶ — Бентам называет это принципом соединения долга и интереса.⁴⁷ Первичной областью применения принципа наибольшей полезности является, таким образом, проектирование рациональной правовой системы.⁴⁸ Здесь Бентам явно выстраивает преемственность с Гельвецием: последний предоставляет мерило для содержания права; его внешняя форма должна следовать за лингвистической критикой, сформулированной Локком в третьей книге «Опыта о человеческом разумении» (1689): «От Локка право должно заимствовать руководящие принципы своей формы, от Гельвеция — своего содержания».⁴⁹
Эта цель может быть достигнута политически лишь в том случае, если правовая система рассматривается как принципиально и сознательно изменяемая. В этом отношении правовой позитивизм Бентама, его критика общего права и критика понятия прав человека во время Французской революции выражают общую установку, которую Гельвеций молчаливо предполагал. Для Бентама право не является ни данностью от Бога, ни непогрешимым; оно изобретено людьми и потому может быть изменено людьми. Это выражено с большой символичностью в «повествовании о сотворении» права: перефразируя Книгу Бытия, Бентам рассказывает, как законодатель сотворил закон.⁵⁰ Это стремление сознательно и рационально формировать правовую систему становится ещё яснее в метафоре «архитектора» закона, которому надлежало бы занять функцию в законодательстве, прямо противоположную функции, которую занимал языковой критик Локк как «мусорщик» для натурфилософии.⁵¹
Но как же должна быть поставлена работа архитектора закона на прочные основания? С самого начала своего философского периода Бентам следует идее Гельвеция о том, что моральная наука должна рассматриваться как эмпирическая; он разрабатывает несколько планов по развитию этой науки в книге или серии книг. В 1770-е годы Бентам отчасти намеревается написать opus magnum, посвящённый этой теме, и создаёт огромный массив текстового материала под заголовком Preparatory Principles, лишь часть которого он впоследствии использовал в публикациях.⁵² Насколько можно реконструировать его размышления, он задумывает новый вид науки, находящейся где-то между юриспруденцией, теорией действия и экономикой.
Наука, которую можно было бы вообразить, есть искусство знать, что должно быть сделано в области внутреннего правления… Дело в том, что такой науки пока не существует. Неудивительно, следовательно, что нет и названия для неё. Такой науки пока не существует: ибо ещё не появилось такой книги, которая бы заявляла о том, что содержит корпус подобной науки или какой-либо регулярный раздел такого корпуса… Эта наука (искусство — не важно, что именно) ещё не родилась.⁵³
Бентам рассматривает несколько названий для этой науки: «Искусство законодательства», «Критическая юриспруденция», «Наука внутренней политики», «Наука о правовой политике» и «Наука о юридической политике». Конечной целью этой новой науки должна была стать разработка принципов завершённой правовой системы, которую различные страны затем могли бы адаптировать к своим местным обычаям и особенностям.⁵⁴
Следует подчеркнуть, что Бентам полностью отвергает привычное различие между «наукой» и «искусством» в своих Подготовительных принципах («Наука (искусство — без разницы, что именно)»): наука, которую он требует, должна следовать бэконовскому идеалу науки, ориентированной на полезность; с самого начала она направлена не на чистое знание, а на техническую реализацию принципа полезности, и делает это как искусство в смысле мастерства. В своём Введении — а позднее и в Хрестоматии — он преследует ту же цель, но иным путём: здесь он допускает, что существует концептуальное различие между наукой и искусством; однако эти понятия образуют прямую связь между средством и целью:
«Что касается искусства и науки, поскольку их можно различать, искусство из этих двух заслуживает упоминания на первом месте, будучи первым и наиболее самостоятельным по своей ценности, а следовательно и по достоинству, поскольку достоинство заключается в пользе: ибо ценность науки состоит в её подчинении искусству; а ценность умозрения состоит в его подчинении практике».⁵⁵
Таким образом, Бентам находит наилучший образец оптимального соединения науки и искусства в дисциплине медицины. «Наука права» и «искусство законодательства» должны соотноситься так же, как «наука анатомии» и «искусство медицины».⁵⁶ Тот факт, что совершенно та же аналогия проводится в процитированном выше сопоставлении Бэкона–Ньютона, служит доказательством того, что, когда мы ищем путь, каким образом Бентам намеревался развивать теорию Гельвеция, мы движемся в правильном направлении: «Короче говоря, то, чем является врач для естественного тела, тем является законодатель для политического: законодательство — это искусство медицины, осуществляемое в крупном масштабе».⁵⁷
В методологическом отношении новая наука должна иметь строгую ориентацию на эмпиризм. Понятия, которые не связаны с эмпирическими данными, для Бентама являются «жаргоном». В частности, идея «благого порядка» в мире, привязка политических отношений к договору и концепция естественного права не должны играть никакой роли в законодательстве; все эти идеи — «фантомы, призванные из облаков, чтобы пустить пыль в глаза изучающему».⁵⁸ Бентам хвалит Гельвеция за то, что тот последовательно исключает такие понятия из своей методологии.⁵⁹
Тот факт, что Бентам намеревался представить свою политическую науку в рамках монументального труда, является свидетельством его стремления исчерпывающе разработать гельвецианскую идею нового типа нравственной философии. Этот монументальный труд так и не был осуществлён, но многие аспекты его позднейших сочинений следует рассматривать как составные элементы именно этой революционной науки, ориентированной на практику, раскрывающей рациональное формирование общества от его оснований до конкретного политического воплощения.⁶⁰ Попробуем кристаллизовать некоторые основные компоненты, с помощью которых Бентам развивает теорию Гельвеция.
Руководство действиями граждан посредством законов
Для Бентама главным средством регулирования поведения граждан является уголовное право. В очень простом применении своей теории действия Бентам утверждает, что для того, чтобы преступление не произошло, ожидаемая выгода от преступления должна быть перевешена ожидаемым наказанием.⁶¹
Большая часть философии Бентама, таким образом, посвящена уголовному праву; он подробно излагает условия, при которых уголовное право может оптимально способствовать всеобщему счастью. Это включает разработку новой системы юридических терминов: поскольку право должно выполнять функцию руководства действиями, необходим яcный язык, который позволил бы обычным гражданам предсказать, какие поступки повлекут за собой юридические последствия, а какие нет. Это может показаться банальным, но английское общее право, в частности, было весьма далеко от этого понимания, как неоднократно отмечал Бентам.
Помимо этой «прямой» формы государственного вмешательства в поведение граждан, Бентам признаёт и вторую, «косвенную» форму, а именно «косвенное законодательство». Здесь уже речь идёт не о регулировании поведения тогда, когда желание совершить запрещённое действие уже возникло; скорее, идея заключается в том, чтобы заранее предотвратить возникновение таких желаний. Косвенное законодательство поэтому использует «более мягкие» методы, чем уголовное право. Оно стремится взращивать «менее опасные желания»⁶² и укреплять у народа нравственное сознание, которое посредством санкций со стороны морального сообщества может способствовать совпадению личной и общей пользы. Средствами для этого служат гарантирование свободы печати и свободы слова, чтобы любые нарушения морали могли быть обнародованы, а также контролируемое и поощряемое государством использование театра и литературы. Бентам даже рассуждает о том, не следует ли сделать граждан «прозрачными» посредством идентифицирующей татуировки; если люди будут ожидать, что их узнают, они с самого начала будут вести себя более прилично.⁶³
Политическая экономия
Ещё один компонент этой новой науки можно увидеть в сочинениях Бентама о «политической экономии».⁶⁴ Для Бентама политическая экономия — это раздел политики, направленный на увеличение национального богатства; только она является тем средством, с помощью которого государство может не только негативно избегать вредоносного и ошибочного поведения своих граждан, но и позитивно способствовать их благосостоянию.⁶⁵ Хотя экономические рассуждения Бентама явно испытали влияние Адама Смита, «Институт политической экономии», равно как и «Руководство по политической экономии», содержат полемические размежевания со Смитом. И здесь также на первый план выходит связь между наукой и искусством: «Для Адама Смита только наука была непосредственным и постоянным объектом исследования: а искусство — побочным и случайным». Это необходимо преодолеть в политической экономии: «Политическая экономия — одновременно и наука, и искусство. Ценность науки имеет своим действующим основанием и мерой её подчинённость искусству».⁶⁶
Не менее решительно Бентам отвергает и утверждение, часто связываемое со Смитом, что государство должно как можно меньше вмешиваться в свободный рынок: «У меня нет, никогда не было и никогда не будет никакого ужаса… перед рукой правительства. Я предоставляю это Адаму Смиту и защитникам прав человека… рассуждать о посягательствах на естественную свободу»,⁶⁷ — писал Бентам в 1801 году. Это не значит, что для Бентама экономические свободы не имеют значения. Напротив, индивиды являются движущими силами экономической деятельности,⁶⁸ и государству благоразумно предоставлять им обширное свободное пространство. Но поскольку Бентам отвергает идею естественной гармонии потребностей, государство должно искусственно создавать эту гармонию посредством обширного законодательства, не принимая во внимание экономические свободы, обоснованные в естественном праве.
Конкретные проекты
Компоненты научно направляемой оптимизации общества, наконец, можно увидеть в ряде конкретных предложений и проектов Бентама, находящихся на пересечении права и политической экономии. Самый знаменитый (и наиболее скандальный) из этих проектов — его «Паноптикон», замысел круглой тюрьмы с надзирателем, расположенным в центре и способным одновременно наблюдать за всеми заключёнными.⁶⁹ Некоторое время предложение о Паноптикуме рассматривалось в литературе либо как эксцентричное, либо как исключительно ориентированное на прибыль, но более поздние исследования стали трактовать его как символ различных направлений философской теории Бентама.⁷⁰ Тот факт, что Паноптикон на самом деле следует понимать как излучение его «новой науки», подтверждается, например, его утверждением, что это «один из краеугольных камней политической науки … [что] … чем строже нас наблюдают, тем лучше мы себя ведём».⁷¹
Здесь следует иметь в виду, что безграничное орудие подавления, созданное для того, чтобы как можно эффективнее истязать заключённых, отнюдь не было намерением Бентама. Напротив, Паноптикон является одной из многочисленных попыток заменить жестокие темницы XVIII века более гуманными местами заключения, с серьёзной целью исправления преступников: по аналогии с больницей они должны были восстанавливать «нравственное здоровье».⁷² Даже тот факт, что заключённые использовались как дешёвая рабочая сила, может быть понят как попытка гуманизации, поскольку благодаря постоянной занятости пребывание в тюрьме становится гораздо легче переносимым. Таким образом, Паноптикон одновременно и «мельница для перемалывания честных мошенников, и праздных трудолюбивых людей».⁷³
В рамках данного исследования, однако, особенно интересно стремление к детализации, с которой Бентам за своим письменным столом работает над полной рационализацией тюремной жизни. Расположение окон, устройство туалетов, состояние постелей и одежды, разделение полов без лишней траты пространства, концепции гигиены и приготовления пищи — не было ничего, о чём Бентам не подумал бы тщательно и (в теории) не оптимизировал.⁷⁴
Здесь можно было бы перечислить еще множество конкретных идей, являющихся порождением политической науки.⁷⁵ Но мои краткие замечания о Паноптиконе дают достаточные доказательства того, что труды Бентама можно рассматривать преимущественно как практическую разработку идей Гельвеция, как он сам указывает в аналогии с Бэконом и Ньютоном. Это приводит меня ко второму предположению: что ориентация на практическую реализацию нормативных идей сопровождается определённым изменением самих этих идей.
III
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВИМОСТИ
Если Бентам рассматривает себя как «архитектора»⁷⁶ или «инженера»⁷⁷, посвящённого прежде всего практической реализации принципа полезности, то это не остаётся без последствий для его теоретических соображений; перевод гельвецианских идей в практику не происходит без определённых смысловых изменений. Попытка сделать теорию плодотворной для практики сопровождается непосредственно связанными модификациями самой теории. Разумеется, нет никакой необходимости в таких изменениях, и императивы осуществимости — не единственное объяснение содержательных расхождений между Гельвецией и Бентамом. Тем не менее, можно показать, что для Бентама определённые модификации гельвецианской теории идут рука об руку с практическим применением. Это можно увидеть как минимум в трёх отношениях.
Во-первых, притязание на практическую реализацию утилитарного принципа совпадает с более сильной социотехнологической концепцией формирования общества. Под этим я подразумеваю, что Бентам не только следует (гельвецианскому) предположению о том, что форма правления определяет образ жизни граждан в целом, но и предполагает, что конкретные законодательные меры в конкретных областях деятельности могут привести к объединению частных и общих интересов. Основная идея Гельвеция заключается в том, что при правильной форме правления желаемые моральные предписания развиваются автоматически, в свою очередь направляя действия индивидов. Рассматривая конкретные меры, с помощью которых правительство может способствовать сближению личных и общих интересов, Бентам заменяет эту модель концепцией прямого управления обществом: конкретные законы и механизмы регулируют действия индивидов в определённых ситуациях.
Эта техническая идея становится особенно ясной, если обратиться к рассуждениям Бентама о применении права: он рассматривает его как в идеале ясную дедуктивную процедуру, которая допускает как можно меньше интерпретаций.⁷⁸ Для Бентама права человека не способны представлять собой разумные веления справедливости, отчасти из-за их абстрактной природы.⁷⁹ Там, где Гельвеций стремится к совершенствованию общих политических принципов, для Бентама подобные абстрактные принципы бесполезны в качестве инструментов политического руководства. Даже понимание Бентамом науки как искусства, то есть как мастерства, указывает на её технический характер. И если взглянуть на то, как в Паноптиконе «оттачиваются» преступники, то едва ли останутся сомнения в том, что Бентам в некотором смысле исходит из механистической модели того, как индивиды могут быть интегрированы в социальные структуры.
Во-вторых, его практическое утверждение приводит к тому, что идеалы теории осмысливаются иначе. В то время как Гельвеций предполагает возможность всестороннего улучшения условий жизни, цели Бентама по своей направленности значительно ближе к реальности. В этом контексте, прежде всего, важна роль добродетели. Превозносимая Гельвецием в классическом смысле как благородное поведение, добродетель граждан является выдающейся политической целью. В этом отношении ссылки на странные обычаи Формозы не только забавны, но и показательны — философия Гельвеция направлена на просвещение идей, укоренённых в «нравственности». Бентам не полностью отвергает столь восторженное понимание добродетели. Ссылаясь на слова Гельвеция, он говорит о людях «честности и общественного духа».⁸⁰ Но здесь Бентам имеет в виду лишь добродетель элитарной группы людей.⁸¹ Добродетель же граждан в целом, напротив, не является преобладающей целью государства.⁸²
Другие идеалы, ориентированные на «реалистические» меры, становятся заметны, если взглянуть на картину идеального утилитарного государства, нарисованную Бентамом. Один фрагмент из его Essay of the Influence of Place and Time вошёл в литературу как его «утопия»;⁸³ здесь ориентация на достижимое проявляется с особой ясностью:
Всё, что сверх этого, есть химера. Совершенное счастье принадлежит воображаемым областям философии и должно быть поставлено в один ряд с универсальным эликсиром и философским камнем. В век наивысшего совершенства огонь будет жечь, бури будут бушевать, человек будет подвержен немощам, несчастным случаям и смерти. Возможно, удастся уменьшить влияние печальных и пагубных страстей, но не уничтожить их. Неравные дары природы и судьбы всегда будут порождать зависть… Тяжёлый труд, повседневное подчинение, состояние, почти родственное нищете, всегда будет уделом многих. Как среди высших, так и среди низших классов найдутся желания, которые не могут быть удовлетворены; склонности, которые должны быть подавлены: взаимная безопасность может быть установлена лишь посредством насильственного отказа каждого от всего того, что может задеть законные права других.⁸⁴
Для Бентама прогноз Гельвеция о том, что труд начнет приносить удовольствие, как только будут созданы соответствующие условия,⁸⁵ что все люди могут быть счастливы, что каждый будет достаточно богат и будет иметь достаточно свободного времени, — это лишь несбыточные мечты. Вместо того чтобы философы предавались химерам, они должны измерять возможный прогресс в пределах осуществимого; эти пределы всё же достаточно широки: «Будем стремиться лишь к достижимому: это открывает гению достаточно широкие перспективы……».⁸⁶ «Утопия» Бентама — это не государство, полное процветающих людей, достигающих личного самосовершенствования, а государство, в котором худшие формы нищеты и преступности эффективно предотвращены — проект, казавшийся дерзким в свете колоссальных социальных искажений, наблюдавшихся Бентамом в только что индустриализированной Англии.
Третье соображение, которое служит иллюстрацией того, как теория изменяется в результате притязания на практику, касается агентов политического руководства и роли философа. Чтобы прояснить этот момент, я теперь обращусь к роли граждан у Гельвеция и Бентама.
IV
АКТИВНАЯ РОЛЬ ГРАЖДАН
Своими сочинениями Гельвеций внёс значительный вклад в общественные дебаты своего времени. Однако его труды не были предназначены для того, чтобы внести вклад в политическую повестку в более узком смысле. Господствующий интерес, стоящий за теорией Гельвеция, по-видимому, заключался лишь в разоблачении механизмов удержания власти, а не в их преодолении: он трезво анализирует, как мало просвещённые монархи продолжают своё мало полезное правление, ставя на ключевые должности столь же мало просвещённых людей, и, тем самым, лишая общественное мнение какого-либо влияния на политические дела.⁸⁷ Несомненно, это разоблачение связано с убеждением, что улучшение политической ситуации возможно, по крайней мере в принципе. Но политическая программа, указывающая путь к лучшему обществу, не входила в замыслы Гельвеция.⁸⁸ Если вообще и допускать такое — то, согласно модели политики «сверху вниз», — это дело просвещённого монарха ввести подобные реформы.⁸⁹ Философ Гельвеций не видит себя политически ответственным: «Что касается меня, я выполнил свою задачу», предоставляя конкретное осуществление «магистрату».⁹⁰
Безусловно, Бентам также придерживается идеи о том, что в конечном счёте именно сильное государство должно направлять общество. Но если для Гельвеция действия граждан были лишь функцией решений, принимаемых правителями (вплоть до того, что они выглядели марионетками!), то у Бентама гражданам отводится активная роль. Следует помнить, что у Бентама идея информированной общественности играет решающую роль. Этот «девиз доброго гражданина» уже встречается в его ранних трудах: «Повиноваться точно; критиковать свободно».⁹¹ Для Бентама гражданин принимает на себя функцию контроля как по отношению к своим согражданам (см. его «косвенное законодательство»), так и по отношению к чиновничеству. Если, как можно было бы преувеличенно сказать о Гельвеции, правителю надлежит делать граждан добродетельными, то бессмысленно рассматривать этих граждан как власть, которая, в свою очередь, контролирует правителя.⁹² Напротив, активная роль граждан у Бентама становится особенно очевидной в его восхвалении свободы печати и свободы слова — Бентам даже говорит о «Трибунале общественного мнения».⁹³ Таким образом, общественное мнение рассматривается как важный двигатель социальных перемен.⁹⁴
Контролирующая роль граждан проявляется также и в их демократическом участии. После начала Французской революции и краткого «флирта» с демократическими идеями Бентам на время стал критически относиться к господству «жалкого большинства»,⁹⁵ которое, по его мнению, довело политическую систему Франции до краха. Однако после того как английская парламентская монархия показала свою столь же полную неспособность к обучению, Бентам окончательно «обращается» в демократа после 1800 года.⁹⁶ Поскольку правители ничуть не более способны отказаться от своих частных интересов под воздействием нравственных аргументов, чем Папа Римский позволил бы себя убедить в истинности протестантизма посредством доводов, основная идея, лежащая в основе бентамовской теории демократии, состоит в том, что только демократическая система может привести к тому, что счастье всех граждан будет принято во внимание.⁹⁷
Внутри группы всех граждан Бентам в определённой степени выделяет роль представителей среднего класса, которые, по его мнению, составляют «наиболее добродетельную»⁹⁸ часть общества. Хотя политической целью Бентама является повышение счастья всех, это вовсе не означает, что он рассматривал каждого как в равной мере активного со-творца гражданской жизни. Хотя он, по-видимому, и не разделяет восторженной оценки среднего класса, которую мы встречаем у Джеймса Милля,⁹⁹ я хотел бы привести два примера того, как средний класс оценивается хотя бы как обладающий особой активной ролью.
Во-первых, в экономической жизни именно представители среднего класса в наибольшей степени пользуются вышеупомянутыми экономическими свободами. Бедные же, напротив, по мысли Бентама, играют скорее реактивную роль. По мнению Бентама, общенациональная компания должна построить так называемые «Дома труда» (Industry Houses), где бедные могли бы подавать заявки на жильё и работу на условиях, которые они не могут изменить.¹⁰⁰
Во-вторых, хотя Бентам следует за Гельвецием в требовании, чтобы все части общества имели доступ к общественному образованию,¹⁰¹ он разрабатывает два различных типа школ. С одной стороны, его известный школьный проект Chrestomathia прямо предназначен для «средних сословий», которые должны быть специально подготовлены к участию в политических дебатах.¹⁰² С другой стороны, его смелое требование обучения бедняков связано с исключением из учебной программы всех политически значимых знаний как «бесполезных наук»,¹⁰³ и Бентам подчеркивает, что в вопросах образования «джентльмен в общем счете значит больше, чем простой человек: его поведение имеет больший вес, большее влияние в обществе».¹⁰⁴
Теоретизирование Бентама о роли граждан отражено в его собственных политических взглядах. То, насколько его утилитарная теория с самого начала была переплетена с общественно значимым действием, видно из характерного миссионерского стиля, с которым он объединяет своих учеников вокруг утилитарной программы. Он представляет себя как «основателя секты, разумеется, фигуру великой святости и значимости. Она называлась сектой утилитаристов».¹⁰⁵ Когда влиятельная личность спросила его, что можно сделать, чтобы спасти английскую нацию, Бентам ответил, перефразировав Иисуса: «возьми мою книгу и следуй за мной».¹⁰⁶
И действительно, Бентам пытается оказывать влияние на политику. Первые такие попытки можно видеть в том, как он составлял проекты законов и затем представлял их власть имущим. Уже в 1770-х годах он стремился привлечь внимание Екатерины Великой, а вплоть до 1820-х годов пропагандировал свои идеи в письмах к политическим лидерам всего мира.¹⁰⁷ Показательным для его «совещательного» понимания политического влияния является, например, подзаголовок его Projet d’un corps de loix: «Предложение, сделанное англичанином государям Европы».
После того как он сам обратился к демократии, характер политической деятельности Бентама изменился с началом XIX века. Несмотря на то что он продолжал попытки убеждать политических лидеров, теперь он всё энергичнее стремился оказывать прямое политическое влияние через существующие демократические пути. Его публикации больше не были обращены исключительно к монархам, но и к более широкой общественности; показательны здесь название его Письма к гражданам [!] Соединённых Штатов Америки (1817) и основание им Westminster Review (1823). Однако для приобретения демократического влияния самому Бентаму не хватало таланта, и была необходима группа Философских радикалов, чтобы донести его идеи до широкой публики.¹⁰⁸
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Хотя, по-видимому, трудно доказать, что Бентам заимствует определённые аспекты своего мышления исключительно у Гельвеция, а не у других авторов, можно показать, что Бентам следует за Гельвецием в использовании трёх аксиом: (1) люди действуют в соответствии со своими собственными интересами; (2) действия людей должны направляться в соответствии с принципом наибольшей пользы для всего общества; (3) средствами, с помощью которых должны направляться действия людей, являются политика и право.
Однако поиск в трудах Гельвеция идей относительно того, как принцип полезности может быть применён, оказывается разочаровывающим, ибо те немногие мысли, которые он оставляет в своем наследии, действительно весьма общи. Таким образом, подход Бентама к идеям Гельвеция можно в значительной степени описать как переход от теории к практике. С одной стороны, этот переход относится к теоретической работе Бентама, который хотел быть «Ньютоном законодательства», представляя осуществимые результаты своих философских исследований. В этом смысле Бентам пишет в более позднем обзоре возникновения утилитаризма, ссылаясь на De l’esprit Гельвеция: «В этом труде было положено начало применению принципа полезности к практическим целям»; его же продолжение, однако, «было оставлено на более поздний период, о котором будет сказано ниже».¹⁰⁹ С другой стороны, этот переход относится к роли философа, который уже не удовлетворяется лишь разработкой теорий, но сам становится политически активным.
Этот результат является уточнением общих утверждений о Бентаме и Гельвеции, упомянутых мною вначале. Точно так же он поддерживает альтернативное толкование различий между двумя авторами, на которое ссылается Фредерик Розен. Как я уже утверждал, Гельвеций в большей степени озабочен общими особенностями формы правления, не обсуждая конкретные механизмы правления. Бентам же, однако, явно готов ограничить личную свободу всякий раз, когда это может послужить счастью. Поэтому нельзя считать само собой разумеющимся, что Бентам выступает за более строгие ограничения частной сферы, чем Гельвеций. Если верно, как утверждает Розен, что Гельвеций рассматривал добродетель граждан как политическую цель более настойчиво, чем Бентам, то ключевым здесь оказывается вопрос о том, являются ли граждане активными политическими агентами или же скорее реактивными «марионетками».
Кроме того, мои утверждения могут также способствовать описанию более широкого сдвига в философском теоретизировании. Я не могу подробно остановиться на этом здесь, но, на мой взгляд, мышление Бентама следует рассматривать как важное звено между Просвещением и XIX веком: его разработка идей Гельвеция является ярким примером нарастающей «политизации» философии, характерной для XVIII и XIX веков, и знаменует собой сдвиг в сторону практики, который позднее был продолжен по всей Европе — у Конта и Фурье, у немецких левых гегельянцев, а также в социотехнических моделях общества как в марксистских, так и в капиталистических теориях.¹¹⁰
Примечания:
Документально подтверждено в «Трудах Джереми Бентама», 11 томов, под ред. Джона Боуринга (Эдинбург, 1838–1843), т. X, стр. 27 (далее цитируется как «Труды (Боуринга) т., стр.»). Соответственно, следуя рассуждениям Гельвеция о «гении», Бентам в юном возрасте задал себе вопрос: «Есть ли у меня гений в чём-либо?.. И есть ли у меня действительно гений в законодательстве? Я ответил себе, со страхом и трепетом: «Да!». - Бентам, «Статья об утилитаризме: краткая версия», Деонтология, вместе с Таблицей источников действия и статьей об утилитаризме, под ред. А. Голдворта (Оксфорд, 1983), стр. 319–28, на стр. 325.
- Ср. «Переписка Джереми Бентама», т. 2, изд. TLS Sprigge (Лондон, 1968), стр. 117. Ср. также письмо Форстеру; «Переписка», стр. 99.
- См. Сочинения (Боуринг), т. X, стр. 71.
- См. цитату и ссылки в примечании 59 ниже.
- Переписка Джереми Бентама , т. 1, под ред. TLS Sprigge (Лондон, 1968), стр. 367.
- Сочинения (Боуринг), т. X, стр. 54.
- Бентам, «Комментарий к комментариям», Комментарий к комментариям и Фрагмент о правительстве , под ред. Дж. Х. Бернса и Г. Л. А. Харта (Лондон, 1977), стр. 1–389, на стр. 377.
- Коллекция рукописей Бентама Лондонского университетского колледжа (далее: UC) ок. 114 г. См. также письмо Форстеру: «От него я научился рассматривать тенденцию любого учреждения или занятия содействовать счастью общества как единственный критерий и мерило его заслуг: и… считать принцип полезности оракулом, который, если к нему обратиться должным образом, даст единственно верное решение, которое может быть дано по любому вопросу о добре и зле» ( The Correspondence, т. 2, стр. 99).
- См. Бентам, «Статья об утилитаризме: краткая версия», стр. 325.
- Дуглас Лонг утверждает, что Гельвеций, «судя по всему, оказал на Бентама исключительно всестороннее влияние и даже вдохновил его», но он не пытается это доказать; см. Лонг, «Цензорская юриспруденция и политический радикализм: переосмысление раннего Бентама» в The Bentham Newsletter 12 (Лондон, 1988), стр. 4–23, на стр. 8.
- Harrison, Ross , Bentham (Лондон, 1983), стр. 115 Google Scholar . В том же ключе Кримминс пишет: «Не может быть никаких сомнений в значительном De l’esprit на Бентама» (Crimmins, James E., Secular Utilitarianism: Social Science and the Critique of Religion in the Thought of Jeremy Bentham (Оксфорд, 1990), стр. 78. CrossRef Google Scholar
- Уже Сиджвик заметил, что «все предпосылки Бентама ясно изложены Гельвецием» (Miscellaneous Essays and Addresses (Лондон, 1904), стр. 151) Google Scholar. См. также Halevy, Elie, The Growth of Philosophic Radicalism (Лондон, 1934), стр. 18–27 Google Schola. Heydt, Colin, «Utilitarianism before Bentham», The Cambridge Companion to Utilitarianism, под ред. Eggleston, B. и Miller, DE ( Кембридж, 2014 ), стр. 16–37, на стр. 31–3. Google Scholar
- Исключением является Дуглас Лонг, который утверждает, что понятия удовольствия и боли, а также идея физической чувствительности являются гельвециевыми; см. Лонг, «Клод Адриан Гельвеций», Энциклопедия утилитаризма Блумсбери, под ред. Дж. Э. Кримминса (Торонто, 2017), стр. 233.
- См. Rosen, Frederick, Classical Utilitarianism from Hume to Mill (London , 2003), стр. 93 и 95. Google Scholar
- Розен, Классический утилитаризм, стр. 93.
- Экономические сочинения Джереми Бентама, под ред. У. Старка (Лондон, 1952–1954), т. 1, стр. 100–1.
- Все отрывки, цитируемые из UC xxxii. 158, основаны на транскрипции Майкла Куинна.
- UC xxxii. 158.
- Эта точка зрения описана, например, в работе Дюшейна и Стеффена «Идея Бэкона и практика индукции Ньютона», Philosophica 76 (2005), стр. 115–28. Google Scholar
- См. Гельвеций, «De l’esprit», стр. 42 (II, 2). Поскольку стандартного английского издания не существует, отрывки из «De l’esprit», помимо номеров страниц, снабжены ссылками на эссе (римскими цифрами) и на главу в нём (арабскими цифрами). Цитаты и номера страниц соответствуют переводу Уильяма Мадфорда: «De l’esprit, или Эссе о разуме и его способностях» (Лондон , 1807). Google Scholar
- О ньютоновских аспектах теории Гельвеция см. Smith, David W. , «Гельвеций и проблемы утилитаризма» в Utilitas 5 (1993), стр. 275–289, на стр. 276. CrossRef Google Scholar
- См. Гельвеций, De l’esprit, стр. 9–10 (I, 1).
- «во все времена и во всех странах, как в отношении морали, так и гения, личный интерес диктует суждение индивидуумов» (Гельвеций, «О разуме», стр. 38; II, 1).
- Например, в «О человеке», т. 1, стр. 187 (II, 16) прямо говорится: «Удовольствия и страдания — движущие силы вселенной». Отрывки из «О человеке» документируются, помимо номеров томов/страниц, ссылками на раздел (римские цифры) и главу (арабские цифры); цитаты и номера страниц соответствуют переводу Хупера , У .: «Трактат о человеке; его интеллектуальные способности и его образование», 2 тома (Лондон , 1810). Google Scholar
- Гельвеций, De l’esprit, с. 40 (II, 2).
- Гельвеций, De l’esprit, с. 92 (II, 11).
- Гельвеций, De l’esprit, с. 90 (II, 10).
- См. Гельвеций, De l’esprit, стр. 108–12 (II, 14).
- «кто может отрицать, что тюрьмы разоружили больше разбойников, чем религия?.. Значит, только посредством хороших законов мы можем воспитать добродетельного человека» (Гельвеций, «О разуме», стр. 184; II, 24).
- Гельвеций, De l’esprit, стр. 124–5 (II, 15).
- Гельвеций, De l’homme, т. 1, с. 4 (введение, гл. 2).
- «Законодатель может назначить столько наказаний за порок и столько наград за добродетель, что каждый человек найдет для себя выгодным быть добродетельным» (Гельвеций, «О человеке», т. 2, стр. 307; IX, 6); «Поэтому все искусство законодателя состоит в том, чтобы заставить их с помощью себялюбия быть всегда справедливыми друг к другу» (О разуме, стр. 185; II, 24).
- Гельвеций, De l’esprit , стр. 121–2 (II, 15).
- См. например, Гельвеций, De l’esprit, стр. 489 и далее. (IV, 17).
- См. Гельвеций, De l’homme, т. 2, стр. 198 и далее. (VIII, 1).
- «Почти всеобщее несчастье человека и народов проистекает из несовершенства их законов и слишком неравномерного распределения их богатств» (Гельвеций, «О человеке» , т. 2, стр. 205; VIII, 3).
- Гельвеций, De l’esprit, с. xxxi (предисловие).
- «Что такое новая истина в нравственности? Новый метод обеспечения или увеличения счастья народов» (Гельвеций, «О человеке», т. 2, стр. 304; IX, 5).
- Бентам считает сочувствие источником мотивации, и неясно, можно ли свести сочувствие к личной выгоде. См. Schofield, Philip, Bentham: A Guide for the Perplexed (Лондон, 2009), стр. 54–55. Google Scholar
- Бентам, «Введение в принципы морали и законодательства», под ред. Дж. Х. Бернса и Г. Л. А. Харта (Лондон, 1970), стр. 11. Лонг утверждает, что Бентам здесь перефразирует гельветовскую идею; см. Лонг, «Гельвеций», стр. 233.
- См., например, Бентам, «Деонтология», Деонтология вместе с Таблицей источников действия и Статьей об утилитаризме, под ред. А. Голдсворта (Оксфорд, 1983), стр. 117–281, на стр. 132. Марко Гуиди, «Количественный анализ счастья и его асимметрии Джереми Бентама», Справочник по экономике счастья , под ред. Л. Бруни и П. Л. Порта (Челтнем, 2007), стр. 68–94, в разделе 2 в этом месте видит принципиальное отличие от Гельвеция.
- Бентам, Введение, стр. 21–29. Подобные суждения часто согласуются с принципом полезности, но не всегда.
- См. Бентам, Введение, стр. 15–33. Майкл Куинн в работе «Бентам об измерении: расчёты и моральное обоснование», Utilitas 26 (2014), стр. 61–104, подчёркивает, что Бентам пытается установить рациональную мораль, противопоставленную юмовской традиции.
- Сравнительный анализ искусственной и естественной идентичности частных и общих интересов см. в книге Галеви «Рост философского радикализма», стр. 88.
- Бентам, Введение , стр. 34; выделено Бентамом.
- См., например, Бентам, «Первые принципы подготовки конституционного кодекса» , под ред. П. Скофилда (Оксфорд, 1989), стр. 235; «Сочинения о законах о бедных» , т. II, под ред. М. Куинна (Оксфорд, 2010), стр. 115–116.
- Бентам, Введение , стр. 11: «возводить здание счастья руками разума и закона».
- Сочинения (Боуринг), т. X, стр. 71.
- «И все же в стране нет закона: законодатель еще не вступил в должность… Это первый день политического творения: государство бесформенно и пусто» (Бентам, «О пределах уголовной ветви юриспруденции» , под ред. П. Скофилда (Оксфорд, 2010 г.), стр. 288).
- Бентам, «Подготовительные принципы Inserenda», Подготовительные принципы, под ред. Д. Лонга и П. Скофилда (Оксфорд, 2016), параграф 291, стр. 285.
- См. Long , Douglas и Schofield , Philip , «Редакционное введение», Jeremy Bentham: Preparatory Principles, под ред. Long, D. и Schofield, P. ( Оксфорд , 2016 ), стр. xi–xxviii, на стр. xi. Google Scholar
- Бентам, «Подготовительные принципы Inserenda», пар. 1027, с. 321.
- Бентам, «О пределах», 232; см. также « Опыт о влиянии места и времени » в сборнике «Сочинения» (Боуринг), т. I.
- Бентам, Хрестоматия, под ред. М. Дж. Смита и У. Х. Берстона (Оксфорд, 1983), стр. 61.
- Бентам, Введение, стр. 9.
- UC xxxii. 158.
- UC xxxii. 158.
- «Философия Гельвеция, продолжение и аналог бэконовской, не допускает никакого жаргона: никаких разговоров об отношениях, не говоря уже о вечных отношениях, предшествовавших людям, существам, между которыми они, как предполагается, существуют: … ни слова о хорошем порядке, порядке вещей, разуме, справедливости, природе, естественном праве, естественной приспособленности вещей: никаких призраков, призванных из облаков, чтобы пустить пыль в глаза ученику и прикрыть недостаток интеллекта со стороны преподавателя… Меры, которые были использованы для рекомендации любого из этих жаргонов, могли быть благотворными или наоборот, но никакая степень полезности в мерах, таким образом подкрепленных, или в любых мерах, подкрепленных аргументами, которые имеют в своей основе что-либо иное, кроме принципа полезности, никогда не приблизит ни к малейшему превращению жаргона в смысл…» «Язык гельветианской философии во всех случаях столь же единообразен, сколь и прост» (UC xxxii. 158; ср. также «Комментарий к комментариям», стр. 346–347). В «Подготовительных принципах Inserenda», п. 1022, Бентам прямо ссылается на «О человеке» , II, 11, чтобы показать, что Гельвеций требует введения точного языка.
- Здесь я следую интерпретации, изложенной в работе Лонга и Дугласа «Бентам как революционный социолог», Man and Nature 6 ( 1987 ), стр. 115–45. CrossRef Google Scholar
- См., например, Сочинения (Боуринг), т. I, стр. 399.
- См. например, UC lxxxvii. 18; lxxxvii. 62.
- См., например, UC lxxxvii. 135 и UC lxii. 189. См. поясняющее описание этой темы в книге Энгельмана, Стивена, «Косвенное законодательство»: либеральное правительство Бентама, Polity 35 ( 2003 ), стр. 369–88 . CrossRef Google Scholar
- Бентам ясно устанавливает эту связь, помещая политическую экономию «на карту политической науки»; см. Economic Writings, vol. iii, p. 307.
- UC lxxxvii. 2; цитируется в Quinn , Michael, «Editorial Introduction», Bentham: Writings on Political Economy, т. 1, ред. Quinn , M. (Оксфорд , 2016), стр. xv–civ, на стр. xvii . Google Scholar
- Бентам, «Экономические сочинения», т. iii, с. 318; см. аналогичный отрывок из «Руководства по политической экономии», «Сочинения по политической экономии», под ред. М. Смита (Оксфорд, 2016 г.), с. 165–268, на стр. 168.
- Бентам, Экономические сочинения, т. iii, стр. 257.
- См., например, роль «спонтанных действий», т. е. действий индивидов, которые они осуществляют без вмешательства государства, в «Институте политической экономии», в Economic Writings , т. iii, egp 323.
- Для последних исследований проекта «Паноптикон» см. книгу «За пределами Фуко: новые перспективы паноптикума Бентама » под ред. Анны Брунон-Эрнст (Фарнхэм, 2012).
- См. Химмельфарб, Гертруда, «Victorian Minds» (Чикаго, 1995), стр. 77–8 . Google Scholar
- Бентам, «Сочинения о законах о бедных» , т. I, под ред. М. Куинна (Оксфорд, 2001), стр. 277 (UC cliib. 332–3).
- «Рассматриваемый с точки зрения морального здоровья… Паноптикум представляет собой огромную больницу» (Сочинения (Боуринг), т. iv, стр. 185).
- Сочинения (Боуринг), т. X, стр. 226.
- См. Бентам, «Паноптикум, или Инспекционный дом», The Panopticon Writings , под ред. М. Божовича (Лондон, 1995), Письмо VI, стр. 47–8.
- В разделе IV я приведу образовательную программу Бентама как еще один пример таких конкретных проектов.
- Бентам, «Подготовительные принципы Inserenda», пар. 291, с. 285 н. 52.
- Харрисон, Бентам, стр. 113.
- См. Постема, Джеральд , «Бентам о публичном характере права», «Бентам: моральная, политическая и правовая философия» , изд. Постема , Г. (Олдершот , 2002), стр. 65–85, на с. 83 Академия Google ; и Хофманн , Вильгельм , Politik des aufgeklärten Glücks ( Берлин , 2002 ), стр. 127–30 . Google Академика
- См. Бентам, «Чепуха на ходулях», Права, представительство и реформа: чепуха на ходулях и другие сочинения о Французской революции, под ред. П. Скофилда и др. (Оксфорд, 2002), стр. 317–401.
- Сочинения (Боуринг), т. vii, стр. 329.
- Дополнительные доказательства этого утверждения см. в книге Хофмана «Политика», стр. 300.
- Как говорит Розен, остается даже сфера частной морали, куда законодатель не должен вмешиваться, чтобы сделать граждан лучшими людьми; см. Розен, Классический утилитаризм , стр. 95.
- Этот отрывок рассматривался под названием «Утилитарная утопия» как наиболее характерное изложение утверждений Бентама относительно будущего идеального общества Лонгом, «Бентам», стр. 130–132, и Кримминсом, «Светский утилитаризм», стр. 305–306.
- Сочинения (Боуринг), т. i, стр. 194; ср. UC cxlii. 200.
- См. Гельвеций, De l’homme, т. 2, с. 202 (VIII, 2).
- Сочинения (Боуринг), т. I, стр. 194.
- См. Гельвеций, De l’esprit, с. 47 (II, 3) и с. 59 (II, 5).
- См. Вуттон, Дэвид, «Гельвеций: от радикального Просвещения к революции», Political Theory 28 (2000), стр. 307–36, на стр. 322–23 . CrossRef Google Scholar
- «Екатерины и Фридрихи стремятся внушить человечеству любовь к себе… Именно благодаря им мир будет просвещен» (Гельвеций, «О человеке», предисловие; я следую переводу Смита, «Гельвеций», стр. 287).
- Гельвеций, De l’homme, т. 1, с. 326 (IV, 14).
- Бентам, «Фрагмент о правительстве», комментарий к комментариям и фрагменту о правительстве , под ред. Дж. Х. Бернса и Г. Л. А. Харта (Лондон, 1977), стр. 391–551, на стр. 399.
- Аналогичное утверждение выдвигает Вуттон, «Гельвеций», стр. 332, прим. 33.
- Бентам, «Первые принципы подготовки конституционного кодекса» , стр. 283; ср. Бентам, «Конституционный кодекс: Том I», под ред. Ф. Розена и Дж. Х. Бернса (Оксфорд, 1983), стр. 36; «Сочинения» (Боуринг), т. iii, стр. 471–472; а также многочисленные ссылки в книге Хофмана «Политика» , стр. 282–284.
- Эмануэль де Шам, «Полезность, мораль и реформа: Бентам и континентальная юриспруденция XVIII века», «Теория права и общественного мнения Бентама» , под ред. X. Zhai и M. Quinn (Кембридж, 2014), стр. 184–207, на стр. 207, упоминает «общественное мнение» в связи с Бентамом как «агента перемен». Розен подчёркивает, что у Бентама моральная санкция «связывалась с активным и критическим общественным мнением» («Классический утилитаризм», стр. 92).
- Бентам, «Чепуха на ходулях», стр. 319.
- Дифференцированная картина «обращения» нарисована в книге Филипа Скофилда «Польза и демократия: политическая мысль Джереми Бентама» (Оксфорд, 2006).
- См. Сочинения (Боуринг), т. iii, стр. 507.
- Сочинения (Боуринг), т. I, 457.
- См., например, Mill, James, Political Writings, под ред. Ball, T. (Кембридж , 1992), стр. 41. Google Scholar
- Бентам, «Сочинения о законах о бедных» , т. II, стр. 6–7.
- Бентам критикует образование бедняков, утверждая, что «до сих пор едва ли считалось стоящим внимания» (Бентам, «Записки о законах о бедных» , т. II, стр. 167).
- Bentham, Chrestomathia, стр. xiii. Были дебаты по вопросу о том, в какой степени Chrestomathia действительно была предназначена для предоставления навыков, необходимых для политического участия, или же она была скорее больше ориентирована на необходимость экономического роста во времена Бентама. Несомненно, Chrestomathia включает в себя больше политического образования, чем предложение Бентама об образовании для бедных. Ср. Itzkin , Elissa, ‘Bentham’s Chrestomathia: Utilitarian Legacy to English Education‘, Journal of the History of Ideas 39 (1978) CrossRef Google Scholar , стр. 303–16, и Taylor, Brian, ‘A Note in Response to Itzkin’s “Bentham’s Chrestomathia: Utilitarian Legacy to English Education” , Journal of the History of Ideas 43 ( 1982 ), стр. 309–13 . CrossRef Google Scholar
- Бентам, «Сочинения о законах о бедных», т. II, стр. 184.
- Бентам, «Сочинения о законах о бедных», т. II, стр. 168.
- Цитируется по Кримминсу, «Светский утилитаризм», стр. 314.
- Цитируется по Кримминсу, «Светский утилитаризм», стр. 315.
- Частично документировано в книге Бентама «Законодатель мира: труды по кодификации, праву и образованию» под ред. П. Скофилда и Дж. Харриса (Оксфорд, 1998).
- См. Поллард, Сидней, «Классический утилитаризм: Einflüsse, Entwicklungen, Folgen», «Классический утилитаризм». Einflüsse – Entwicklungen – Folgen, изд. Геде, У. и Шредер, В. (Берлин, 1992), стр. 10–33 Google Scholar; Томас, Уильям, Философские радикалы: девять исследований по теории и практике 1817–1841 (Оксфорд, 1979). Google Академика
- Бентам, «Статья об утилитаризме: длинная версия», Деонтология, а также «Таблица источников действия» и статья об утилитаризме, под ред. А. Голдворта (Оксфорд, 1983), стр. 283–318, на стр. 290 (выделено мной).
- Я очень благодарен Курту Байерцу, Майклу Куинну и двум анонимным рецензентам за полезные комментарии. Кроме того, я хотел бы поблагодарить участников 14-й конференции Международного общества утилитаристских исследований (Международное общество утилитаристских исследований), Лилльского католического университета (Франция), и членов координируемой проектной группы «Разжижение и затвердевание нормативности» кластера передового опыта «Религия и политика» за их конструктивные отзывы. Предыдущая версия статьи была переведена Сарой Л. Киркби, и я благодарен им за плодотворное сотрудничество. Данная работа публикуется при любезной поддержке кластера передового опыта «Религия и политика в культурах досовременности и современности» Мюнстерского университета (Германия) в рамках программы «Инициатива за достижение совершенства», реализуемой федеральным правительством и землями.
