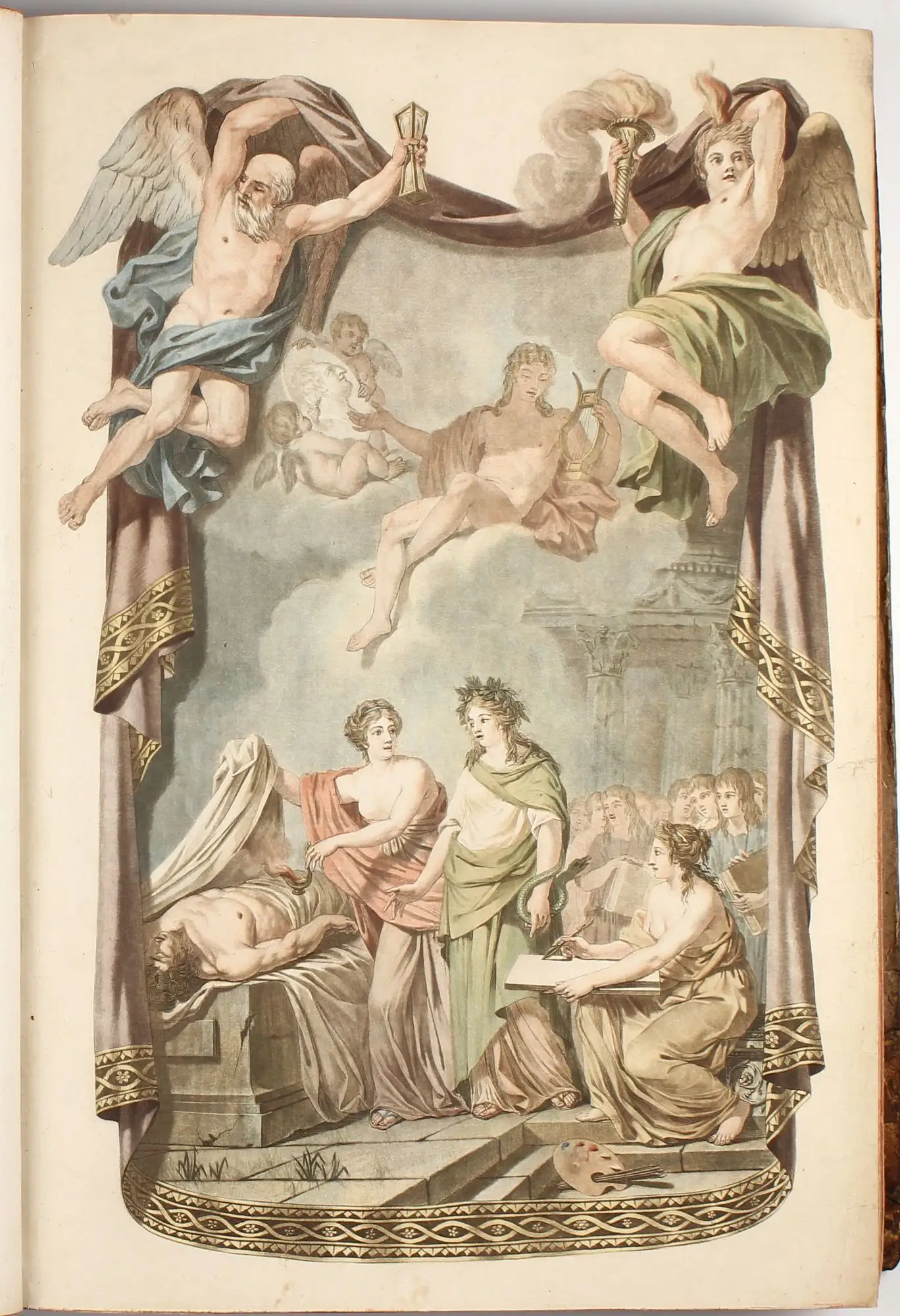
Четвертая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).
Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.
Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.
Кабанис, став сенатором, недолго сохранял восхищение конституцией VIII года и доверие к Бонапарту. Но именно потому, что он сам принимал участие в становлении нового режима, к тем его трудам, которые публиковались в двух первых томах Мемуаров второй секции [Института], отнеслись с особым вниманием.
Три восторженных письма Тюро, последнее из которых появилось за несколько дней до Маренго, привлекли к ним внимание читателей Декады. По мнению Тюро, Кабанис возвёл метафизические и моральные науки в ранг физических и естественных наук, наделив их такой степенью достоверности и очевидности, которую прежде вряд ли кто приписал бы этим дисциплинам. В это же время Биран работает над своим первым Мемуаром о привычке: «Труд Кабаниса, — пишет он, — проливает новый свет на науку о человеке и предвещает скорое возникновение новой метафизики».
Ничто не выглядит менее определённым и менее схватываемым, чем, по словам Ремюза, доктрина Отношений (Rapports). И он прав — если под этим он подразумевает, что у Кабаниса нет стройной метафизической системы и нет твёрдых ответов на вопросы о происхождении, природе или предназначении человека; но он неправ — в глазах того, кто принимает точку зрения самого Кабаниса, т.е. исследование соотношений между физиологическими и психологическими явлениями. И именно это — единственная и подлинная роль, которая подобает историку, стремящемуся представить Кабаниса как истинного основателя (после Декарта) физиологической психологии во Франции. Поэтому в дальнейшем мы будем попеременно акцентировать внимание то на методе и взаимосвязи идей, то на оригинальных прозрениях, чтобы осветить то, что может объяснить успех этой книги.
— I —
Шесть первых мемуаров «Отношений между физической и нравственной природой человека»: план и цель сочинения; физиологическая история ощущений; чувствительность и возбудимость; возрастные стадии; смерть; половые различия; темпераменты; наука и «отношения»
Особенно чётко цель и замысел работы раскрываются при чтении первого Мемуара. Прекрасна и возвышенна сама идея — рассматривать все науки и все искусства как ветви одного и того же ствола, связанные между собой общим истоком и единым предназначением: совершенствованием и счастьем человека. Однако среди них есть такие, которые оказывают друг другу более необходимую или более обширную помощь. Физиология, анализ идей и мораль — это три ветви одной и той же науки, которую вполне справедливо можно назвать наукой о человеке. Люди, достигшие наибольших успехов в рациональной философии, почти всегда были сведущи в физиологии, или, по крайней мере, развитие этих двух наук всегда шло параллельно.
Первые мудрецы Греции изучали человека, здорового и больного, с целью сохранить или вернуть ему здоровье. Именно там, словно по какому-то чуду, зародилась философия, вместе с самым прекрасным языком, на каком когда-либо говорило человечество. Пифагор и Демокрит, Гиппократ и Аристотель создали рациональные методы и системы, соединили с ними принципы морали и основали и то, и другое на физическом познании человека. Школа Пифагора в течение нескольких столетий давала законодателей всей древней Италии, учёных — всей Греции, а мудрецов — всему миру. Её основатель предвосхитил вечные превращения материи, впервые применил расчёт к изучению человека и стремился подчинить жизненные явления механическим формулам. Демокрит осмелился представить механическую систему мира, основанную на свойствах материи и законах движения. Это привело его к тому, что он стал искать принципы морали исключительно в способностях человека и во взаимных отношениях между индивидами. Он указал на опыт как на новый путь к истине. Он вскрывал животных и искал решение метафизических проблем в устройстве человека, сопоставляя его с жизненными функциями и моральными явлениями. Гиппократ в своих сочинениях объединил медицину и философию, начиная с изучения фактов. Он формировал учеников, окружая их всеми предметами их исследования, как если бы он уже был посвящён во все тайны аналитического метода. С одинаковой насторожённостью он относился и к обобщениям, основанным на недостаточных данных, и к беспомощности ума, который, не умея различать связи, вечно тащится от единичного к единичному без какого-либо результата. Он умел применять к различным частям своего искусства общие правила рассуждения и высшую метафизику, охватывающую все искусства и все науки. Нередко он бросал проницательный взгляд на законы природы и на способы, с помощью которых эти законы могут быть обращены на пользу человеку. В одном из выражений трактата [греческое слово в оригинале – Фр. Пикаве], он дал историю самой мысли.
Аристотель был одним из величайших умов античности. Он первым выполнил полную и стройную аналитику умозаключения. Если бы он поднялся до анализа происхождения знаков и осознал их влияние на сам процесс формирования идей, он, возможно, оставил бы своим последователям совсем немногое. История животных, чьи великолепные описания не смог затмить даже Бюффон, раскрывает тайну его гения. Именно в изучении физических фактов, в анатомии и физиологии он приобрёл ту ясность взгляда, которая его отличает, и почерпнул основные представления о живом организме, на которых основаны как его метафизика, так и его этика.
Бэкон открыл новые пути для человеческого разума. Он охватил все области науки, но особенно интересовался физиологией. Декарт, который, несмотря на свои ошибки, оказал науке и человеческому разуму бессмертные услуги, посвятил значительную часть своей жизни вскрытию тел. Тайну мышления он полагал скрытой в устройстве нервов и мозга. Он даже осмелился определить местонахождение души и пытался постичь законы, управляющие ею, посредством физиологических наблюдений. Гоббс больше размышлял, чем читал; и хотя он был незнаком с несколькими областями науки, он тем не менее внёс в сферу чистого рассуждения чрезвычайно строгую классификацию и такую точность языка, которая, возможно, до сих пор ещё не была превзойдена. Локк вернулся к ощущениям — подлинному источнику идей, и к порочной манере употребления слов — подлинному источнику ошибок. Будучи врачом, он начал с изучения физического человека, чем подготовил почву для своих открытий в области метафизики, морали и общественного устройства. Шарль Бонне был столь же великим естествоиспытателем, сколь и метафизиком. Гельвеций, с его мудрым и широким умом, и Кондильяк, с его светлым разумом и совершенным методом, не обладали теми физиологическими знаниями, которые помешали бы первому защищать теорию равенства всех умов и позволили бы второму понять, что душа, в том виде, в каком он её рассматривает, это скорее способность, чем сущность, а если бы даже она и была сущностью, она не могла бы обладать многими из тех качеств, которые он ей приписывает.
Чувствительность — это конечный результат и самый общий принцип, к которому приводит анализ умственных способностей и душевных состояний. Физическое и нравственное сливаются в своём источнике; нравственное есть не что иное, как физическое, рассматриваемое под некоторыми более частными углами зрения. Жизнь это последовательность движений, совершаемых под действием впечатлений, получаемых различными органами. Операции души или разума также являются результатом движений, совершаемых мозговым органом; эти движения либо вызываются впечатлениями, полученными и переданными чувствительными окончаниями нервов из разных частей тела, либо пробуждаются в этом органе средствами, которые, по-видимому, воздействуют непосредственно на него.
С того момента, как мы ощущаем — мы существуем. Когда какой-либо объект сопротивляется нашей воле, у нас возникает представление о том, что не является нами самими. Наши ощущения различны; между ощущениями, воспринимаемыми разными органами, существует закономерное соответствие, подчинённое постоянным законам; таким образом, мы уверены, по крайней мере относительно нас самих, что между внешними причинами существует такое же разнообразие, как и между нашими ощущениями.
Способ чувствования варьируется от одного человека к другому. Первоначальное устройство организма или темперамент, пол — всё это создаёт между людьми значительные различия. Возраст и состояние здоровья или болезни вызывают у одного и того же индивида изменения в способе ощущать. Наконец, климат, режим, характер или порядок труда, то есть совокупность физических привычек, также мощно его изменяют. С этой точки зрения физическое изучение человека может дать философу, моралисту и законодателю новые сведения о человеческой природе и основные представления о путях её совершенствования. Отсюда — план Rapports («Отношений»). За физиологической историей ощущений должны были последовать описание темпераментов, физико-нравственный обзор полов, затем возрастов, точное определение влияния климатов и история инстинкта, теория бреда, сна, физиологический анализ симпатии, изучение воздействия гигиены на душевные операции и размышления о влиянии болезней на характер идей и страстей, анализ обратного действия морального на физическое и общие соображения относительно того, какое воздействие медицина может оказывать на нравственное состояние. По этому поводу, — говорил Кабанис, — будет изложено всё, что может иметь прямое применение в трудах философа, моралиста и законодателя. Будут рассеяны последние остатки некоторых вредных предрассудков, и будет дана прочная, основанная в самой природе опора для священных принципов, которые для многих, хотя и просвещённых, умов до сих пор покоятся лишь на туманных основаниях. И Кабанис завершал это изложение пламенной апологией республиканского правления и страстным обвинением тирании и монархии.
Второй и третий «Мемуары» содержат Физиологическую историю ощущений. Автор ставит себе задачу восполнить прежде всего пробелы между наблюдениями анатомии или физиологии и результатами философского анализа. Не приходится, — говорит он в часто цитируемом месте, — доказывать, что физическая чувствительность есть источник всех идей и всех привычек, составляющих нравственное бытие человека. Локк, Бонне, Кондильяк, Гельвеций довели эту истину до последней степени доказательности. Среди образованных людей, хоть сколько-нибудь пользующихся своим разумом, теперь нет никого, кто мог бы в этом усомниться. Но физиологи установили, что жизненные движения являются результатом впечатлений, получаемых чувствительными частями тела, и что именно эти впечатления служат источником как идей, так и жизненных движений. Возникает вопрос: все ли поведенческие акты животных, как думал Кондильяк, являются продуктом рассудочного выбора, а значит — результатом опыта? Или же многие из них формируются чаще всего без участия воли индивида, за исключением лишь её направляющей функции, и именно в этом случае мы имеем дело с тем, что называют инстинктом? Точно так же, является ли чувствительность единственным источником органических движений? Или же определённая часть этих движений зависит от иного свойства — возбудимости?
Обе эти проблемы взаимосвязаны. Если существуют движения, зависящие от возбудимости, то к ней же следует отнести и те акты, которые совершаются без выбора и без суждения. Если существуют побуждения и движения, которых индивид не может сознавать, тогда нужно отличать импульс, побуждающий младенца сосать грудь матери, от рассуждения, заставляющего нас предпочесть пищу, которую мы уже сочли вкусной, пище, которую мы уже сочли неприятной, — и перестать утверждать, будто все наши идеи приходят к нам через внешние чувства. Вторая проблема — скорее вопрос слов, хотя гипотеза Шталя отличается большей простотой, и единство физического начала в ней лучше согласуется с единством нравственного начала. Но не так обстоит дело с первой проблемой. Движение есть, для человека, знак жизнедеятельности. Некоторые наши движения произвольны; другие, как секреции, кровообращение и т. д., совершаются без нашего ведома. Может ли одна и та же причина, чувствительность — порождать столь различные эффекты? У человека нервы являются особым местом чувствительности: они распределяют её по всем органам, образуя общее чувствующее поле. Между органами они устанавливают более или менее тесную связь и заставляют их различные функции содействовать общей жизнедеятельности. Поэтому, если перевязать или перерезать все нервные стволы, ветви которых расходятся по какой-либо части тела, эта часть становится совершенно нечувствительной, затем — неспособной к произвольным движениям, и, в конце концов, всякая жизненная функция в ней прекращается. Следовательно, возбудимость следует свести к чувствительности. Движение есть лишь эффект жизни, а нервы это истинная «душа» движений мышечных волокон. Кроме того, только чувствительность позволяет нам воспринимать как собственные органы, так и внешние объекты. Именно благодаря этим восприятиям и суждениям, которые мы из них выводим, совершаются произвольные движения: двигательные органы подчинены чувствующим и оживляются и направляются только ими. Наконец, непроизвольные и неосознанные движения зависят от впечатлений, полученных различными частями органов, а эти впечатления — от чувствительности этих частей.
Впечатления исходят от внешних объектов и почти всегда осознаются. Или же они получаются во внутренних органах, будучи вызваны различными жизненными функциями, — и тогда остаются неосознанными, хотя вызывают движения, причины которых мы не знаем. Философы-аналитики всегда пренебрегали последними. В этом смысле Кондильяк ошибался, утверждая, что все наши идеи происходят от чувств и через внешние объекты. Ведь и внутренние впечатления участвуют в формировании нравственных решений и идей.
Остаётся сделать для внутренних впечатлений то же, что Кондильяк сделал для внешних: определить, какие именно душевные состояния и какие идеи зависят от них, затем классифицировать и разложить их, чтобы каждой части тела приписать те, которые ей свойственны, или созданию которых она способствует. Вторая задача пока невозможна. Первую же можно, в определённой степени, выполнить. Существование плода сосредоточено во внутренних впечатлениях, в склонностях и побуждениях, которые из них вытекают и порождают движения в последние месяцы беременности. Когда ребёнок появляется на свет, желания, связанные с его телесным устройством и характером его чувствительности, проявляются с очевидностью и обнаруживают чувственный итог своеобразных процессов, которые законы, управляющие развитием, направляли столь медленно и молчаливо. Ещё не успев сопоставить множество впечатлений, обрушившихся на него, ребёнок уже проявляет вкусы, склонности, желания. Он сосёт грудь своей кормилицы, приводя в действие механизм, весьма сложный в глазах физика; с помощью различных движений лицевых мышц он выражает почти весь спектр общих чувств, присущих человеческой природе. Именно во внутренних впечатлениях, в их одновременном взаимодействии, в их симпатических сочетаниях и постоянном повторении в течение беременности надо искать источник этих склонностей, языка мимики, в котором они выражаются, и решений, к которым они ведут.
Точно так же птенцы предоставляют нам факты, связанные с их особым строением, с достигнутым ими уровнем жизненного развития и с ролью, которую им предстоит играть в жизни.
Феномены, относящиеся к созреванию органов размножения, происходят по тому же механизму: они не являются результатом опыта, рассуждения или выбора, основанного на известных ощущениях. Так, птица машет крыльями, ещё лишёнными перьев, козлёнок бодается рогами, которых у него ещё нет. Но из всех склонностей, которые нельзя объяснить привычкой, самый сильный — материнский инстинкт. Период, предшествующий материнству, показывает у животных целый ряд действий, необъяснимых в рамках теории Кондильяка. Птицы строят самые изощрённые гнёзда; их форма всегда одна и та же у каждого вида, во все времена и во всех странах; и у всех она наилучшим образом приспособлена к сохранению и благополучию птенцов, к климату и различным угрозам, которым они подвержены. Наконец, к тем же детерминациям, из которых складывается инстинкт и причина которых — во внутренних впечатлениях, можно отнести и те изменения, которые возникают в склонностях и желаниях после увечий или в связи с проявлениями некоторых болезней.
Следовательно, внутренним впечатлениям принадлежит инстинкт, а внешним — рассудок. Инстинкт у животных сильнее, а иногда и более прозорлив, чем у человека. Его проявление тем слабее, чем активнее работает разум, поскольку каждый орган обладает ограниченной чувствительностью, которая может быть усилена лишь за счёт других, ведь чувствующее существо способно лишь на определённую сумму внимания, которая перестаёт направляться в одну сторону, когда она поглощена другой.
Однако между внутренними или внешними впечатлениями и моральными определениями или идеями остаётся большой пробел. Возможно ли достоверно поработать над его восполнением?
Нельзя представить себе природу живого существа без удовольствия и боли, явлений столь же существенных для чувствительности, как гравитация и равновесие — для движения великих масс во Вселенной. Когда чувствительные окончания сокращаются — возникает боль; когда они расслабляются и раскрываются — появляется удовольствие. Орган чувствительности порождает чувство, реагируя сам на себя так же, как он реагирует на мышечные волокна, чтобы вызвать движение. Чувствительность подобна жидкости, общее количество которой определено, и которая всякий раз, когда направляется с избытком в один из своих каналов, пропорционально уменьшается в других. Но реакция чувствительного органа на самого себя, порождающая чувство, а также на другие части тела, вызывающая движение, всегда исходит из одного из нервных центров — спинного мозга, головного мозга, ганглиев и т. п.; важность этого центра всегда соразмерна с важностью жизненных функций, которые определяются этой реакцией, или с масштабом органов, осуществляющих их.
Таким образом, целостность функций предполагает целостность органов. Мысль, — говорит Кабанис в известном фрагменте, — не может существовать, если отсутствует мозг; она в той или иной степени искажается, если мозг деформирован или болен: «Чтобы составить верное представление об операциях мышления, нужно рассматривать мозг как особый орган, специально предназначенный для их осуществления, так же как желудок и кишечник предназначены для пищеварения, печень для фильтрации желчи, а околоушные, подчелюстные и подъязычные железы для выработки слюнных соков. Импульсы, достигая мозга, приводят его в состояние активности, как пища, попадая в желудок, возбуждает выделение желудочного сока и движения, способствующие её разложению. Собственная функция одного органа — создавать образы каждого отдельного впечатления, прикреплять к ним знаки, сочетать различные впечатления, сравнивать их между собой, извлекать из них суждения и намерения; так же как функция другого — действовать на питательные вещества, присутствие которых его стимулирует, растворять их и усваивать их соки, чтобы сделать их частью нашей природы. Скажут ли, что органические движения, посредством которых совершаются функции мозга, нам неизвестны? Но разве действие, посредством которого нервы желудка определяют различные операции пищеварения, или способ, каким они насыщают желудочный мешок наиболее активной растворяющей силой, — разве это менее ускользает от нашего познания? Мы видим, как пища попадает в этот орган со своими присущими ей свойствами; мы видим, как она выходит оттуда с новыми качествами — и заключаем, что орган действительно произвёл над ней это изменение. Точно так же мы видим, как впечатления поступают в мозг по нервам: они поступают изолированно и без связности. Орган вступает в действие, воздействует на них — и вскоре возвращает их преобразованными в идеи, которые выражаются наружу мимикой, жестом, речью или письмом. Мы с такой же уверенностью заключаем, что мозг, в некотором роде, «переваривает» впечатления, что он органически производит «секрецию» мысли».
Все выводы, полученные с опорой на факты — по методу физиков, и путем движения от одного положения к другому — по методу геометров, указывают на способность чувствовать, как на единственный принцип феноменов животной жизни. Какова причина, природа, сущность этой способности? Настоящие философы таких вопросов не ставят. Мы не имеем никакого представления о предметах, кроме наблюдаемых феноменов, которые они нам являют: их «природа» или «сущность» может быть для нас только совокупностью этих феноменов. Мы объясняем феномены, лишь связывая их с другими, уже известными, которым они подобны или за которыми следуют. При наличии сходства мы тем теснее соединяем их, чем сходство полнее; при постоянной последовательности мы устанавливаем между ними отношения, выраженные словами «причина» и «следствие». Общие факты не подлежат объяснению: если бы они сводились, по сходству, к какому-либо другому феномену, они подчинялись бы ему или сливались с ним; если бы они зависели от других как от своих причин, то перестали бы быть фактами общего порядка. Общие факты существуют, потому что они существуют. Мы не можем объяснить тяготение в физике тел, и также не следует пытаться объяснить чувствительность — общий факт живой природы — в физике живого тела и в рациональной философии. Мы ещё не смогли свести её к какому-либо другому, более общему, феномену универсальной природы, и, вероятно, никогда не сможем. А если бы даже однажды это удалось, мы не узнали бы ничего нового о первопричинах, от которых мы уже отделили множество феноменов, не прояснив тем самым их самих ни в какой мере.
Надпись на одном из древних храмов, в по-настоящему величественной и философской форме, наделяла голосом первую причину Вселенной. Я есмь то, что есть, что было и что будет, и никто не познал моей природы. Другая надпись гласила: Познай самого себя. Первая это признание неизбежного незнания; а вторая это чёткое и ясное указание на цель, которую должны преследовать рациональная и нравственная философия.
Во втором Мемуаре о физиологической истории ощущений Кабанис говорит о впечатлениях, получаемых органом чувствительности от изменений, происходящих внутри него самого, и о движениях и определениях, к которым они приводят. Таким образом он объясняет некоторые формы безумия, эпилепсии и экстатических состояний. Между состоянием, где все операции искажены, и естественным состоянием, в котором феномены следуют известным законам, существуют промежуточные градации. Сильная сосредоточенность, или глубокая медитация — приостанавливают действие внешних органов чувств; операции памяти и воображения, как правило, совершаются без какого-либо вмешательства причин, находящихся вне чувствующего органа. Иногда самопроизвольное действие этого органа ограничивается лишь одной его частью: так, некоторые ипохондрики ощущают себя столь лёгкими, что боятся быть унесёнными малейшим ветром, или чувствуют, будто у них явно увеличивается нос. Один человек, страдающий абсцессом мозолистого тела, ощущает, как будто его кровать ускользает из-под него, и уже шесть месяцев его преследует трупный запах. Другой, напротив, ощущает, как он поочерёдно разрастается и сжимается почти до бесконечности.
Движения, зависящие от спонтанных впечатлений чувствительного органа, подчиняются тем же законам: общее или частичное движение живых частей предполагает наличие в нервном центре, который его вызывает, подобного ему движения; это движение распространяется по симпатии на различные органы или сосредотачивается в одном. Таким образом, в человеке существует, как говорил Сиденхем, внутренний человек, обладающий теми же способностями и теми же аффектами: это мозговой орган. Исходя из этого, различают три самостоятельные операции чувствительности: они относятся либо к органам чувств, либо к внутренним частям тела — особенно к органам грудной и брюшной полостей — либо к самому мозговому органу.
Но в чём заключается целостность головного мозга, спинного мозга, всей нервной системы в целом? Без мозга мышление невозможно, а болезни мозга вызывают нарушения, аналогичные и соразмерные изменениям в умственных операциях. Интеллектуальные процессы протекают нормально лишь в том случае, если впечатления обладают определённой живостью. Между способом, каким формируется ощущение, и способом, каким определяется движение, существует прямая взаимосвязь. Двигательные силы притупляются и исчезают, если чувствительность их не обновляет; они теряют устойчивость и силу, когда впечатления слишком ярки или слишком многочисленны. Энергия и устойчивость движений прямо пропорциональны силе и продолжительности ощущений.
Идеи и побуждения, которые нервная система формирует непосредственно, вызываются движениями, происходящими в этой системе, и подчинены тем же законам, что и действия наших конечностей. Если побуждения возникают из впечатлений, производимых внутри самого чувствующего органа, они устойчивы и доминируют над остальными — как у маниакальных личностей. Если они происходят от внутренних чувствительных окончаний и от органов, в которых эти окончания расположены, как это происходит с инстинктивными побуждениями, они уже менее устойчивы и менее настойчивы. Наконец, ощущения в собственном смысле — единственные, которыми занимались идеологи — поступают через органы чувств и являются наименее глубокими и наименее продолжительными.
Так как мозговая масса (pulpe cérébrale) повсюду кажется одинаковой, различие впечатлений, по-видимому, зависит от различной структуры органов, от того, как нервные окончания в них разветвляются и как внешние причины действуют на эти разветвления. Осязание — это впечатления в самом общем смысле, модификации которого составляют остальные виды ощущений. В коже окончания мозговой массы сильно покрыты и защищены, в органах вкуса, обоняния и слуха — меньше, а в органе зрения они почти оголены и сильно разветвлены. Но каковы наиболее очевидные и общие обстоятельства, свойственные функциям каждого из органов чувств? Существует постоянный закон одушевлённой природы: частое повторение впечатлений делает их более отчётливыми, повторение движений делает их более лёгкими и точными, но также и то, что слишком яркие и слишком часто повторяющиеся впечатления ослабляют чувствительность. Осязание — это первое чувство, которое развивается, и последнее, которое угасает вместе с чувствительностью и жизнью. Впечатления вкуса кратковременны, переменчивы, многочисленны, бурны и часто сопровождаются сильным желанием, поэтому различать вкусы учатся очень медленно, а вспоминать их весьма трудно. Если запахи слишком сильны, они притупляют чувствительность органа; если постоянны, то перестают восприниматься и, оставляя слабый след, могут быть вызваны волей лишь с большим трудом. Однако их воздействие на нервную систему, пищеварительный тракт и половые органы весьма значительно.
Наиболее прочными и точными воспоминаниями, наиболее широкими познаниями мы обязаны зрению и слуху. Слух воспринимает и анализирует впечатления от устной речи, а кроме того, ритм песни или поэзии делает восприятия более отчётливыми, а воспоминания более доступными. Глаз упражняется постоянно, его впечатления связаны со всеми нашими потребностями и способностями; они могут непрерывно повторяться, продолжаться и варьироваться.
Хотя восприятие и сравнение, вероятно, происходят в общем нервном центре, который один только и есть «внутреннее чувство», тем не менее, каждое чувство, по-видимому, обладает собственной памятью. Если не брать в расчёт осязание, вкус и обоняние — хотя и для них можно привести примеры — заметим, что часто слышанные звуки сохраняются в слухе и иногда вновь воспроизводятся весьма назойливо; а если после нескольких минут взгляда на окно, освещённое солнцем, закрыть глаза, то след от впечатлений обычно сохраняется вдвое дольше, чем длилось само впечатление.
Как итог: способ восприятия ощущений, необходимых для приобретения идей, переживания чувств или проявления воли — словом, для самого существования — различен у разных людей и зависит от состояния органов, от силы или слабости нервной системы, но прежде всего от её типа чувствительности. Поэтому следует изучить, как изменяются ощущения под воздействием возраста, пола, темперамента, болезней, режима (образа жизни) и климата.
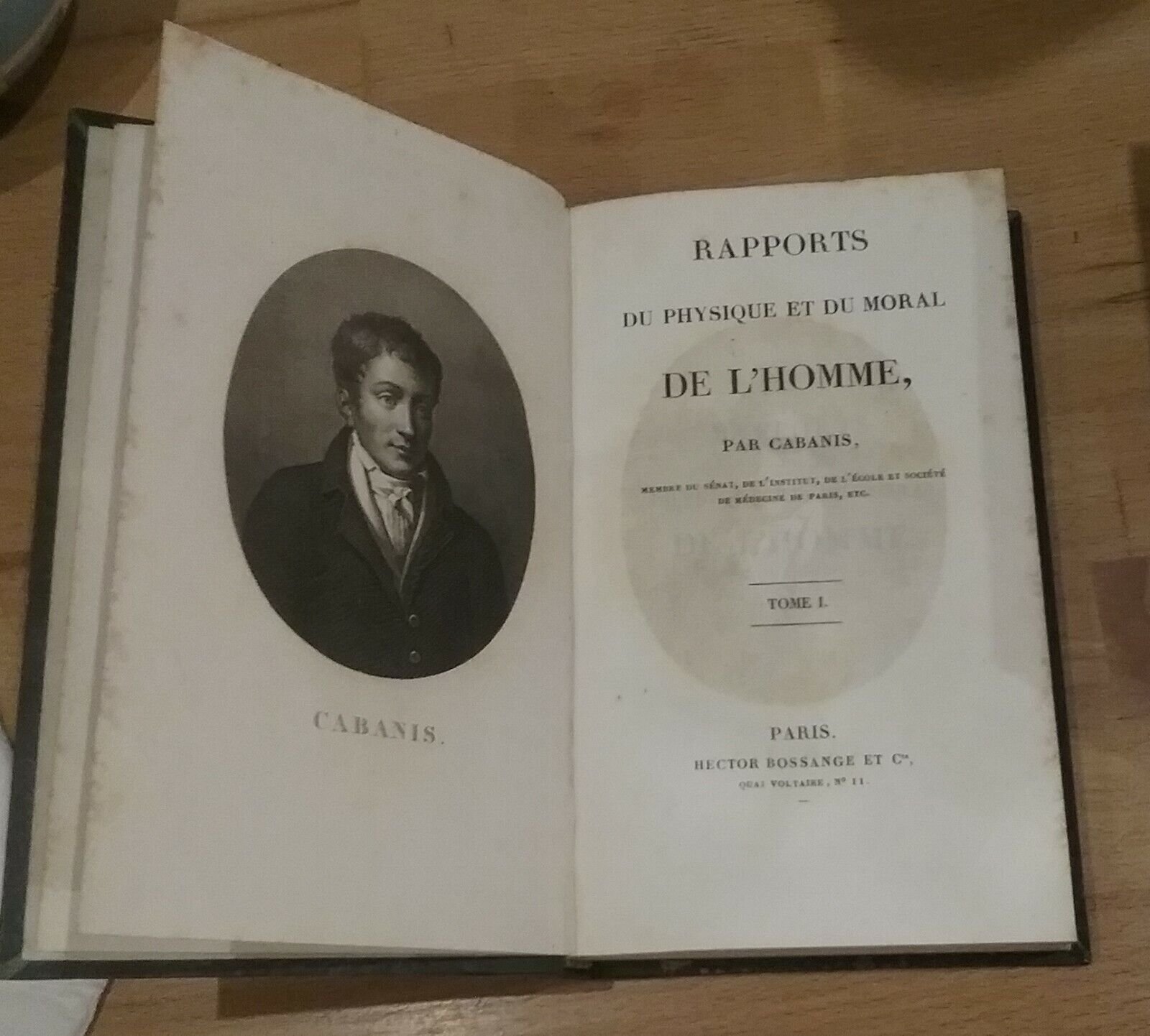
Во Влиянии возрастов Кабанис, как ученик Гиппократа, а ещё более Гераклита, утверждает: всё пребывает в движении, всё есть непрерывное разложение и воссоздание, разрушение и возрождение. Эти метаморфозы, как неизбежное следствие никогда не прерываемого действия, в свою очередь обновляют его причины и сохраняют вечную юность Вселенной. Длительность и последовательные фазы существования различных тел в их определённой форме зависят скорее от условий их формирования, чем от их составных элементов. Химические соединения и разложения происходят по законам, несравненно менее простым, чем законы тяготения великих масс, и менее точным, чем те, что управляют существованием и сохранением организованных существ. Растения, чья организация наиболее груба, проявляют силы, свойственные исключительно организованным телам; даже у самых примитивных животных наблюдаются феномены, присущие только чувствующей природе. Камедь или слизь организуется у растений в губчатую ткань, в древесные волокна, в кору, листья и т. п.; у животных она преобразуется в желатин, затем в клетчатку, в живое волокно, в мембраны, сосуды и костные ткани. Слизь, а ещё больше желатин, обладают выраженной склонностью к свертыванию; глютен питательных семян удивительно близок к животной фибрине — эти точки соприкосновения, не отменяя принципиальных различий между животными и растениями, возможно, помогут когда-нибудь пролить свет на тайну организации. Тем не менее, следует признать наличие некоего оживляющего начала или способности, которую природа закрепляет в зародышах или передаёт в семенных жидкостях — или, точнее, некоего условия, без которого феномены, присущие организованным телам, не могли бы иметь места. Однако это не есть некое отдельное существо, передающее телам свойства, из которых проистекают их функции. У животных это начало отождествляется с нервной системой. Органы и способности варьируют в зависимости от состояния нервной системы и клетчатки. Желатин, главным резервуаром которого является последняя, у молодых животных сохраняет ещё много от растительной слизи. Постепенно он превращается в фибрин и всё более «оживляется» (s’animalise) по мере перехода от одного животного к другому. В нервной системе происходят ещё более значительные изменения. Её взаимодействие с органами варьируется день ото дня: сначала оно быстрое и стремительное, затем — более мощное и уравновешенное, наконец — медленное и вялое. У ребёнка сосудов очень много, мышцы отличаются высокой возбудимостью, железы и вся лимфатическая система — сильной напряжённостью. Отсюда подвижность, мышечная слабость и бурное течение процессов; яркие, многочисленные, но нестойкие впечатления; быстрые, неуверенные и недолговечные идеи; нечто судорожное и в страстях, и в болезнях.
Древние врачи делили жизнь на климатерические периоды: первый заканчивается к семи годам, с появлением вторых зубов, то есть с наступлением возраста разума; второй уже к четырнадцати. «Ж.-Ж. Руссо особенно тщательно проследил в своём плане воспитания историю и направление этого важного этапа жизни (от семи до четырнадцати лет); он описал его с величайшей точностью, а практические уроки, которые он сопровождает примерами, являются образцами анализа. Его удивительный дар придаёт истинам, открытым этой методой, живость, очарование и даже свет, благодаря которым они проникают одновременно и в разум, и в сердце». Постепенно впечатления начинают устанавливаться и регулироваться; память становится более системной и устойчивой, внимание более сосредоточенным и продолжительным; клетчатка уплотняется, ткани приобретают больший тонус, а стимулы, циркулирующие в каждой из жидкостей, — большую активность.
Затем вступают в действие органы воспроизводства, усиливаются теплота и сила животного организма. Подростковый возраст завершается юностью: мозговой орган получает, особенно в этот период, впечатления, специфические для него самого, причины которых действуют внутри него; воображение тогда проявляет своё наибольшее могущество.
Около тридцати пяти лет происходит переход от юности к зрелости, который влечёт за собой наиболее заметные изменения как в физическом, так и в моральном плане. Прочность твёрдых тканей начинает уравновешивать активность нервной системы и напор жидкостей; кровь всё менее наполняет артерии и всё более — вены; чувство силы и благополучия, присущее юности, постепенно угасает; смелость уступает место рассудительности и осторожности. Поскольку счастье заключается в свободном проявлении способностей, а жизнь тем полнее, чем интенсивнее действуют органы, не выходя за пределы естественного порядка, воображение, утратив ощущение силы, стремится компенсировать его за счёт впечатлений, производимых искусственным могуществом, обращённым вовне: отсюда возникает стремление к власти.
К концу зрелого возраста, в результате разложения гуморов, появляются подагра, камни, ревматизм и предрасположенность к апоплексии. Иногда их едкость вызывает реакцию нервного органа на самого себя и порождает нечто вроде второй юности — Ж.-Ж. Руссо служит тому необычным примером. Но вскоре старик живёт, действует и мыслит с трудом, он думает лишь о себе и стремится к тому вечному покою, который природа приготовила всем существам как спокойную ночь после дня волнений. Память оставляет его; он лучше вспоминает впечатления детства, которые, будучи словно слитыми с организацией, сблизились с автоматическими действиями инстинкта. Слабость мозга и процессов, которые его заставляют чувствовать, придаёт волевым актам подвижность и характер, свойственные детскому возрасту. «Смерть, — говорит Кабанис, — не страшна в глазах разума; она пугает лишь слабые умы, не способные правильно оценить, что они покидают и что, возможно, находят, — или же виновные души, которые к сожалению об упущенном счастье прибавляют страхи перед мстительным будущим. Для мудрого разума, для чистой совести смерть — это лишь конец жизни: вечер прекрасного дня».
Сопровождаясь различными ощущениями в зависимости от возраста и характера болезни, смерть бывает конвульсивной, болезненной в юности и при острых недугах; но, кажется, именно в зрелом возрасте умирают с наименьшим смирением. Бэкон считал искусство облегчить смерть завершением искусства её отсрочивать: медицина должна собрать все свои ресурсы, чтобы смягчить наш последний час, подобно тому как драматург вкладывает весь свой гений в последний акт пьесы. Кабанис осуществит чаяния Бэкона, говоря о влиянии, которое однажды медицина должна оказать на совершенствование и наибольшее благополучие человеческого рода.
Пятый мемуар посвящён влиянию полов. Величайшее действие природы — это воспроизводство индивидов и сохранение видов. Мужчина и женщина различаются во всех частях своей организации. Мышечная слабость предрасполагает женщин к сидячему образу жизни и более деликатным заботам; мужчинам необходимы движение и усилие. Эти различия обусловлены влиянием половых органов, которые более чувствительны и раздражимы, поскольку они пронизаны нервами, исходящими из разных стволов. Благодаря своей железистой природе, они сильно воздействуют на мозг. Из различной роли мужчины и женщины в размножении можно вывести различие их бытия и нравов. Совершенство мужчины — в силе и смелости; совершенство женщины — в грации и ловкости. Их идеи и чувства соразмерны их организации и способу чувствовать. Женщина ограничивается занятиями, развивающими изящество её пальцев, тонкость взгляда, грацию движений. Её пугают длительные и глубокие размышления, и она выбирает то, что требует больше чутья, чем знания, больше живости воображения, чем силы разума. Она замечательно подходит для той части нравственной философии, которая напрямую касается наблюдения за человеческим сердцем и обществом. С большой решимостью Кабанис выступает против женщин, выходящих за пределы этой роли.
Затем он объяснял, через органические различия, появление у мужчин инстинкта смелости или застенчивости, у женщин — стыдливости и кокетства; он описывал различные состояния полового созревания, связи между ощущениями, сопровождающими беременность, лактацию и зачатие, последствия утраты способности к деторождению, а также кастрации или недоразвитости половых органов. Любовь, в том виде, как её описывают и как она иногда действительно представлена в обществе, весьма далека от изначального плана природы.
Несколько побочных замечаний в этом мемуаре проясняют его метод и его метафизические установки. Мы видели, что он слишком редко приводит точные факты для обоснования своих утверждений, и это ему совершенно справедливо ставили в упрёк. Сам он объясняет это тем, что, чтобы не делать книгу чересчур объёмной, ограничивается основными и общими пунктами, и останавливается на частных фактах лишь постольку, поскольку их знание кажется необходимым для надёжности изложения и очевидности выводов (т. I, с. 317). Современным авторам, которые подменили «скрытые причины» более догматическими объяснениями, он упрекающе говорит, что они приучили умы к дурной привычке — стремиться постичь природу причин; что они, зачастую определяя эти причины, на самом деле персонифицируют чистые абстракции (I, 317). Для «финалистов», восхищающихся материнской любовью, он подмечает, что чудеса природы всецело в фактах, и что нет необходимости допускать в области причин что-либо чуждое необходимым условиям каждого конкретного существования; более того, господство финальных причин будет постепенно сужаться по мере того, как мы будем лучше понимать свойства материи и закономерную связь явлений (I, 365 и 390).
Кабанис объясняет в последнем из шести мемуаров, опубликованных в VIII году (1799/1800), четыре темперамента, признаваемые древними. Обильные лёгкие, более активное кроветворение, повышенное тепло, более эластичные мышцы и податливые волокна; живость и изящество идей, мягкость и доброжелательность в аффектах — при определённой подвижности и непостоянстве; недостаток глубины и силы ума — таковы черты сангвинического темперамента. У человека с холерическим темпераментом — крупные лёгкие и печень, чрезвычайно острые ощущения, исключительная чувствительность всех частей тела и почти постоянное чувство тревоги. Узкая и сжатая грудная клетка, привычное сжатие эпигастральной области сочетаются у меланхолика с нерешительными и сдержанными волевыми актами, с обдуманными чувствами, с желаниями и влечениями, которые больше носят характер страсти, чем простой потребности. Наконец, флегматик, при слабом тепле и малой силе кровообращения, отличается вялыми ощущениями, медленными и слабыми движениями, общей склонностью к покою.
К этим темпераментам Кабанис добавляет ещё два. Первый характеризуется преобладанием нервной или сенситивной системы над мышечной или двигательной, что сопровождается глубокими и устойчивыми волевыми актами, стойкими устремлениями, привычным энтузиазмом и страстной волей. Второй, напротив, характеризуется преобладанием двигательной системы над чувствительной, влекущим за собой поверхностные и мимолётные побуждения, беспрестанную череду впечатлений, которые быстро сменяют и взаимно уничтожают друг друга, а также мимолётные мысли и чувства и т. п.
Эти шесть темпераментов сочетаются в бесконечно различных пропорциях у людей, которых мы наблюдаем. Ни один не представляет точного и совершенного равновесия качеств или способностей, которое образовало бы темперамент, наилучшим образом способный обеспечить полное и всестороннее наслаждение каждым моментом жизни и гарантировать её продолжительность. Кроме того, хотя режим (образ жизни) может в некоторой степени изменять темперамент, он его не преобразует, поскольку темперамент даже передаётся от родителей детям. Поэтому Кабанис рекомендует смешение рас как наиболее действенное средство для изменения и улучшения человеческой природы. Поддерживая мысль о том, что равенство, хотя и действительно в общем смысле, будет всегда лишь приближённым в частных случаях, он прибегает к сравнению, которое часто ему ставили в упрёк.
Его окончательные выводы куда более обоснованны. Чтобы применять гигиену к индивидуальным случаям и свести её к общим правилам для всего человеческого рода, необходимо изучать строение и функции живых частей; а чтобы с пользой изучать морального человека, чтобы научиться управлять привычками духа и воли через привычки органов и темперамента, нужно познать человека физического.
В этом мемуаре Кабанис также утверждает, что наука заключается в систематическом познании и изложении связей, и он различает их куда точнее (I, с. 494 и далее), чем это позже сделал Ампер, которому ныне приписывают эту доктрину, — если говорить об их уловимости и значимости. Относительно природы нервной системы он высказывает некоторые гипотезы. Это настоящий резервуар электричества и фосфора, а также превосходный проводник. Эксперименты в области животной химии могли бы пролить большой свет на жизнедеятельность организма, дать идеи, напрямую применимые к медицине, гигиене и физическому воспитанию человека и, возможно, приоткрыли бы некоторые покровы, скрывающие тайну чувствительности. По-видимому, различия в врождённых или приобретённых свойствах живых организмов соответствуют различиям в интимном составе твёрдых веществ и жидкостей, но пока невозможно сделать из этого прямые выводы, а тем более установить что-либо догматически (I, с. 431). Так мы видим, как можно было, с одной стороны, упрекнуть «Rapports» в материалистических тенденциях, а с другой — пожаловаться, что в них нет строгих выводов. Но, как говорит сам автор, каким бы образом ни были решены все эти вопросы, они не меняют его доктрины. Чтобы судить о нём, следует обращаться к тем позитивным теориям, которые он развивает, а не к тем метафизическим тенденциям, которые он лишь слегка намечает. И это очень важно помнить, ведь сам Кабанис достаточно пренебрежительно относится к религиозным формам, противоречащим его позитивной доктрине.
— II —
Похвала Вик д’Азиру; «Отношения»; болезни; привычка; климат; трансформирующая космология 10-го мемуара; исследование плода и инстинкт; влияние «Отношений»
В панегирике Вик д’Азиру, составленном, по всей видимости, в это время для Института, Кабанис с энтузиазмом прославляет XVIII век. Однако уже тогда Бонапарт пришёл в ярость из-за отказа Дону покинуть Трибунат ради Государственного совета, а после 3 нивоза IX года (покушение с адской машиной) правительство предложило создать специальные трибуналы для судопроизводства по политическим преступлениям и правонарушениям. В Трибунате разгорелась острая оппозиция; произошёл открытый разрыв между Консулом и теми, кто энергичнее всего содействовал ему в день 18 брюмера. Последние даже подумывали присоединиться к Моро и Пишегрю, чтобы свергнуть Бонапарта. Говорят, особенно активно был настроен Кабанис. Однако Фуше раскрыл заговор и предупредил идеологов, которые либо были устранены, либо сами отошли от дел.
Здоровье Кабаниса вновь ухудшилось; Тем не менее Моро де ла Сарт, отчитываясь об открытии занятий в Парижской медицинской школе, сообщал, что профессор Кабанис намерен продолжить серию уже опубликованных Мемуаров, посвятив её поочерёдно влиянию болезней, климата, профессий и т. д. Во фруктидоре (1809) вышли два тома Rapports du physique et du moral de l’homme («Отношения..»), включавшие шесть новых мемуаров. Тремя годами позже Кабанис выпустил новое издание с аналитическим указателем, составленным самим Дестютом де Траси, и алфавитным указателем, составленным Сюэ (Suë). Хотя публика встретила книгу благосклонно, она вышла уже после публикации «Гения христианства» и заключения конкордата. Из предисловия и сравнения первого тома с первоначальными мемуарами становится ясно: идеологи всё больше вынуждены занимать оборонительную позицию перед лицом реакции. Так, вместо «конфедерации философов, сформированной в самой Франции под самым взором деспотизма, который напрасно содрогался от ярости», теперь говорится о «мирной ассоциации философов, сформированной внутри Франции». «Святая конфедерация против фанатизма и тирании» превращается в «почтенных людей, объединившихся для борьбы с фанатизмом и, по крайней мере, для ослабления всех форм тирании» (стр. 2-3). Ранее в мемуаре утверждалось, что первые назареи поспешили слить свои верования, мрачный и невежественный фанатизм с мечтами платоников; теперь же в книге объясняется, что речь идёт о секте иудео-христиан, возглавляемой Керинфом, — тем самым устраняется всякая прямая аллюзия на христианство. Более того, Кабанис удаляет смелое и красноречивое заключение первого мемуара, которое могло бы быть воспринято как косвенная, но резкая сатира на правление Бонапарта. Там, где раньше говорилось, что все физиологические и моральные феномены в конечном итоге сводятся исключительно к физической чувствительности, теперь упоминается просто чувствительность (I, 155). Обращаясь к тем, кто считает себя благочестивыми и резко осудил выражение вечный покой, Кабанис напоминает, что это словосочетание дословно переведено из молитвы Католической церкви (I, 303). Хотя он по-прежнему, вслед за Бэконом, считает философию конечных причин бесплодной, он добавляет (возможно, уже размышляя над Письмом о первых причинах), что человеку, даже самому сдержанному, крайне трудно никогда не прибегать к ней в своих объяснениях (I, 352).
Другие исправления, хотя и не столь значительные, также заслуживают упоминания. Одни касаются формы и весьма удачно её улучшают, другие направлены, в частности в отношении психологического состояния плода, на то, чтобы заменить ранее заимствованные у Дестюта де Траси положения — современными доктринами самого Траси. Вставлены также дополнения, указывающие, что немцы понимают под антропологией объединение физиологии, анализа идей и морали — именно тех дисциплин, которые Кабанис соединял в науке о человеке (стр. 7); включение Эпикура после Пифагора, Демокрита, Гиппократа и Аристотеля в число благодетелей человечества (стр. 14); похвала гигиеническому плану Моро де ла Сарта (стр. 19) и призыв к его другу и коллеге Туре представить доктрину Гиппократа (стр. 23). Уточняется также, что знаменитая формула nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu не встречается дословно у Аристотеля. Он с похвалой упоминает, наряду с Галлером, Калленом, Пинелем и Алле, также и Ришерана, который уже стоит рядом с мастерами (стр. 55), и отмечает, что Пинель не нашёл постоянных результатов в исследовании мозга всех безумцев (стр. 68). Он отсылает к анатомии Биша (стр. 85), предварительно довольно своеобразно, но, по-видимому, вполне обоснованно, намекнув, что молодой автор позаимствовал у него некоторые идеи, не признавшись в этом. В примечаниях он обещает опубликовать труд о физическом усовершенствовании человеческого рода, к которому уже собирает материалы (стр. 314); говорит о смерти Русселя, автора Физической и моральной системы женщины, как о большой утрате для философии и литературы (стр. 372); приводит опыты Вольта, согласно которым нельзя сомневаться в тождестве гальванического и электрического флюида (стр. 430).
Кабанис, более сдержанный в метафизических и религиозных вопросах, высказывается с большей определённостью по вопросам научной философии. По его убеждению, из его труда следует, что физика является основой моральных наук: став таким образом отраслью естественной истории человека, они смогут идти надёжным путём и быстро продвигаться вперёд (стр. XXI). Сам он считает, что вполне возможно управлять с помощью физического и морального режима периодическими и чередующимися состояниями активности и покоя мозга; возможно даже искусственно вызывать такие состояния, чтобы временно усиливать интеллектуальные способности или направлять их в новое русло (стр. 17). Если прежде он полагал вероятным, что чувствительность никогда не удастся свести к более общему феномену, то теперь не исключает, что когда-нибудь удастся установить её связь с определёнными, хорошо признанными свойствами материи (стр. 158). Хотя он и полагает, что разумные люди всегда будут с уважением относиться к случайным убеждениям, которые помогают другим становиться лучше или счастливее, он считает необходимым удержать тех, кто перестаёт в них верить, от того, чтобы вместе с ними они не отвергли как пустые мечты и добродетели, которые для них на этих убеждениях держались (стр. XXXVIII). Истинное счастье является по необходимости исключительной принадлежностью истинной добродетели. По счастливой необходимости, интерес каждого человека никогда не может быть отделён от интереса других: связывая свои чувства с настоящей и будущей судьбой ближнего, человек безгранично расширяет своё мимолётное и ограниченное существование и освобождается от власти случая.
Кабанис, самый влиятельный представитель школы в тот момент, не забывает упомянуть о трудах тех, кто сотрудничает с ним в этом общем начинании.
В изучении Отношений между физическим и моральным самое важное — это вопрос о влиянии болезней на формирование идей и нравственных аффектов. Кабанис поочерёдно рассматривает: нервные расстройства, возникающие от половых органов и вызывающие возбуждение и экстазы, или от ипохондрических внутренностей — которые порождают печальные, тревожные страсти, а то и безумие; а затем — общее ослабление способности чувствовать; лихорадки, при которых состояние интеллектуальных способностей точно соответствует состоянию сжатия или активного расширения органов, но также принимает особый характер в зависимости от природы лихорадки и от типа больного органа, являющегося её источником; наконец, дегенерации лимфы, золотуху, рахит, цингу, своеобразную едкую злобность гнилостных и проказных гуморов. Болезни напрямую влияют на формирование идей и моральных склонностей; медицина, успешно борясь с ними, способствует изменению и совершенствованию операций разума и привычек воли. Но наиболее интересным в этом Мемуаре являются начальные соображения и некоторые примеры. По мнению автора, в физическом мире царит порядок, раз Вселенная существует и определённые явления периодически повторяются. Порядок преобладает также в мире нравственном, и некая скрытая, постоянно действующая сила неустанно стремится сделать его всёобщим и полным — о чём свидетельствуют существование общественного состояния, его прогрессивное усовершенствование, его устойчивость (стр. 493). Более того, автоматическое развитие свойств материи, постоянное движение Вселенной, а с другой стороны — действия человека, в долгосрочной перспективе могут изменить или даже не позволить вновь возникнуть обстоятельствам, способным разрушать порядок. Таким образом, по мнению Кабаниса, вслед за Лапласом, но до Ламарка, Дарвина и Спенсера, благодаря одному лишь упорству вещей, может происходить «постепенное ослабление природных причин, которые изначально могли препятствовать благоприятному изменению», и очевидные улучшения будут делом самой природы. Всеобщий порядок, царящий между великими массами, возможно, установился постепенно. Вероятно, небесные тела долгое время существовали в других формах и имели иные соотношения; возможно, весь этот великий организм однажды будет усовершенствован в аспектах, о которых мы не имеем ни малейшего представления, но которые изменят состояние Земли и существование всех существ, «которых порождает её плодовитое лоно» (стр. 495 и далее).
Ряд хорошо наблюдённых, хотя и пока ещё недостаточно чётко описанных фактов подготавливает выводы: Кабанис отмечает, что во время озноба при лихорадке круг интересов и идей у него крайне сужался, и его интеллектуальные и нравственные способности почти полностью сводились к животному инстинкту (стр. 536). Не раз он наблюдал у женщин, которые могли бы быть прекрасными питониссами в древности, наиболее странные эффекты изменений в органах чувств: одни без труда различают невооружённым глазом микроскопические объекты; другие достаточно хорошо видят в полной темноте, чтобы уверенно передвигаться; третьи идут по следу за людьми, словно собаки, и узнают запах предметов, которыми эти люди пользовались или даже просто прикасались. Есть женщины, у которых вкус стал столь тонким, что они с большой точностью желают и умеют выбирать пищу или даже лекарства — с проницательностью, которая обычно наблюдается лишь у животных. Другие ощущают в себе, в состоянии припадков, или кризисы, которые готовятся и, как скоро докажет развитие событий, были ими точно предугаданы, или органические изменения, о которых свидетельствуют пульс и другие, ещё более определённые признаки. «Следовало бы, — справедливо замечает он, оставляя, однако, осуществление своих рекомендаций потомкам, — провести множество наблюдений над этими кризисами, над этими общими изменениями, над этими всплесками или сосредоточениями чувствительности… и философский анализ, наряду с физиологией, мог бы извлечь из них новый свет» (стр. 554).
Под словом режим Кабанис понимает совокупность физических привычек, как добровольных, так и вынужденных. Если электрические машины, искусственные магниты и даже звучащие тела демонстрируют следы привычек, то именно растения, а особенно животные способны их вырабатывать. Человек, в котором всё «согласуется, взаимодействует, соучаствует», подвержен влиянию тяжести, температуры, сухости или влажности воздуха; пищи, режима питания — щадящего или молочного; наркотических и усыпляющих веществ; напитков, физических упражнений, покоя или сна, труда. Хорошая гигиена, устанавливая правила, направленные на совершенствование физической жизни, существенно способствует улучшению человека и росту его счастья.
В этом мемуаре содержатся также некоторые личные наблюдения, изложенные более чётко, чем обычно у Кабаниса. Он заметил (II, 19), что у некоторых хрупких женщин, особенно во время или вблизи менструаций, наблюдается некое расстройство ума и характера — предвестие гроз или удушливых южных ветров. «Незадолго до Революции, — пишет он, — ко мне обратились за советом по поводу женщины, у которой отёчность и общее затвердение жировой и соединительной ткани вскоре поэтапно привели к полному удушению жизни. Когда с ней говорили, это нужно было делать очень медленно. Она отвечала лишь через несколько минут, и ещё более замедленно. Её разум, казалось, колебался и спотыкался на каждом слове. До болезни она отличалась умом: когда я её увидел, она находилась в состоянии подлинного слабоумия. Ранее очень богатая, она казалась почти неспособной желать чего бы то ни было; в ней не проявлялось ни малейшего чувства отвращения или привязанности» (стр. 69).
Следует также упомянуть похвалы в адрес Вольнея и его точного и глубоко философского Путешествия, Бюффона и его замечательных трудов, или его ярко выраженных философских идей, а также Бурдена и его экспериментов по применению газов в медицине (стр. 50). Кабанис не забывает и о своих политических предпочтениях: он восхваляет правительства, «основанные на свободе и равенстве», и по-прежнему считает, что «напрасны усилия тиранов и их оплачиваемых риторов — низвергнуть или очернить эти вечные принципы». Наконец, его уже начинают занимать идеи, которые вдохновят Письмо о первых причинах: если монашеские институты были великим бедствием, то некоторые религиозные ордена оказали услугу сельскому хозяйству, другие — наукам и письму; и стоит задаться вопросом, можно ли и сегодня «заимствовать у них некоторые идеи для создания новых институтов, соответствующих современному состоянию просвещения» (стр. 64).
Девятый мемуар посвящён влиянию климатов на нравственные привычки. Поддерживая мнение Монтескьё, а прежде всего Гиппократа, Кабанис выступает против Гельвеция и утверждает, что климат — или совокупность физических условий, связанных с каждым конкретным местом — оказывает влияние на нравственные привычки, то есть на совокупность идей и мнений, инстинктивных или разумных волений и действий, из них вытекающих у каждого индивида. Никто не показал силу привычки лучше, чем он: на привычке основано воспитание, а значит, и способность к усовершенствованию, свойственная всей чувствующей природе, но особенно человеку. Власть привычки распространяется не только на индивида: она передаётся по наследству и от поколения к поколению закрепляет определённые, более развитые способности, формируя со временем новый, «приобретённый» характер природы, который изменяется лишь тогда, когда определяющие привычку причины долгое время не действуют, или если другие причины порождают новые склонности и воления (стр. 180). Разные климатические зоны дают существ с бесконечным разнообразием свойств: одни и те же животные — лошадь, собака, бык — становятся другими видами в разных регионах, и вырождаются или, напротив, совершенствуются, если их переселить из одной страны в другую. Так объясняется, что человеческие разновидности, расы — это продукт самих климатов, особенно если учесть, что природа, располагая временем как и всеми другими средствами, пользуется им с поразительной щедростью (стр. 195). Это стало бы ещё очевиднее, если бы можно было надёжно установить, что климатическая разница определяет и различие языков, поскольку, как предполагал Локк и как показали Кондильяк и его последователи, прогресс разума зависит от совершенства языка. Однако это не подтверждено, и Кабанис, для труда, в котором гипотезы следует строго избегать, отказывается прибегать к сомнительным аргументам.
Когда дело дошло до инстинкта, симпатии, сна и бреда, Кабанис понял, что для того чтобы создать единую доктрину по этим различным вопросам, ему пришлось бы отклониться от своей главной цели и написать совсем другое сочинение. Поэтому он ограничился тем, что собрал все соображения, связывающие эти темы с его настоящим предметом, и в десятом мемуаре изложил взгляды на животную жизнь, первые сенсорные детерминации, инстинкт и симпатию, сон и бред, а затем в одиннадцатом и двенадцатом мемуарах — о влиянии психического на физическое и о приобретённых темпераментах.
Минье правильно заметил, что десятый мемуар содержит «смелую гипотезу», своего рода «конструкцию Вселенной», космогонию, «механическую, как идеология» предыдущих мемуаров. Но, будучи больше озабочен оценкой, нежели изложением этой «воображаемой и неприемлемой космогонии», он не выделил достаточно ясно её оригинальность. Между тем, перед нами скорее не космология в строгом смысле, а попытка философии науки разрешить вопросы, которые прежде относились к тому, что называли «метафизикой Вселенной». С одной стороны, Кабанис утверждает, что организация материи может объясняться лишь действием первичных и активных сил природы, о которых у нас, по его мнению, никогда не будет «никакого точного представления». С другой — он напоминает, как ученик Декарта и учёных XVII-XVIII веков, что наука опирается на незыблемые основания, когда все её выводы сводятся к простым, чётким и ясным принципам; что она становится завершённой, когда в результате анализа и исследования удаётся определить, что именно в этих принципах поддаётся нашему познанию. Почему, спрашивает он, принципы организации живых тел не могут быть однажды познаны с такой же точностью, как принципы строения воздуха и воды? Почему мы не смогли бы открыть условия, необходимые для возникновения жизни у животных, подобно тому как открыты условия, порождающие молнию, град, снег или химические реакции, в которых соединённые вещества приобретают свойства, отсутствовавшие у них поодиночке? Уже имеющиеся знания позволяют с известной долей вероятности надеяться, что свет будет однажды пролит и на то, что пока неизвестно. По мнению Кабаниса, различие, которое Бюффон хотел провести между мёртвой и живой материей, — фикция. Растения живут и растут, используя только воздух и воду, то есть кислород, водород и азот. Но всякое растительное вещество, помещённое в подходящие условия, даёт начало определённым микроскопическим животным: цепь между мёртвым и живым непрерывна. Но должны ли эти обстоятельства или условия навсегда остаться неизвестными? Нет, отвечает он, раз искусство умеет воспроизводить растения частями, которые не были к этому предназначены природой; раз оно умеет изменять виды, порождать новые — точно так же как из веществ, им подготовленных (уксус, картон, переплётные материалы), оно вызывает к жизни существа, не имеющие аналогов в природе. Природа же производит, на больных растениях и животных, неизвестные ранее расы, порождённые «перерождением самого вещества индивида». Значит, либо все части материи потенциально способны к любой форме организации, либо, что то же самое, зародыши всех возможных видов рассеяны повсюду. Переход от жизни к смерти и от смерти к жизни, составляющий, как уже понимали древние, порядок и движение Вселенной, не всегда ускользает от нашего наблюдения. На крышах и на лаве вулканов, под действием воздуха и дождя, возникают растения и животные. Острова Тихого океана покоятся на скалах, созданных морскими насекомыми. Постепенно возникая из морских глубин, где эти неутомимые труженики вздымают огромные массы, острова поднимаются, испытывают различные воздействия на поверхности, и, претерпевая изменения, аналогичные тем, что происходят с лавой, покрываются новыми видами, рождающимися из самой природы этой новой земли — и климат без особого напряжения усваивает их.
Но человек и крупные животные, которые ныне размножаются половым путём, были ли изначально образованы тем же способом? Мы этого никогда не узнаем, ведь человеческий род не располагает более точными сведениями о начальной эпохе своего существования, чем отдельный человек — о собственном рождении. Однако некоторые из животных, изначально возникших подобным образом, позднее уже размножаются половым путём. Современные виды — не те же, что и во времена их первичного возникновения: они были изменены климатом, пищей, отношениями с человеком или другими живыми существами. Некоторые, как показал Кювье, исчезли — либо вследствие катастроф, либо из-за насильственного вмешательства человека, либо вследствие несовершенного строения. Сам человек мог подвергнуться многочисленным изменениям, возможно даже серьёзным трансформациям. Признавая, что возраст земного шара «огромен», нельзя отрицать и возможность тех изменений, которые течение времени или потрясения природы вызвали у живых рас, порождавших — в каждой конкретной ситуации — другие расы, «лучше приспособленные к новому порядку вещей». Поэтому не исключено — хотя и не доказано строго — что первоначальное происхождение крупных животных может быть сближено с происхождением микроскопических животных, возникающих буквально из небытия, когда меняются химические или физические условия вещества, из которого они образованы.
Аналогично природа возвращается от жизни к смерти: животные ткани разлагаются на газы, которые поглощают растения; скелетные останки животных — особенно рыб и моллюсков — образуют известняковые слои, способствующие ускоренному и совершенному росту растительности. Некоторые растительные вещества при разложении превращаются в мельчайших животных, которые, в свою очередь, после смерти порождают другие — «в течение куда более долгого времени, чем это мог наблюдать Кабанис», — прежде чем всё, по-видимому, вновь погружается в состояние покоя и нечувствительности. Открытия натуралистов сокращают дистанцию между различными царствами природы: некоторые минеральные породы, со своей последовательной «вегетацией» и ветвистыми отростками, сближаются с наиболее примитивными растениями; между растениями и животными находятся зоофиты и, возможно, некоторые чувствительные растения, движения которых, как и у живых мышечных тканей, соответствуют определённым раздражениям; наконец, среди животных строение и способности охватывают все мыслимые ступени развития, от моллюска до человека.
Таким образом, Кабанис, включающий в свою доктрину идеи, высказанные Мопертюи, Малье, Робине, Бюффоном и Бонне, а впоследствии вновь подхваченные Ламарком, — является предшественником Дарвина и современного трансформизма. Мы понимаем теперь, почему Философия зоологии Ламарка была столь холодно встречена, или почти не читалась во Франции: Кабанис связал её доктрины с философией, признанной «по своей сути материалистической».
К этим трансформистским воззрениям примыкают и другие догадки, не менее оригинальные и не менее оставленные в тени теми, кто писал о Кабанисе. Так, он подозревает существование некой аналогии между животной чувствительностью, растительным инстинктом, электрическими сродствами и простым тяготением. Но следует ли объяснять тяготение через чувствительность или, наоборот, чувствительность — через тяготение, «род инстинкта, который в зависимости от обстоятельств может шаг за шагом достичь даже чудес интеллекта»? Он этого не знает, не желая выходить за границы науки и погружаться в метафизику. Однако он не отказывает себе в экскурсе в философию науки. Если когда-либо станет возможным узнать это, он считает — вопреки тому, что впоследствии утверждал Ламарк, — что путь к такому знанию будет проложен через изучение операций, совершающихся внутри нас, а не тех, что происходят вдали от нас. Изучая формирование органов у плода, он настаивает на необходимости признать наличие чувствительности даже там, где ещё не проявляется ясно сознание ощущений, ибо противоположное мнение противоречит физиологическим фактам и оказывается совершенно недостаточным для объяснения идеологических явлений. Это не та «возбудимость», о которой говорят физиологи, ибо возбудимость — это способность мышечного волокна к сокращению, сохраняющаяся даже после смерти. Речь идёт об активности органов, приводимых в действие нервами, воспринимающими впечатления без участия головного мозга. В нервной системе существуют частичные системы, и, возможно, в каждой из них и в каждом её центре существует частичное Я, соотносящееся с впечатлениями, которые в нём собираются, и с движениями, которые его система порождает и направляет. Причина чувствительности сливается с первопричинами и не может быть объектом наших исследований. Однако изучение явлений склоняет к мысли, что электричество, модифицированное жизненным действием, есть тот невидимый агент, который, распространяясь по нервной системе, вызывает ощущения и импульсы.
Именно в идеологическом и физиологическом исследовании плода Кабанис ищет происхождение инстинкта. Чувствовать — это основное состояние всякого живого органа; привычка и повторение действий делают эту потребность всё более настоятельной. Так, впечатления и детерминации, свойственные нервной и кровеносной системе, порождают первый, самый постоянный и сильный инстинкт — инстинкт самосохранения; а деятельность органов пищеварения — инстинкт питания. Из движений, к которым органы побуждаются уже самим фактом своего чувствования, возникает новый инстинкт; из ощущения сопротивления возникает идея внешнего тела; из сознания усилия, вызванного волей — осознание ощущаемого Я. Когда плод появляется на свет, он уже несёт в своём мозге начатки фундаментальных понятий, которые его отношения со всем чувственным миром и действие объектов на нервные окончания должны будут постепенно развить. Это вовсе не та tabula rasa, о которой говорили некоторые идеологи. Отсюда следует, что прекрасные анализы Бюффона, Бонне, Кондильяка — неполны и могут даже завести на ложный путь.
В сущности, мало что похоже на человека меньше, чем статуи, которых заставляют чувствовать и действовать; мало что менее подобно способу, которым порождаются ощущения, желания и идеи, чем те частичные операции одного чувства, действующего в полном отрыве от системы и даже без того жизненного воздействия, без которого ощущение вообще невозможно. Все операции мыслящего органа модифицируются детерминациями и привычками инстинкта; никогда отдельный орган чувств не действует в полной изоляции. Подробный и исчерпывающий анализ младенца, до того как все его чувства будут одновременно приведены в движение внешними объектами, мог бы лечь в основу нового Трактата об ощущениях, который был бы, возможно, не менее полезен для прогресса идеологии, чем труд Кондильяка.
Первые черты инстинкта запечатлеваются в мозговой системе уже в момент формирования плода. Однако помимо тех стремлений к самосохранению, питанию и движению, которые развиваются у плода ещё до рождения, существуют и другие, формирующиеся на более поздних этапах жизни — либо в момент рождения и общем развитии органов, либо по мере созревания некоторых отдельных органов или в результате болезней. Все они, но особенно первоначальные, происходят от внутренних впечатлений. Именно поэтому Драпарно, пытаясь выстроить идеологическую шкалу различных видов, обнаруживает, что инстинкт тем более прям и устойчив, чем проще организация; тем живее, чем большее влияние оказывают внутренние органы на мозговой центр; а интеллект тем обширнее, чем в большей степени животное вынуждено воспринимать впечатления от внешних объектов.
Симпатия, или стремление одного живого существа к другим, есть, в некотором роде, сам инстинкт; она включает в себя притяжения и отталкивания, проистекающие из организации и предполагающие, в существе, к которому она направлена, наличие ощущений, склонностей, я. Как только симпатия поднимается над чистым инстинктом, в ней появляется основа неосознаваемых суждений. Но, как и все первичные стремления, она осуществляется через различные органы чувств: зрение вызывает множество аффективных детерминаций, и, возможно, световые лучи, исходящие от живых тел, физически отличаются от тех, что исходят от неживых объектов. Обоняние является у некоторых животных главным органом симпатии; слух вызывает множество чисто аффективных и инстинктивных впечатлений; осязание, по-видимому, оказывает симпатическое действие только через живое тепло. Интеллектуальные операции модифицируют симпатические стремления, превращая их в более или менее осознанные чувства, в более или менее разумные привязанности. Без всяких «неизвестных способностей» симпатия становится нравственной: индивид разделяет идеи и чувства других, желает, чтобы другие разделили его собственные, и испытывает потребность воздействовать на их волю. Более того, он стремится подражать другим и, по сути, лишь подражает самому себе. Подражание — основной инструмент воспитания как для отдельных людей, так и для обществ. Следовательно, те причины, которые развивают интеллектуальные и нравственные способности, связаны с теми, что формируют, поддерживают и приводят в действие организацию, где и заключён принцип совершенствования человеческой расы.
Операции суждения и воли находятся под влиянием как собственно ощущений, так и инстинктивных детерминаций: нет необходимости прибегать к двум различным принципам действия, чтобы объяснить колебания желаний и внутреннюю борьбу. Нарушения в суждении и воле зависят от множества ощущений, впечатлений, причины которых действуют в нервной системе, от тех, что поступают через внутренние чувствительные окончания, и от инстинктивных побуждений. Безумие можно объяснить либо искажением ощущений, либо болезнями нервной системы, либо вредными привычками, которые она приобретает — даже если в последнем случае не всегда удаётся обнаружить органические поражения. Так же и сон, периодический, как и самые общие законы природы, вызывается всем тем, что притупляет впечатления или ослабляет реакцию общего нервного центра на органы. В этом оттоке нервных сил к их источнику чувства постепенно, более или менее глубоко, погружаются в дремоту — но лишь в отдельных случаях полностью. Внутренние окончания сохраняют относительную активность своих впечатлений — в зависимости от функций органов, их симпатий, текущего состояния и привычек. Причины, действующие в самой нервной системе, больше не отвлекаются воздействием внешних чувств и становятся преобладающими. Так, во сне происходят новые комбинации идей, возникают идеи, которых у нас никогда не было; так же и в безумии на первый план выходят идеи, почти не связанные с внешними объектами. Тот, кто классифицировал бы, на основе достоверных фактов и устойчивых признаков, различные виды душевных расстройств, указал бы их причины, различил бы излечимые и неизлечимые формы — оказал бы большую услугу идеологии.
Влияние душевного на телесное для Кабаниса есть влияние мозговой системы на остальные органы. Нет нужды умножать принципы по числу явлений, прибегать к неведомым и особым силам, чтобы привести в действие мыслящие органы и объяснить их воздействие на животную систему, так же как нет нужды в особых силах, чтобы объяснить отличие мысли от животного тепла, как последнее отличается от лимфы или семени. Природа, говорит он, расточительна в чудесах и экономна в средствах… Но человеческому уму, склонному к гипотезам, потребовалось немало времени, чтобы признать в природе лишь одну силу; быть может, ему потребуется ещё больше, чтобы понять, что поскольку мы не можем сравнить её ни с чем, то не можем иметь никакого подлинного представления о её свойствах, и что те смутные понятия, которые у нас есть о её существовании, сформированы на основании размышлений о законах, управляющих всем сущим, — а слабость наших наблюдательных средств вечно будет сдерживать эти представления в рамках самого узкого и ограниченного круга.
Бенжамен Констан хвалил книгу в превосходных выражениях. Но, как и многие другие, он искал в ней то, чего там нет — то, что Кабанис должен был дать позднее в Письме о первопричинах. Если же ограничиться тем, что в книге действительно ясно изложено, можно утверждать: редко какое произведение принесло науке и философии науки столько пользы. Да, попытка была преждевременной: физиология, а тем более химия тогда ещё не предоставляли достаточно прочной базы для изучения психологических фактов. Да, там встречается немало утверждений, которые сегодня кажутся неприемлемыми или носят чисто гипотетический характер. Можно даже сказать, что «слишком часто всё остаётся в воздухе, в пустом пространстве абстрактных обобщений, а не на осязаемой и надёжной почве личного наблюдения и его рассказа». Но так бывает далеко не всегда: не раз мы указывали на «личные наблюдения» и на применение именно того метода, который Ипполит Тэн называл отличительной чертой современной психологии. Более того, вдохновляясь Гиппократом и греками, Декартом и Бонне — больше, чем Кондильяком и Гельвецием, — Кабанис создал физиологическую психологию. Биша и Бруссе, а также врачи, физиологи и психиатры продолжили именно те исследования, к которым он призывал больше всех, и подготовили читателей к его современным последователям. Огюст Конт, идя ещё дальше, полностью поглотил психологию физиологией; но тем самым он лишь способствовал распространению идей Кабаниса. Мэн де Биран, включив их в рамки метафизики, передал их спиритуалистам. Не менее плодотворны оказались и его теории: о относительности знания, о значении внутренних ощущений и эмбриональной, животной или болезненной идеологии, о силе привычки, об инстинкте и бессознательном, о трансформизме и объяснении низшего через высшее, о связи морали и политики с идеологией и физиологией. Продолжатель Гиппократа, Декарта и философов XVIII века, Кабанис стал предшественником Льюиса и Прейера, Шопенгауэра и Гартмана, Ламарка, Дарвина и многих других мыслителей самых разных школ — тех, кто порой даже не догадывается, что идеи, с которых они начали, пришли к ним косвенно, но по вполне достоверной линии преемственности — от автора Отношений между физическим и моральным началом в человеке.
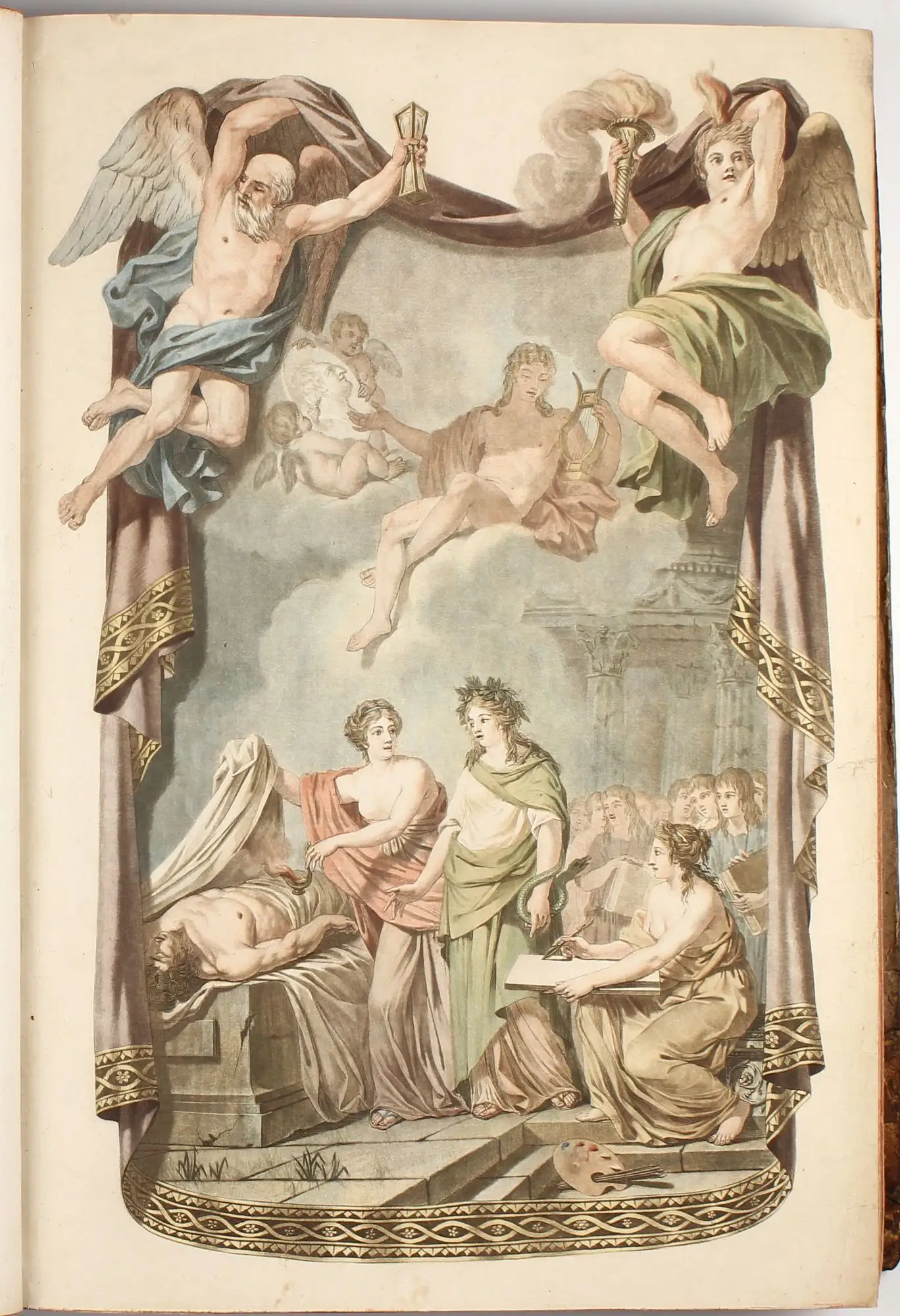
— III —
Кабанис при Консульстве и Империи по неизданным письмам; письмо о поэмах Гомера и о Гении христианства
В последующие годы после публикации «Отношений между физическим и моральным в человеке» Кабанис известен нам главным образом благодаря неопубликованным письмам, которые любезно предоставил месье Э. Навиль. В плювиозе (года XVII) он убеждает Биранa заняться вопросом разложения мысли и темой, по которой тот уже «послал столь великолепный набросок». «Ничто, — говорит он, — не может быть полезнее для авторитета и прогресса науки, без которой, впрочем, уже нельзя обойтись». Несколько дней спустя (в вантозе) он пишет ему, что все философски настроенные люди читают его Мемуар о привычке, и что их суждения единодушны. Затем (19 вантоза) он говорит о своём здоровье и советует Бирану режим, которого следует придерживаться. Возвращаясь к двум темам, которыми тот тогда занимался, он добавляет: «Помните, что вы обязаны истине, прогресс которой, во всех областях, зависит от совершенства той конкретной, что занимает нас». Немного позже (10 флореаля), когда Женгене защищал в Декаде идеологов от нападок Палиссо, он упрекнул последнего в том, что тот сослал Кабаниса и его превосходный труд об Отношениях всего лишь в сноску к статье о Мольере.
В начале последнего квартала XI года Кабанис выпустил новое издание О степени достоверности медицины, добавив к нему Наблюдения о госпиталях, Дневник болезни Мирабо, Заметку о казни гильотиной, Доклад об организации медицинских школ, Некоторые принципы и Некоторые соображения о государственной помощи. Декада посвятила этой публикации статью, заявив, что, описывая обязанности и качества хорошего врача, Кабанис «взял за образец самого себя, и притом бессознательно», и что эта новая работа может только прибавить, если вообще это ещё возможно, к славе, которую он уже заслужил своим прекрасным трудом о влиянии физического и морального начала в человеке.
Моро де ла Сарт нашёл этот обзор недостаточным. Напомнив, что медицинская философия охватывает два различных аспекта — применение общей философии к изучению и прогрессу медицины, и обратное применение медицины к философии, — он отводит особое место всем трудам Кабаниса, в частности новому сборнику, как к трудам, относящимся к медицинской философии: «применению медицины к прогрессу здравой метафизики и этой метафизики к совершенствованию медицинского метода».
В то время как выходили в свет это переиздание и Грамматика Дестют де Траси, Кабанис сообщает Бирану, что будет присуждён приз за труд о Разложении мышления, и что он включит в свой отчёт ту заметку, которой он ему обязан: «Я постараюсь, чтобы ваша работа послужила делу той науки, которую вам суждено развивать, и которая, несмотря на открытую войну, объявленную ей, всё глубже проникает во все области умственной деятельности человека». В год XII он пишет ему по поводу интриг, имевших место во время выборов в Дордони: «Таков необходимый ход вещей, — говорит он, как и в 1803 году, — не в том смысле, чтобы добродетельные люди не страдали, но в том, что негодяи рано или поздно бывают наказаны». Из-за полного упадка сил он отказывается от надежды завершить (18 плювиоза) свою работу О применении аналитических методов к изучению медицины. Уступая просьбам некоторых друзей, он публикует Взгляд на революции и на реформу медицины. Врач Монгетр представлял эту книгу читателям Декады: «Известный характер автора, величие и надёжность взглядов, которые мы встречаем и в других его трудах, должны вызывать у нас сожаление, что он не смог завершить столь важное предприятие». Далее Монгетр напоминает основные этапы развития медицинской науки, кратко обозревает общее состояние преподавания и выделяет главу, посвящённую связи между медициной и моралью, как «наполненную возвышенными размышлениями, вполне достойную философа, автора Отношений между физическим и моральным в человеке». Он завершает, процитировав отрывок, в котором Кабанис настаивал на необходимости для врача соединять моральную философию с рациональной.
28 флореаля Наполеон Бонапарт был провозглашён императором французов; 21 мессидора министерство полиции было восстановлено для Фуше. Состояние здоровья Кабаниса ухудшалось всё больше: «Что меня особенно огорчает, — писал Дестют де Траси Бирану 4 августа 1804 года, — так это то, что я недоволен его здоровьем, оно всегда остаётся очень слабым; он столь превосходный человек, что я не могу вынести, видя, как он страдает». Сам Кабанис жалуется Бирану, что «жизненные силы убывают».
В году XIII Кабанис поздравляет Бирана с тем, что его Мемуар о разложении мышления был удостоен награды третьего отделения Института; и хотя он не во всём с ним согласен, он считает, что «это очень красивая и чрезвычайно богатая работа». Второе издание Отношений выходит в свет, дополненное двумя указателями, составленными Траси и Сюэ, а также опытом господина Фрэя. Из активной переписки Траси с Бираном мы узнаём, что Кабанис чувствовал себя тогда весьма хорошо, наслаждаясь сельской жизнью. Именно Кабанису Траси посвящает свой трактат, завершённый теперь благодаря публикации Логики. Кабанис и Траси почти завершили то дело, с которым навсегда останутся связаны их имена. Но реакция против философии XVIII века и той, что из неё вышла, становилась всё мощнее. Идеологи это прекрасно понимали.
В 1806 году Биран приезжает в Париж, но не навещает Кабаниса в Вилетте, где тот с нетерпением его ждал. Кабанис призывает его поработать «над реформой некоторых частей геометрического языка», а также завершить печать своего Мемуара, который непременно должен способствовать прогрессу науки. В конце года Кабанис извиняется за то, что он столь нерегулярный корреспондент, и обещает быть доверенным лицом в исследованиях, которые Биран и Дестют де Траси продолжат к великой пользе науки. Последнее письмо (от 8 апреля 1807 года) адресовано Бирану, которому предстояло завершить работу по метафизике и языку геометрии и исчисления — «самой полезной из всех тех, что он столь способен выполнить». Кабанис проявляет ещё больше тепла к своему корреспонденту, словно предчувствуя близкий конец. Восемнадцатью днями позже Дестют де Траси сообщает Бирану, что их друг перенёс первый приступ!
Но прежде чем кратко описать последние дни Кабаниса, нужно рассмотреть важные труды, над которыми он работал с 1802 по 1807 год. Именно в 1807 году Женгене помещает Катаральные заболевания, по-видимому, написанные уже после Письма о первых причинах. В них Кабанис фиксирует результат наблюдений, которые велись им более двадцати пяти лет. Эта работа была написана не для мастеров медицины и не для широкой публики, а для молодых практикующих врачей. В ней вновь ощущаются и личность, и философский дух автора.
Меньше известно о дате создания Письма Тюро о поэмах Гомера и о пересмотре перевода, начатого ещё в 1778 году. Мимолетное упоминание о недавнем выходе книги Вольнея Картины Соединённых Штатов (т. V, с. 294) показывает, что Кабанис работал над письмом уже в 1803 году; другие фрагменты, где он упоминает труды Дестюта де Траси и его теорию суждения (с. 344), а также критикует Лагарпа (с. 361), отсылают нас к 1805 году. Упоминание смерти Эннебера возвращает нас к 1802 году. Таким образом, можно полагать, что Кабанис вернулся к Гомеру после публикации Отношений, и занимался им вплоть до своей смерти. Тюро и другой его друг побудили его пересмотреть свои опыты перевода; он последовал их совету, читал им своё произведение и отправил его Тюро с письмом, предназначенным для предисловия к той части, которую он собирался опубликовать, чтобы «прозондировать» публику. Однако произведение так и не увидело свет при его жизни и было впервые включено лишь в издание Полного собрания сочинений Кабаниса в 1825 году.
Письмо о поэмах Гомера, как говорил Дону, весьма примечательно. Автор чётко подчёркивает трудность перевода Гомера на французские стихи. Он даже утверждает, что переводить труднее, чем писать оригинальное произведение.
Гомер — один из немногих поэтов, чьи стихи всегда перечитываются с новым удовольствием, даже если давно выучены наизусть. Никто не изобразил с более трогательным и священным чувством супружескую любовь.
Кабанис не забывает о своих прежних трудах: он стремится привнести подлинный философский метод в исследование и анализ всех художественных произведений. В замечательных страницах, посвящённых прекрасной природе, он опровергает представление о подражании, столь точном, что его можно было бы спутать с оригиналом. И с полным основанием он подчёркивает, что ни один поэт не был столь плодотворен, как Гомер, в возвышенном патетическом и в возвышенном величественном и мужественном, и что нигде он не достиг этой гармонии столь блестяще, как в изображении трёх великих и столь различных характеров — Ахилла, Гектора и Одиссея — изображённых с особой любовью, каждый из которых совершенен в своём роде. Оставляя в стороне точность описаний и повествования, в которых Гомер превосходит даже географов и профессиональных историков, Кабанис напоминает об искусстве, с которым тот придаёт каждому объекту его собственное бытие и особую окраску. Среди современных ему авторов он считает сравнимыми с Гомером только Фенелона и Лафонтена; немецкие поэты, пытавшиеся ему подражать, не достигли поставленной цели. Затем, сравнивая Гомера с другими греческими поэтами, он утверждает, что ничто — даже у самых совершенных трагиков — не превосходит и даже не приближается к восхитительной сцене ссоры Ахилла и Агамемнона, открывающей поэму; к эпизоду «Елена на стенах Трои»; к прощанию Гектора и Андромахи; к сцене, где Приам приходит просить у самого безжалостного победителя тело своего сына. Он не соглашается с критиками XVIII века, которые упрекали Гомера в многословии и беспорядочности речей. Напротив, он берёт самые критикуемые фрагменты — брань Ахилла в адрес Агамемнона, сновидение Агамемнона, речь Диомеда и прочее — чтобы подчеркнуть простоту, глубину и мастерство драматургии Гомера. Но откуда проистекает красота его произведений? Прежде всего — из глубокого изучения им умственной и чувствительной природы человека. Его пример, как и пример великих поэтов всех времён и народов, доказывает, что знание механизмов человеческого духа, подлинная теория прямых и симпатических впечатлений — единственный путь к пониманию всех искусств. Именно она позволяет, вслед за Кондильяком, утверждать, что анализ — это муза поэта, вдохновляющий гений, который втайне направляет скульптора, живописца и музыканта. Лишь философам мы обязаны той немногой теоретической ясностью, которую удалось пролить на общую теорию литературы и искусства. От Аристотеля до Беккариа, Дидро, Гельвеция, Бёрка, Смита и других — всё разумное, сказанное о подлинных принципах искусств подражания, явилось плодом именно той философии, чьи заслуги не признаются невежеством и которую легкомыслие ошибочно считает чуждой повседневной жизни, руководству нуждами и совершенствованию удовольствий. Аристотель указал на плодотворный принцип, из которого проистекают все способы сделать подражание природе более выразительным, сказав, говоря о метафоре: «Нам нравится видеть одну вещь в другой». Современная философия говорит: судить — значит распознать, что одна идея содержится в другой; рассуждать — значит выстраивать цепочку суждений, каждое из которых включает в себя предыдущее и ведёт к заключению, вытекающему из условий задачи, но первоначально неосознаваемому. В состоянии совершенства, которого могут достичь все интеллектуальные и нравственные способности, убеждение, возможно, всегда будет сопровождаться убеждённостью. Воздействовать на чувства можно будет только посредством истины — и она с лёгкостью поддастся всем украшениям самой богатой фантазии. И, будучи распознанной и прочувствованной, истина будет волновать людей столь же глубоко, как яркие заблуждения по-прежнему зажигают и тревожат их каждый день.
Если обратиться к древним философам, можно распознать и определить причину удовольствия, которое мы испытываем от шедевров искусства. Только теория формирования идей способна раскрыть основания многих правил, которые были как бы интуитивно угаданы гением; она может объяснить, почему и в какой степени справедливо правило единства интереса, а также принцип, установленный Локком, о необходимости связи идей; принцип Беккариа, сводящий стиль к таким сочетаниям, которые способны вызвать наибольшее количество одновременных впечатлений; идею Бёрка и Гельвеция, усматривавших в действии возвышенного своего рода страх и трепет и т. п. Наконец, изучение и тщательное наблюдение симпатических впечатлений, быть может, ещё более необходимо, чем изучение прямых впечатлений и производимых ими идей и чувств. Адам Смит хорошо это показал; но следовало бы, кроме того, отметить, что симпатические связи изменяются в зависимости от числа слушателей — а, возможно, и читателей, — и что они одни уже могут объяснить различия стиля, тона, колорита, которые диктуются уместностью в разных жанрах; возможно, они даже проясняют правила великих поэтических форм — эпопеи и трагедии. Вот почему можно, как Лагарп, опубликовать многотомный курс литературы, не содержащий ни одной идеи, действительно принадлежащей автору, — не изучая при этом разум и не анализируя страсти.
Кабанис стремился всё больше и больше приближаться к духу и тону оригинала, ясно передавать впечатления, отмечать связь и развитие идей, сохранять всё, что характеризует нравы и обычаи эпохи, и — насколько возможно — воссоздавать движение и колорит Гомера. И, кажется, он в этом преуспел во многих местах, где читателю вспоминается Андре Шенье, который тоже черпал из греческих источников, чтобы обновить французскую поэзию.
«Письмо Тюро» — это ответ на «Гений христианства». Шатобриан создал поэтику христианской религии и утверждал, что именно неверие является главной причиной упадка вкуса и гения; что большинство недостатков писателей XVIII века объясняется обманчивой философской системой; что анализ — это смерть воображения и изящных искусств. Кабанис же создаёт поэтику философии и утверждает, что Гомер стал великим поэтом потому, что изучал человека как философ; что анализ — это муза поэта, скульптора, живописца и музыканта, как и проводник учёного и философа; что прогресс философии приведёт к новому прогрессу в изящных искусствах. При этом он нигде не направляет свои возражения против христианства: те нападки, которые Шатобриан, в общем виде — скорее коварные, чем справедливые, — обрушивает на философию, Кабанис не возвращает в адрес религии.
— IV —
Письмо о первичных причинах; метафизика Кабаниса; религиозные идеи; Бог; бессмертие; Кабанис и Форьель, Кузен, Ренан; смерть Кабаниса; его влияние
Гиппократ, не менее чем философы XVIII века, вдохновил «Отношения физического и нравственного в человеке» — позитивное сочинение Кабаниса. Гомер и греки помогли ему показать, что философия полезный союзник изящных искусств и поэзии. Греки же, наряду с Франклином и Тюрго, дали ему повод с редким благородством выражений и мыслей утверждать, что только философия способна дать миру простую и утешительную религию, приносящую одно лишь благо. Это он изложил в Письме о первопричинах, опубликованном в 1824 году, но адресованном, предположительно в 1806 году, Фориэлю, который собирался написать историю стоицизма.
Много раз задавались вопросом, какое место занимает это Письмо в философии Кабаниса. Берар, опубликовавший его как оружие в полемике, утверждал, что Кабанис, уступив скорее из снисходительности, чем из убеждения, духу своего времени, придавал своим идеям материалистическую окраску лишь из соображений общественного приличия; что в кругу близких, в свободном общении, он признавал свои сомнения и неуверенность; что впоследствии, прозрев благодаря более серьёзным размышлениям, как более искренний и свободный мыслитель, он пришёл к убеждениям одновременно более истинным и более зрелым. Дамирон сожалел, что издатель недостаточно подчеркнул красоту и величие этой «конверсии» выдающегося ума, который по чисто научному мотиву переходит от неполной системы к более широкой теории, намного более приближённой к истине. Дюбуá д’Амьен (в Философском словаре) считал, что Фориэль показал Кабанису ограниченность физиологических доктрин, основанных на философии XVIII века; и что Кабанис, будучи, как все искренние искатели истины, открытым к новым идеям, постепенно изменил свои воззрения, не столько на первопричины жизненных феноменов, сколько на интеллектуальные явления, а затем, как бы по расширению, и на физические явления природы и Вселенной. Он утверждает, что Кабанис вполне мог бы представить эти новые идеи как логическое завершение тех, что он высказал в Отношениях, по крайней мере в отношении нравственной природы человека. По мнению де Ремюза, который был столь же пренебрежителен к Письму, как и к Отношениям, Кабанис отнюдь не изменил себе, как это утверждали. Нет здесь ни обращения в веру, ни отступничества, и само сочинение не представляет большой ценности; в нём достаточно противоречий, а стиль его отчаянно туманен. Однако сам де Ремюза, не слишком заботясь о том, чтобы избежать упрёка, который он адресует Кабанису, заявляет, что Письмо «полностью спинозистское», а затем тут же утверждает, что это «лишь поверхностный стоицизм, александрийство, неспособное удовлетворить разум»! Высказываясь с симпатией и восхищением о Письме о первопричинах и о его авторе, Сент-Бёв правильно отметил, что де Ремюза был «противником»; но он полагал, что именно Фориэль вдохновил «последнее слово умирающего Кабаниса». Для Минье Письмо неотделимо от Отношений, оно скорее дополняет их, чем опровергает. В нём Кабанис выражает свои взгляды на божественную силу и человеческую душу, которые он, «в порядке запоздалой дедукции», почти «по счастливой непоследовательности», добавляет к актам механической чувствительности. В Боге он признаёт причину и разум всего; в «я» — независимое существо, которое предшествует, воспринимает, судит и преобразует впечатления. И сам Минье, как и де Ремюза, разрушает сказанное им, добавляя, что Кабанис в этом большом целом, где части чаще связаны друг с другом, скорее развивается, чем противоречит себе, переходя от действия вторичных причин, которым он уделяет слишком большое значение, к признанию первопричины. Напомним, наконец, что Женгене цитирует Письмо как «одно из самых прекрасных философских произведений, существующих на нашем языке», чтобы доказать, что внутренние убеждения Кабаниса сильно отличались от тех, которые ему приписывали.
Кабанис поставил перед собой в Отношениях физического и нравственного исключительно позитивную задачу. Он не раз предупреждал читателя, что не стоит искать там решения метафизических вопросов, и потому не следует понимать в этом смысле содержащиеся в них утверждения. Ничто, впрочем, не мешало ему впоследствии попытаться такие вопросы разрешить. Возможно даже, что, как и Бенжамен Констан, он чувствовал необходимость обратиться к будущему против настоящего и, особенно в ту эпоху, когда все мысли, собираемые в просвещённых умах, не осмеливались выйти наружу, — ему претила мысль о том, что, раз форма разрушена, то всё её содержимое обречено на уничтожение. Его готовность обратиться к грекам легко понять по предыдущим страницам. Зрелище этой страны, породившей множество выдающихся умов во всех областях, создавшей искусство добродетели и стремившейся освободить человека от власти случая, от бед общества и самой природы, дав ему ту степень совершенства, на которую способны его силы, — всегда казалось ему самым возвышенным, на что только может быть обращено внимание философов, преданных человечеству, и самым полезным примером, который можно предложить людям (с. 4). Изучение Гиппократа, его подлинных или приписываемых ему сочинений, дало Кабанису во многих вопросах именно стоические воззрения. Точно так же Франклин и Тюрго исповедовали «ту простую и утешительную религию, что некогда была религией великих душ, воспитанных стоической доктриной» (с. 16). Что же удивительного в том, что, сталкиваясь с нарастающей религиозной реакцией, он признал: если невозможно искоренить в широкой массе людей основную идею, на которой покоятся все положительные религии, то следует стремиться направить этот поток, а не пытаться тщетно его сдержать или иссушить (с. 15)? И, следовательно, что он нашёл в доктрине, напоминавшей ему о его самых дорогих наставниках — Гиппократе и Франклине, Дюбреиле и Тюрго, которая воспитала величайшие души, самых добродетельных граждан, самых достойных государственных деятелей античности, — «особую полезность для настоящего времени» (с. 6); что он подумал о стоиках ещё до того, как Шатобриан вспомнил о Таците? И ученик Кондорсе, поклонник Гомера и Гиппократа, Аристотеля, Демокрита и Эпикура, греческих философов и поэтов, тот, кто в 1799 году писал о сторонниках совершенствования, что «они радуются, когда учёные или писатели делают больше и идут дальше, чем они сами, и всегда готовы выразить уважение и благодарность за всякий труд, приближающий нас к цели», — мог показать Фориэлю, насколько полезным было бы написать историю стоицизма. Ему не нужны были чьи-либо подсказки, чтобы «беспристрастно и с пониманием» оценить учение Стои. И, наконец, как мог бы Кабанис — тот самый, кто со времён Клятвы врача вновь и вновь привлекал в своих рассуждениях идеи Бога, первой причины, постоянного порядка вещей, замысла природы и финальных причин — противоречить себе, возвращаясь к этим понятиям, чтобы определить, в какой мере они могут быть признаны правдоподобными?
Анализ Письма — скорее восхваляемого или порицаемого, чем действительно читаемого — подтверждает эти выводы. Кабанис, более определённо, чем Д’Аламбер и Кондорсе, но идя по проложенному ими пути, показывает, что наблюдения, сделанные философами в разные эпохи за привычками отдельных людей и народов, — это, пожалуй, самое действенное средство для совершенствования знания о человеческой природе. Обсуждение исходных идей, на которых они основывались, учит нас отслеживать развитие разума по различным маршрутам, которыми он может идти, и выводить из этого более надёжные правила для его целенаправленной деятельности. Это позволяет нам понять, какую пользу могут принести те или иные воззрения в практической жизни; какому состоянию умов они особенно соответствуют; в чём они совпадают и в чём расходятся; как следовало бы их модифицировать или сочетать, чтобы они более широко и устойчиво способствовали развитию ума и направлению склонностей. Философское изучение космогоний и теогоний проливает яркий свет на историю народов и человеческого духа. Не было бы даже чрезмерным утверждать, что подлинная история различных эпох даёт меньше поучительного, чем их мифология: «Остерегаемся, — говорит он в одном месте, справедливо отмеченном Сент-Бёвом, — думать, подобно мрачным умам, что человек любит и принимает заблуждение ради самого заблуждения; не существует и не может существовать безумия, в котором не было бы крупицы истины, связанной с правильными идеями, но плохо очерченной и плохо связанной с её следствиями». Разве это не принцип современного эклектизма в его историческом применении? Мы не отрицаем этого, но он принадлежит Кабанису, а не Фориэлю; именно к идеологам, и в этом отношении, восходит школа, которая яростнее всех их оспаривала.
Философы изобрели религии, поэты и ораторы сделали их популярными, законодатели — подчинёнными своим целям. Греческие философы, начиная с Сократа, — будь то те, кто допускал управление миром со стороны высших разумов, те, кто отрицал их участие в происходящем, или те, кто вовсе отвергал возможность их существования, — почти все придавали морали религиозную основу. Они искали её источник и побуждения к ней в тех представлениях о первых причинах и природе жизненных сил, которые сами себе выработали. Они ошибались, предоставляя мораль на волю теоретических мнений и ища далеко то, что находилось в них самих. Правила морали, говорит Кабанис в 1806 году, как и в 1800-м, вытекают из взаимных отношений между людьми, устанавливаемых их потребностями и способностями; эти отношения постоянны и универсальны, поскольку человеческая организация неизменна. Что касается побуждений к исполнению этих правил, они заключаются в общей пользе, которая их определяет и составляет их суть; в личных выгодах, связанных с привычкой подчинять этим правилам свои поступки, а иногда и собственные склонности. Привычка к добродетели настолько соответствует человеческой природе, что даёт внутреннее удовлетворение, не зависящее от расчёта; и благодаря мягкому стремлению к симпатии, которую она развивает и совершенствует, она наполняет сердце постоянной удовлетворённостью и в конце концов делает даже жертвы новым источником счастья.
Мудрецы античности не могли предвидеть всех тех бедствий, которые религиозные идеи, будучи соединены с моралью и политикой, со временем станут вызывать как непосредственные и прямые причины. Если бы они внушили людям представление о тайной воле невидимых сил как о дополнительном побуждении к уважению моральных законов, к их постоянному соблюдению и к чистому почитанию их даже в глубинах совести и желания, — они совершили бы дело весьма полезное и достойное похвалы. Но они должны были бы не допустить, чтобы кто-либо осмелился говорить от имени божественных сил, делать их соучастниками преступных замыслов и сеять в умах семена всех заблуждений. Они этого не сделали — и, быть может, это попросту невозможно. Религиозные идеи и учреждения оказали человечеству немалые услуги; но с утверждением жреческой касты началось то великое и глубокое заговорщическое движение против рода человеческого, которое либо постоянно мешало мудрым и отеческим замыслам законодателей и правителей, либо, напротив, поддерживало их в их стремлении к одурачиванию и порабощению.
Если даже отрешиться от их косвенного влияния на суждения и поступки, с религией прямо не связанные — от смятений, тревог, ужасов, которые она зачастую вызывает в самых добродетельных душах; от раздоров, вражды, жестоких распрей, возникающих из-за неё в семьях; от куда более тяжкого ущерба, заключающегося в том, что мораль основывается исключительно на религии и потому отдана на произвол как здравых, так и порочных рассуждений; от глубоко безнравственного учения об искуплении, позволяющего самому чёрному злодею спокойно предаваться преступлениям, — беспристрастный наблюдатель признает, что религии нанесли человечеству гораздо больше зла, чем добра. Их полное уничтожение, говорит Кабанис в духе философов XVIII века, стало бы одним из величайших благ, которое может принести человечеству разум и гений. Но если религиозные или суеверные идеи тесно связаны с нашим способом чувствовать и осмыслять движущие силы Вселенной, если невозможно искоренить среди народных масс основную идею, лежащую в основании всех положительных религий, и если даже опасно добиваться этого, пусть лишь в отношении некоторых отдельных людей, — тогда следует искать способы направить этот поток, который невозможно ни сдержать, ни иссушить. Ослабить пагубное влияние религиозных идей на здравый смысл, мораль и счастье отдельных людей, усилив и очистив, напротив, их положительное воздействие, которое всё же иногда проявляется, — быть может, в этом и заключается путь к прогрессу социального искусства, надежда на то, что однажды на земле воцарится простая и утешительная религия, приносящая лишь добро. Таковой была религия Франклина и Тюрго; такой была религия великих душ, сформированных стоической доктриной, тех возвышенных умов, питавшихся всегда великими и благородными размышлениями, которые связывали существование каждого человека с судьбой всего рода человеческого и давали добродетели самые благородные и возвышенные основания и цели, представляя её как участие в общем порядке Вселенной.
Какие же идеи о всеобщих причинах природы человек неизбежно формирует в своём разуме? Какие из них даже самое строгое испытание рассудка не может окончательно и безоговорочно отвергнуть? Человек, который, перестав видеть во всех операциях природы нечто иное, кроме как необходимое следствие свойств, присущих различным телам, достиг предельной точки, до которой способно довести его правильное применение разума, — может и должен всё же спросить себя, какая сила вложила эти свойства в тела. Ни одна чисто механическая система мира никогда не будет связана в своих важнейших частях столь внутренней необходимостью, чтобы не приходилось по аналогии допускать наличие разума и воли в той причине, чьи действия обнаруживают столь поразительные признаки согласованности и которая всегда движется к определённой цели с такой точностью и уверенностью. Если мы и можем познать лишь наблюдаемые следствия первопричины, то догматическое невежество, хотя и может одерживать победу над положительным утверждением, будто причины слепы и механичны, не обладает той же силой против противоположного утверждения. Напротив, последнее опирается на совокупность абстрактных рассуждений, которые кажутся неоспоримыми, и, кроме того, — на все те непосредственные впечатления и суждения, которые оказывают куда большее влияние на большинство людей, чьи убеждения, касающиеся практической жизни, всегда должны быть с нею сообразны.
С другой стороны, человек наделён воображением, и даже самые верные идеи оказывают подлинное влияние лишь тогда, когда способны не только убедить, но и тронуть. А между тем первое чувство, которое охватывает человека, когда он обращает взор на вселенную и на самого себя, — это чувство ужаса: каждое мгновение он ощущает себя подчинённым действию сил, которые ему неизвестны. Даже если гений научных открытий развеял часть покровов природы, остаётся всё же достаточно тьмы, чтобы держать человеческий род в неопределённости, сопряжённой со страхом. К тому же чувствительность человека поддаётся почти бесконечному развитию: он стремится расширить своё бытие, свои нужды, свои привязанности, свои желания; он хотел бы действовать на всё, охватить всё, ринуться в бесконечность. Но его силы заключены в весьма узкие пределы. Переступив границу своей чувственной жизни, он мысленно переносится в лучший мир, где больше нет ни перемен, ни рокового конца человеческой жизни. Он надеется на будущую жизнь, которая сохранит не только его личность, но, главное, вернёт ему тех, кого он любил на этой земле; которая утвердит справедливость и власть существа, управляющего вселенной, дарует добродетели награду, более достойную её, и осуществит, наконец, для слабого и несчастного ту вечную справедливость, которой они слишком часто тщетно ищут в мире скорбей и страданий. И хотя наши идеи, чувства и привязанности — это плод впечатлений, полученных органами, находящимися под опосредованным или непосредственным воздействием различных тел, невозможно утверждать, что распад этих органов влечёт за собой уничтожение нравственной системы и — тем более — той причины, которая делает нас способными ощущать, и которая, по всей вероятности, останется для нас вечно непостижимой. Поэтому защитник идеи будущей жизни, опираясь на качества, которые в Верховном Существе неотделимы от разума и воли, а также на положение человека и нужды его сердца, выстраивает цепь доводов, тем более весомых, что возражающие им доводы не утверждают ничего положительного.
В подобных вопросах не была применена должная методология: деисты и спиритуалисты, атеисты и материалисты — все они прибегают к методу доказательства. Но по отношению к сущностям или фактам, которые не поддаются непосредственному восприятию чувств, мы можем лишь производить расчёты вероятности, приближающейся к достоверности, но никогда её не достигающей. К тому же невозможно познать первичные и всеобщие факты, поскольку их нельзя связать с предшествующими явлениями; можно лишь зафиксировать их и наблюдать их влияние на последующие факты. Так как Вселенная не сопоставима ни с чем, силы, которые приводят её в движение и поддерживают в состоянии вечной активности, могут быть изучены только по их наблюдаемым следствиям. Ориентируясь на аналогию, мы приписываем этим силам некоторые свойства, признаки и действия которых мы наблюдали в объектах, более близких нам. Поэты и теурги наделяют первопричину всем тем, что есть наиболее возвышенного или внушительного в человеческой природе, но при этом также — противоречивыми качествами или теми, что опровергаются фактами. Философы же, напротив, возможно, слишком поспешно отняли у неё все свойства. К каким же выводам, достаточно вероятным, чтобы породить в нас убеждённость, мы приходим? Прежде всего нужно отбросить почти лишённые смысла слова: «деизм», «атеизм», «спиритуализм», «материализм», и даже само слово «Бог», смысл которого никогда не был точно определён и очерчен.
Чувствовать, вспоминать и рассуждать — вот что составляет разум; совокупность определений, рождающихся из суждений, — это воля; разум и воля составляют нравственную систему человека. Если в состоянии неведения мы склонны считать одушевлёнными все движущиеся тела и приписывать им разум и волю, то для человека, способного охватить взглядом Вселенную в её целом и в деталях, все явления будут представлять собой прямое и необходимое следствие свойств материи. В действиях причины, которая не может быть познана самой по себе, он находит свойства существ, чьи поступки и способы действия ему известны; он распознаёт эти аналогии, чтобы после всестороннего рассмотрения либо принять их, либо отвергнуть.
Все вероятности склоняют человека к тому, чтобы рассматривать произведения природы как результаты операций, сравнимых с теми, которые совершаются его собственным разумом при создании наиболее тщательно продуманных произведений; чтобы постичь идею высшей мудрости и воли, внимательной ко всем деталям. Размышление укрепляет его в этом мнении, не предоставляя, впрочем, строгого доказательства. Но противоположная гипотеза не опирается ни на какую подлинную аналогию, почти не имеет вероятности на своей стороне и может быть защищена лишь против упрёка в абсолютной невозможности. Все правила рассуждения в сфере вероятности вновь возвращают человека к его первоначальному впечатлению. В исследованиях природы и в философских рассуждениях, к которым они ведут, не следует прибегать к тщетным и бесплодным объяснениям через конечные причины ; но когда мы размышляем о причине или о первопричинах, все правила вероятности заставляют нас признать их как цели.
Более того, поскольку чувствительность наблюдается только посредством организации, она не может быть её продуктом; скорее, она пронизывает все части материи, в которых мы отчётливо замечаем действие движущих сил, стремящихся привести эти части ко всем возможным формам упорядоченного и систематического расположения:
Mens agitat molem, et magno se corpore miscet. [«Дух приводит материю в движение и проникает во всё её великое тело» — Вергилий, Энеида].

Активные силы оживляют материю, приводят её в движение, трансформируют согласно чрезвычайно искусным, сложным, разнообразным, но вместе с тем постоянным и устойчивым планам. Они вызывают к жизни, развивают и доводят до совершенства чувствующих и разумных существ. «И вот, признаюсь, — говорит Кабанис, — мне, как и многим другим философам, которых, впрочем, трудно было бы упрекнуть в доверчивости, представляется невозможным даже вообразить, каким образом причина или причины, лишённые разума, могли бы наделить им свои творения; и я лично думаю, как и великий Бэкон, что нужно быть столь же легковерным, чтобы формально и категорически отказать в разуме первопричине, как и чтобы верить во все мифы мифологии или Талмуда».
Не ошибаются те, кто признаёт за первопричиной силу, справедливость, благость и прочее. Но нелепо представлять её как правителя, целиком занятого благополучием своих подданных и управляющего ими при помощи череды случайных мер и уловок; нелепо прибавлять к каждому её атрибуту эпитет «бесконечный» — «слово, лишённое смысла»; собирать в ней все человеческие совершенства, одновременно исключая из неё всякий чувственный признак, — и тем самым воплощать в этом образе пустоту. Можно предположить, что во Вселенной, устроенной так, что все её части взаимно сочувствуют друг другу, существуют частные центры, где сосредотачивается принцип разума, и один общий центр, куда сходятся и в котором воспринимаются все движения. Так рассуждали стоики: для них все существа, и особенно живые, были частями Великого Целого, а их разум — эманацией всеобщего Разума. Каждая часть материи, каждое чувствующее и живое существо играло свою роль в общем строе; разумное и способное к размышлению существо должно было познать эту роль и исполнять её тем вернее, чем совершеннее был его разум и чем шире его возможности действия. Сегодня мы скорее подумаем, что жизнь и организация проявляются всюду, где организация может возникнуть и сохраняться; что невозможно установить предела тому совершенству, которого могут достичь организмы в силу вечных законов; и что, быть может, существует во сто крат большее расстояние между разумом некоторых существ, обитающих в других мирах, и разумом человека, заточённого на земле, чем между разумом человека и разумом полипа или зоофита.
Так встаёт другой вопрос: разделяет ли эта моральная система человека после смерти судьбу органического сочетания? Вопрос более трудный, ибо очевидные аналогии, по-видимому, благоприятны для тех, кто отрицает устойчивость «я», которое мы видим формирующимся и рождающимся, растущим и совершенствующимся вместе с органами, точно соответствующим их состояниям — болезни или здоровья, ослабевающим, стареющим и угасающим в тот самый момент, когда в органах прекращается всякое проявление чувствительности. Тем не менее нельзя доказать, что жизненная сила есть всего лишь продукт. Мнение, которое делает её активным началом неизвестной природы, но необходимым для объяснения фактов, обладает большей степенью вероятности. Всё склоняет нас к убеждению, что общая жизнь животных сосредоточена в одном центре, а частная жизнь органов — лишь эманация той жизни, которая оживляет всю систему. Таким образом, ослабление одних органов вызывает усиление активности других; их разрушение вызывает в других органах слаженное и симметричное усилие, направленное на выполнение утраченных функций. Чувствительность подобна флюиду, который тем обильнее устремляется к наиболее свободным частям аппарата, чем важнее те, что стали недоступны. Жизненный принцип — это субстанция, реальное бытие, которое своим присутствием приводит органы в движение и удерживает их элементы в единстве, а в отсутствии — оставляет их распадающему действию. Неразложимый, как и другие элементарные начала организма, он является эманацией общего, чувствующего и разумного принципа Вселенной; он воссоединится с этим общим источником всякой жизни и всякого движения. Устойчивость жизненного начала влечёт за собой устойчивость «я» — узла всех интеллектуальных и моральных результатов; однако невозможно быть здесь столь же уверенным, как в отношении разума первопричины. Ещё более слабы вероятности, если речь идёт об идеях, чувствах, нравственных привычках, которые мы считаем неотделимыми от нашего «я». Тем не менее отрицание этого невозможно доказать и оно несовместимо с совершенной справедливостью — идеей, неотделимой от представления о первопричине; это нравственный аргумент, имеющий вес и способный склонить чашу весов в условиях полного неведения духа. Но верховный устроитель мира может исполнять функции воздающего и карающего лишь посредством общих законов, санкция которых не менее реальна и действенна уже в этой жизни, даже если загробной жизни и не существует. Добродетельные люди, по прекрасному выражению, которое Платон вкладывает в уста Сократа, должны с доверием смотреть и на смерть, которая не может принести им ничего, кроме блага, и на жизнь, чьи истинные радости предназначены только для добродетельного человека, а невыносимые горести — лишь для злого.
Несомненно, мораль имеет прочные основания в человеческой природе, но выводить правила нашего поведения из законов природы или порядка, называть добродетелью то, что им соответствует, а пороком — то, что ему противоречит; рассматривать каждое существо как служителя первопричины, который действует вместе с ней для осуществления общего замысла и осуществляет часть её могущества — значит не строить мораль на религиозной вере, а выводить её из её единственного подлинного источника — из природы вещей в целом и человеческой природы в частности; значит расширять и возвышать её; значит давать человеку возвышенное представление о достоинстве его существа и о прекрасном предназначении, к которому он призван верховным устроителем.
Впрочем, именно эта религия была и всегда будет единственно истинной — единственной, которая даёт верное и возвышенное представление о Высшей Причине, которая возвышает дух и насыщает сердце, не вводя в заблуждение разум; которая даёт человеку нечто гораздо большее, чем бессмертие, показывая его существование как связанное с прошлым и будущим; которая одна только предлагает добродетели вечные надежды, способные удовлетворить разум. Священнослужение её совершают все люди, стремящиеся познать законы природы, а особенно законы природы нравственной. Её культ состоит в том, чтобы всё больше и больше следовать этим законам, развивать наш разум и наши склонности, совершать все действия, полезные для индивидов, для отечества, для человечества в целом. В тот момент, когда почти все позитивные религии были столь глубоко поколеблены, и когда столь многие просвещённые люди признают моральную полезность религии, есть основания полагать, что могущественное правительство, дружелюбное к человечеству, — пишет Кабанис, который, по-видимому, не до конца отказался от надежды видеть Наполеона работающим во имя своих философских идеалов, — могло бы на этой столь простой и столь богатой основе учредить культ и торжества, чье великолепие и блеск значительно превзошли бы наши бедные современные празднества.
Все, кто прочтёт это, признают вместе с Сент-Бёвом, что Письмо о первопричинах свидетельствует о «подготовке новой эпохи, что оно дышит самыми возвышенными чувствами и затрагивает наиболее добросовестные размышления»; но они воздадут за это честь самому Кабанису и увидят в нём человека, который «угадывает и предвосхищает историю философий, с беспристрастной и проницательной мыслью». Более того, если они вспомнят это замечательное сочинение, где М. Ренан изложил свои сомнения, вероятности и убеждённости, они сочтут, что мыслитель, исходящий из стоицизма, порой менее красноречив, менее «переливчат и разнообразен», но не менее оригинален и не уступает широтой духа тому, для кого христианство — «тень, в которой мы до сих пор живём». А вспоминая Форьеля, они будут бесконечно благодарны ему за то, что он передал другим благую весть, которую сам когда-то услышал.
26 апреля 1807 года Дестют де Траси сообщил Бирану о первом приступе Кабаниса словами, которые показывают, насколько последнего любили его друзья и насколько Де Траси, внешне такой холодный, был в действительности чувствительным и сердечным. Спустя месяц (12 мая) Де Траси не высказывал особого утешения по поводу состояния здоровья Кабаниса. В августе (7-го), будучи сам болен, он пишет Бира́ну, что вести о Кабанисе неутешительны. Страдающий приступами перемежающейся лихорадки и обеспокоенный здоровьем матери своего зятя, «прекрасной женщины, столь необходимой обеим семьям», он сообщает Бира́ну, что Кабанис чувствует себя достаточно хорошо и даже охотится. В декабре он вновь делится новостями о нём.
Точные сведения о последних месяцах жизни Кабаниса отсутствуют. Мы знаем, со слов Де Траси, Женгене и Минье, что зиму он провёл неподалёку от деревушки Рюэй, объезжая верхом с племянником соседние деревни и навещая больных. Второй удар был сопровожден паралитическим состоянием. 5 мая 1808 года, после прогулки, во время которой у него с женой состоялся «самый нежный душевный разговор», он лёг в постель и проспал несколько часов. Около часу ночи глухие стоны возвестили его близким, которых он перед тем попросил удалиться, о новом приступе, ставшем роковым.
Кабанис был оплакан всеми, кто его знал: бедняками, среди которых он жил, и друзьями, ценившими его достоинства. Его останки были помещены в Пантеоне. Однако именно Институт оказал ему высшие почести. 21 сентября Дестют де Траси занял место Кабаниса во Французской академии и произнёс «хвалебное слово о человеке, который был ему дороже всех и который в свою очередь его нежно любил». Он осмелился заявить, что Кабанис выполнил двойную задачу, которую сам себе поставил: внёс философию в медицину и медицину — в философию. Говоря о Rapports du physique et du moral de l’homme, он произнёс: «Этот великолепный труд останется навсегда одним из величайших памятников философии нашего времени и одним из тех, что наибольшим образом будут способствовать славе века, в который мы вступаем. Какая простота изложения, какая глубина выводов, какая тонкость анализа в деталях и какая поразительная правда в целом!». К этому он добавил, усиливая чувство утраты из-за столь преждевременной смерти: «Он вынашивал план большого труда о возможных способах усовершенствования человеческой природы, используя уже приобретённые знания, чтобы ещё больше увеличить её силы, способности и благополучие. Он уже собрал все основные идеи. Они подтверждали или расширяли истины, рассеянные в его разных сочинениях, они были их прямым приложением. Ему оставалось лишь взяться за перо — это был тот памятник, который, как он считал, лучше всего прославит его имя». Быстрое угасание жизненных сил не позволило ему осуществить этот замысел.
М. де Сегюр ответил на речь Де Траси, восхваляя Кабаниса, его труды и особенно Révolutions de la médecine, сочинение, которое он назвал выдающимся образцом истории философии. Затем была прочитана выдержка из перевода Илиады, за которой последовала Прогулка Фенелона, где Андрие́ с энтузиазмом восхвалял Кабаниса.
В 1810 году Институт включил Rapports du physique et du moral de l’homme в список сочинений, достойных премии в области морали и воспитания.
Все единодушны в оценке личности Кабаниса. Мы не будем пересказывать мнения его друзей. Но даже Форьель, связанный с несколькими философскими противниками Кабаниса, всегда отзывался о нём как о самом нравственно совершенном человеке, которого он знал. Мандзони, желая выразить ту нежность, доброту и любовь, что он увидел в друге своего друга, называл его «ангельским Кабанисом». Минье напоминал о самоотверженности врача, щедрости политика, возвышенности писателя и умеренности мудреца.
Как могло случиться, — удивится читатель, — что столь оригинального мыслителя забыли или презирали? Чтобы это понять, нужно вспомнить, насколько сильной была политическая, религиозная и философская реакция, последовавшая за Революцией. Фрейсину, в своих конференциях в Сен-Сюльписе с 1803 по 1809 год, а затем с 1814 по 1822 год, относил Кабаниса к докторам материализма, которые, прикрываясь научным аппаратом, пытались механически объяснить мышление с помощью «двусмысленных и ошибочных» сравнений; и создавали «системы столь же абсурдные в метафизике, сколь пагубные в морали». При Реставрации Фрейсину вошёл в состав Королевского совета по народному образованию и «снабжал советами и возражениями» профессоров и учеников Нормальной школы. Получив руководство образованием, вновь подчинённого религии, он выказывал почти такое же неприятие идеологов, как и приверженность к «лионской философии», как это делал и его предшественник М. де Корбьер. Последний, впрочем, разделял мнение своих политических единомышленников, де Бональда и де Местра, считавших идеи Кабаниса гнусными, а их авторов врагами рода человеческого. Руайе-Коллар и его сторонники, хоть и противостояли столь ожесточённым критикам идеологов, были с ними солидарны в осуждении их доктрин. Руайе-Коллар, провозглашавший Декарта и Кондильяка «скептиками», направлял по всей Франции молодых преподавателей — «настоящих миссионеров морали», чьё влияние, как он надеялся, поможет положить конец скептицизму и возродить веру на более широкой и прочной основе. Виктор Кузен посвятил всю свою жизнь продолжению философской реформы, начатой Руайе-Колларом, и видел рядом с Кондильяком «Гольбаха, Ламетри и весь разгул материализма и атеизма». Вот почему Дамирон и пишет свой труд о философии во Франции XIX века — не только против теологической школы, но и против сенсуализма и его моральных, политических, поэтических и религиозных последствий. В то же время Эме Мартен публикует сочинения Сен-Пьера и в широко цитируемом Предисловии изображает Кабаниса как нетерпимого атеиста. Между тем, Биран и Ампер заняты борьбой против тех, чьими учениками они некогда гордились быть; Дежерандо становится всё более религиозным, Ларомигьер в своих Лекциях не произносит ни разу имён своих прежних друзей, а Тюро доказывает существование Бога и бессмертие души.
В последние годы к Кабанису относятся всё строже. Сегодня можно услышать: лучше бы новое поколение со всей серьёзностью повторяло утончённые пустяки схоластов, чем высказывало с наивным энтузиазмом эту чудовищную нелепицу, что мозг переваривает мысль, как желудок пищу, — столь бесстыдно приписываемую «мастеру физиологии». Его труд якобы полон «тысячи ошибок», а его система одновременно возмутительна и причудлива. Курно извиняется, когда ссылается на Кабаниса. Если Песс издаёт новое издание Rapports, Ремюза заявляет, что там нет ни системы, ни метода, что это ни научный трактат, ни философский. Напрасно Минье называл его основателем, пусть и неполным, новой науки и полезным реформатором старой; напрасно Сент-Бёв утверждал, что Кабанис заслуживает как философ куда большего признания, — в конце концов, ему оставляют лишь мимолётное упоминание в истории философии; его просто замалчивают а то и приписывают его заслуги его ученикам, Бирану и Амперу. И вот, когда во Франции вновь обратились к тем исследованиям, что прославили Кабаниса, даже те, чьи труды он бы приветствовал, не пожелали признать его своим предшественником и предпочли ссылаться на более уважаемые иностранные имена.
Мы не имеем никаких оснований становиться в ряды противников Кабаниса, равно как и не стремимся, вслед за некоторыми его поклонниками, искать в его трудах оружие против той или иной философской доктрины. Прежде всего, и превыше всего, мы ведём работу историка — беспристрастно. Мы показали оригинальность Кабаниса и объяснили, почему она была недооценена. Осталось кратко подытожить достигнутые выводы.
Кабанис — ученик и поклонник греков, Тюрго и Франклина, Кондорсе и Гольбаха, Вольтера и Руссо, Бонне, Кондильяка и Гельвеция. Он подготовил, для Мирабо, один из самых оригинальных проектов по народному просвещению, обнародованных во время Революции; для Гара — труд, ставший вехой, о Революциях и реформе медицины. Как профессор, он блестяще изложил обязанности профессии, которую считал священной; как политик он думал лишь о Франции и согражданах. Как продолжатель дела Кондорсе, он защитил, а подчас и углубил учение о совершенствовании человека. Он создал в Rapports физиологическую психологию, рекомендовал психологию животную, эмбриональную и болезненную, настаивал на значении внутренних ощущений, предвосхитил или подготовил идеи Ламарка и Дарвина, Шопенгауэра и Гартмана, Конта, Льюиса и Прейера, не считая тех, кто, через Бирана и Ампера, заимствовал у него опосредованно. Его Письмо к Тюро стало наилучшим ответом на книгу Гений христианства: греческие философы, как и французские, итальянские и английские, дали ему для этого все основания. Таким образом, он пришёл к беспристрастной и разумной истории философии, а его ученик Форьель передал эти взгляды Кузену и Огюстену Тьерри. Наконец, он решился затронуть метафизические вопросы, которые рано или поздно встают перед каждым мыслителем, и попытался — с полной искренностью и высоким духом — изложить свои сомнения, вероятности и убеждения: он завершил свою спекулятивную жизнь среди платонизирующих стоиков, так же, как начинал её с Гомером, Гиппократом и Галеном.
Продолжение: Глава V. Дестют де Траси — идеолог, законодатель и педагог
