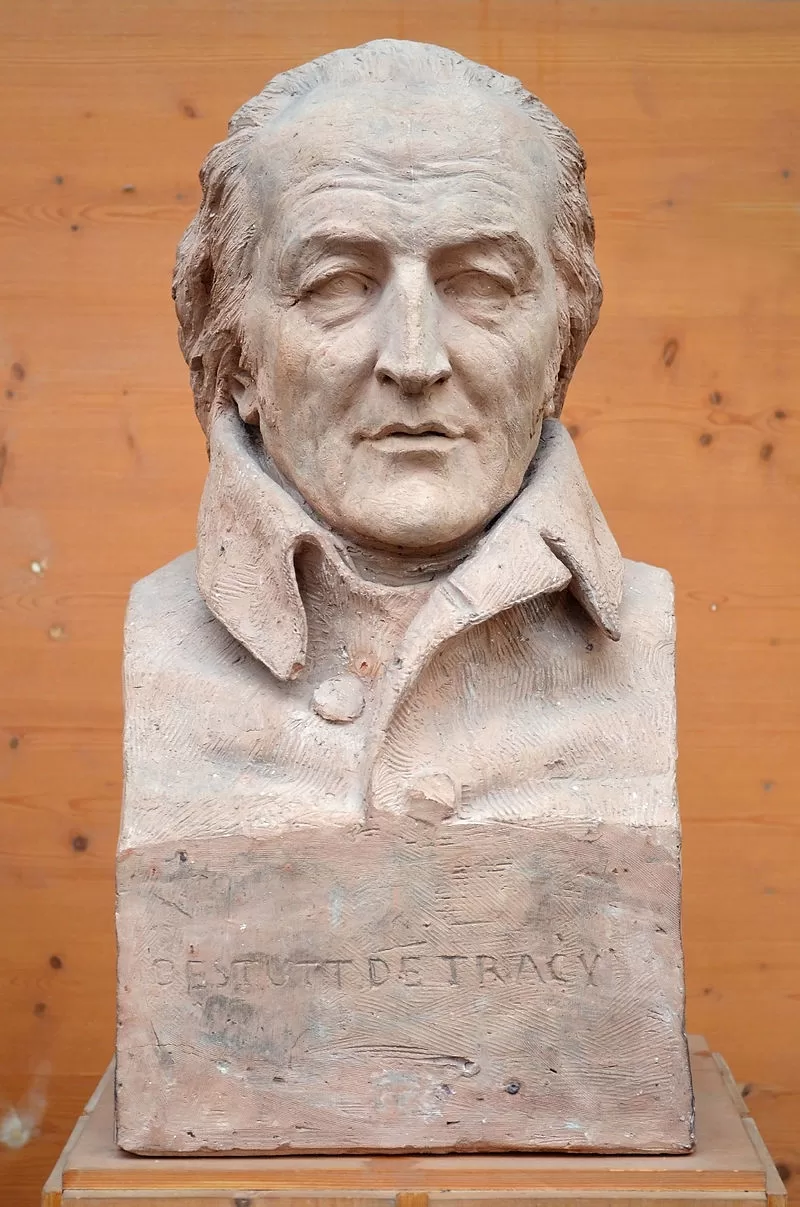
Шестая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).
Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.
Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.
— I —
Элементы идеологии; метод для изложения и изучения идеологии; позитивные тенденции, физика и геометрия
10 термидора IX года Декада анонсировала первую часть Проекта «Элементов идеологии» как «превосходное произведение», о котором она собиралась вскоре сделать подробный разбор. Дестют де Траси не стремился написать полную историю человеческого духа, а хотел прояснить процесс формирования идей, чтобы с полной достоверностью обосновать теорию их выражения. Поэтому он ограничился пятью или шестью основными пунктами: числом действительно различающихся интеллектуальных способностей и действием каждой из них; формированием наших сложных идей; существованием и свойствами тел; влиянием привычек; происхождением и действием знаков. Возобновив план большого Мемуара о способности мыслить, он разрабатывал его в семнадцати главах.
Если Кондильяк — создатель идеологии, то Дестют де Траси не щадит его в критике. Он отличается от учеников Кондильяка, которые добавляли или убирали из его деления способностей ума, и от сектантов Кондильяка, которые не признали бы его правым в том, что он сводит способность чувствовать к ощущениям, воспоминаниям, соотношениям и желаниям. Наряду с Кондильяком и Локком, для которых идеология — часть физики, Дестют де Траси ссылается на Гоббса, «одного из наших величайших философов», и на Трактат о человеческой природе, переведённый Гольбахом; на Бюффона, красноречивого толкователя природы, который не считал свою Историю человека завершённой, пока не попытался описать его способность мыслить; на Мальбранша, одного из наших величайших гениев; на Беркли, превосходный ум; на Пинеля и Кабаниса, философствующих физиологов, которые продвинут вперёд идеологию; на Д’Аламбера и Руссо, Лапласа и Боннатера.
Дестют де Траси использовал свои прежние исследования. Однако его мысль чаще всего претерпела изменения в форме. Если ранние сочинения были написаны для учёных, то Идеология предназначалась для центральных школ и должна была быть понятна и полезна для здравомыслящего человека, даже без пояснений опытного преподавателя. Так, если де Траси считает, что дидактический труд должен быть сдержанным и не должен стремиться волновать воображение, он в то же время убеждён, что такой труд должен быть методичным (V, 362); что, чтобы быть понятым, всегда нужно отталкиваться от той точки, где находится человек, с которым говоришь, от идей, ему наиболее знакомых; что нужно располагать истины в должном порядке, не упускать ни одной из существенных, устранять всё излишнее, делать так, чтобы все истины были взаимосвязаны, взаимно поддерживали друг друга и были представлены достаточно ясно, чтобы их могли понять даже наименее образованные. Этого метода, который авторы элементарных учебников слишком часто, к сожалению, не применяют, де Траси придерживался почти во всём своём труде. Он воспользовался тем, что его читатели уже изучали греческий язык, естественную историю, физику, математику, чтобы привести их к размышлению и постепенно приучить к анализу мышления. Так же, вместо того чтобы начинать с определений, он приводит множество наглядных примеров, делает акцент на смысле слов в обыденных выражениях, чтобы наиболее легко и надёжно привести к идеям, которые они выражают. Когда речь идёт, например, об объяснении формирования сложных идей, он говорит юным читателям: «Персик, вкус которого вы пробовали вчера, дал вам ощущения красивого цвета, приятного запаха, приятного вкуса; вы ощутили его мягкость на ощупь; вы знаете, что он растёт на дереве, имеющем определённый вид и находящемся в определённом месте. Из всех этих идей вы формируете одну идею — идею этого персика… Вы видите других существ, имеющих с ним много общих черт, но в то же время заметно отличающихся… Вы отвлекаетесь от этих отличий… вы утверждаете, что это тоже персики: и вот идея становится общей и состоит только из признаков, присущих всем персикам». Он делает со своими читателями то же, что раньше делал с детьми, ещё совсем юными, не отличавшимися особыми интеллектуальными способностями, и которые тем не менее с лёгкостью и удовольствием восприняли все эти идеи (стр. 5).
Прежде чем указать, какие изменения претерпела мысль автора по существу, важно показать, какой метод использует и рекомендует Дестют де Траси для изучения идеологии, какими границами он её ограничивает и какую её часть он намерен исследовать лично. Метафизика, то есть то, что имеет целью определить принцип и цель всех вещей, угадать происхождение и предназначение мира, принадлежит, по мнению автора, к области искусства воображения, предназначенного скорее удовлетворять, чем обучать (XV). Поэтому де Траси отказывается утверждать или отрицать, существует ли чувствительность у растений или минералов, потому что мы находимся в полном неведении по этому поводу, а в подлинной философии, считает он, никогда не следует ничего предполагать (гл. II). Чувствительность и память — это результаты устройства, механизмы которого в своей сути для нас непостижимы (гл. III). Если мы и можем представить себе жизненную силу лишь как результат притяжений и химических соединений, дающих на время особый порядок явлений, но вскоре возвращающихся в лоно более общих законов, то есть законов неорганической материи, — мы всё же не знаем, в чём именно эта сила состоит. Мы не знаем природы движения, происходящего в нервах и сопровождаемого восприятием, не знаем, каким образом осуществляются движения, вызываемые жизненной силой (гл. XII). Единственное полезное дело это изучать то, что есть, чтобы познать это и извлечь из этого наибольшую выгоду, не вдаваясь в поиски причин и истоков, которые являются бесконечным источником заблуждений и ошибок (гл. III).
Мы уже видели, что Дестют де Траси сознательно ограничил себя рациональной идеологией, хотя и не отказался от того, чтобы освещать её при помощи данных физиологии. В своём новом труде он сохраняет ту же позицию: идеология — это, по его мнению, часть зоологии, и его книга покажет, что изучение идеологии полностью состоит из наблюдений и не содержит в себе ничего более таинственного или туманного, чем другие разделы естественной истории. Разумеется, он сожалеет о том, что не связал её теснее с физиологией, но при этом ни одно из его объяснений не противоречит точному знанию, которое даёт внимательное наблюдение за нашими органами и их функциями. Он возлагает все надежды на философов-физиологов, особенно на Кабаниса, в деле дальнейшего продвижения идеологии. Более того, все люди начинают с детского идиотизма, заканчивают старческой деменцией, а в промежутке страдают в большей или меньшей степени манией, в зависимости от того, насколько нарушаются глубоко укоренившиеся интеллектуальные операции: отсюда следует, что патологические исследования тоже будут способствовать прогрессу идеологии, и Пинель, объясняя, как заблуждаются безумцы, учит разумных тому, как они мыслят.
Если Дестют де Траси считает, что он уже сделал достаточно, прочно утвердив идеологию человека, то он желал бы, чтобы некоторые необычные факты, наблюдаемые вскоре после рождения у некоторых животных, были бы снова изучены под строгим и точным углом зрения. Он считает, что Драпарно мог бы оправдать те надежды, которые на него возлагались (стр. 302), и создать труд по сравнительной идеологии. Сам же де Траси опирается на наблюдения над дикарями, деревенскими жителями удалённых областей, над детьми и животными; он выражает сожаление, что дети, найденные в лесах, не были изучены с должными предосторожностями и в достаточных подробностях (гл. XV), ибо было бы чрезвычайно интересно выяснить, чем наши способности обязаны совершенствованию индивида, а чем — развитию вида, и мы тем лучше узнаем самих себя, чем под более разными углами будем на себя смотреть.
Какой метод Дестют де Траси применил в той части идеологии, которую он считал своей собственной областью? В его труде сталкиваются два ума совершенно различного склада: физик, который опирается исключительно на наблюдение, и геометр, слишком часто прибегающий к рассуждению. Физик утверждает, что изучение идеологии целиком состоит в наблюдениях и является разделом физиологии животных, требующим самых тщательных и детальных наблюдений (с. 311). Подобно тому как изучают падение дыма в пустоте и его подъем в воздухе, идеолог должен исследовать различные способы, которыми протекают явления, и обнаружить среди них некоторые общие законы, то есть устойчивые способы действия. Если факты всегда соответствуют тем, какими они должны быть при условии истинности этих законов, значит, мы не ошиблись, заметив их, и не вообразили их лишь для того, чтобы подогнать под них факты (с. 284). Нужно всегда исходить из фактов (с. 6) и предпочитать теорию, основанную на положительных фактах, теории, которая опирается лишь на соотношение двух общих идей, принимаемых за реальные сущности (с. 16). Геометр, напротив, видит в любой науке цепь суждений, длинную цепь, в которой все звенья равны между собой; никакая наука не является сама по себе более туманной, чем другая (с. 14); всё зависит от порядка, в котором эти звенья расставлены, чтобы избежать «слишком широких прыжков». Только чистая геометрия обладает абсолютной достоверностью, потому что только протяжённость может быть строго разделена на отдельные части. Все остальные науки обладают достоверностью, пропорциональной тому, насколько их предмет может быть количественно оценён в терминах протяжённости. Следовательно, сила чувств, склонностей, мнений никогда не может быть оценена с точностью, даже в самых благоприятных условиях, иначе как по их последствиям; поэтому исследования в области моральных и политических наук значительно труднее, а результаты — менее строгие. Де Траси сочетает оба метода в неравной пропорции, подобно шотландцу, отказавшемуся от метафизического объяснения причин, но всё ещё находящемуся под влиянием Декарта. Он много наблюдал за тем, как человек мыслит (с. 3), собирал факты, не пытаясь проследить их причины, которые ему неизвестны, и не делал преждевременных выводов (с. 269). Он использует одновременно анализ и синтез: «Когда мы, так сказать, разберём по частям все компоненты способности мыслить, мы снова соберём их вместе, чтобы увидеть их в действии» (с. 50). Если он и предположил существование общего закона, аналогичного законам гидростатики или механики, например закона, управляющего всеми нашими движениями, он выдвинул гипотезу — или, как сам говорит, догадку — и требует, чтобы её проверили фактами. Чем больше фактов она объясняет, тем ближе мы к истине, ведь совершенство науки в том, чтобы все возможные факты проистекали из одной причины (с. 284). Факты это следствия, которые всё больше подтверждают закон или принцип (с. 378); самые абстрактные истины — лишь выводы, основанные на наблюдении фактов (с. 6). Таким образом, если множество фактов подтверждают гипотезу, её можно принять, если она не противоречит разуму (с. 277), то есть не содержит внутреннего противоречия (с. 299). Можно пойти и дальше: сопоставляя сложные эффекты привычки с наблюдениями над свойствами наших движений, как внутренних, так и внешних, и над последствиями этих свойств в реализации каждой из наших интеллектуальных способностей, можно легко выделить ближайшие причины всех этих эффектов (с. 291). В отсутствие фактического доказательства можно прибегнуть к доказательству рассуждением (с. 46). А так как рассуждение приводит к результатам быстрее, чем наблюдение, то Д. де Траси слишком часто злоупотребляет им. Он воображает мир, в котором ощущения, суждения и желания не оставляют в нас никакого долговременного следа (с. 304); утверждает, что первый человек, живущий в одиночестве, оказался бы гораздо менее развитым, чем самый дикий из дикарей, потому что у него не было бы в распоряжении никакого языка (с. 317); пишет, что возможно, было время, когда мы чувствовали, но ещё не судили (с. 47). И всё же, несмотря на всё это, он справедливо говорит, что почти все идеологические феномены включают настолько разнообразные и многочисленные обстоятельства, что мы судим о них совершенно по-разному, в зависимости от угла зрения; что чтобы узнать их по-настоящему, нужно рассмотреть их со всех сторон (с. 407); что трудность такова, что требуется уже немалый прогресс, чтобы просто понять, в чём она заключается (с. 242). И всё же он не колеблется утверждать, что факты находятся в нас, что результаты близки к нам, и что всё настолько ясно, что трудно понять, как столь многие так сильно всё запутали (с. 15). Признав необходимость физиологической, патологической, детской и сравнительной идеологии, он утверждает, что, если не ошибается, он дал ясное представление о всеобщем инструменте всех наших открытий, о его приёмах, действиях, результатах и о начале всех наших знаний, — «что, быть может, ещё никогда не удавалось». Более того, он уверен, что его способ разложения мышления даёт объяснение всем объяснимым феноменам (с. 228).
— II —
Способность к мышлению; существование тел, новая доктрина; Траси и Биран; критика Кондильяка; Привычка и знаки
Первая часть труда, посвящённая описанию интеллектуальных способностей, воспроизводит — с ещё большей точностью — некоторые идеи из большого Мемуара. Способность мыслить или ощущать это способность иметь идеи или восприятия, то есть собственно ощущения, воспоминания, соотношения (раппорты) или желания. Она включает, таким образом, четыре элементарные способности: собственно чувствительность, память, суждение и волю. Что касается первой, Дестют де Траси, как и Кабанис, принимает во внимание внутренние ощущения — колики, тошноту, голод, головную боль, усталость, ощущение движения и т. д. Память не сообщает нам ни причины, ни способа появления воспоминаний, и без суждения мы никогда не различали бы текущее ощущение и воспоминание. Что касается суждения, или способности воспринимать отношения, оно предполагает две идеи или группы идей — и только две. Воля, будучи результатом организации, как и прочие способности, делает нас счастливыми или несчастными, направляет движения наших членов, операции нашего разума и сливается с «я» больше, чем какая-либо иная способность. Она плод наших желаний, а желания — результат наших суждений: единственный способ их регулировать, а значит и быть по-настоящему нравственными, состоит в том, чтобы формировать справедливые и истинные суждения.
Посредством этих четырёх способностей формируются все наши идеи или составные восприятия. Только акт способности чувствовать представляет собой простую идею. Если мы относим его к существу вне нас, идея, которая включает в себя как действие чувствования, так и суждения, является составной, но касающейся одного-единственного факта. Пробуждается ли воспоминание об этом случае по поводу нескольких других, ему подобных? — оно становится общей идеей, общей для ощущений одного и того же рода и не содержащей ни одной из особенностей, присущих каждому из них. Объединять несколько элементарных идей или восприятий — значит составлять или формировать индивидуальную составную идею реального существа, например, персика или клубники. Исключить из них особенности, свойственные каждому восприятию, — значит абстрагировать, чтобы образовать составную и общую идею. Следовательно, общие идеи — это лишь способы классификации наших идей об индивидах; иначе говоря, это чистые порождения нашего духа, в которых участвуют только ощущения, воспоминания, суждения и желания.
Снова Дестют де Траси поднимает вопрос, который встречается почти во всех его прежних работах. Если наши ощущения, воспоминания, суждения, желания — лишь модификации нашего собственного существа, если наши составные идеи формируются из этих элементов и без всякого внешнего вмешательства, — как же мы пришли к суждению, что они вызваны существами, не являющимися нами же? Существуют ли тела, и откуда мы это знаем? Внутренние ощущения, вкусы, звуки, зрительные впечатления, тактильные ощущения, не сопровождаемые движением, ничего не говорят нам о собственном существовании. Когда я двигаю рукой, я испытываю ощущение движения; когда движение прекращается из-за какого-либо препятствия, я ощущаю это. «Это уже многое, — говорит Дестют де Траси, — но этого недостаточно, как я раньше думал, слишком поспешно делая выводы. Не зная ещё, что у меня есть рука и что существуют тела, я не обязан на основании этих изменений моего состояния признавать, что то, что прекращает моё ощущение движения, есть некое внешнее существо». В чём же состоит изменение, которое Дестют де Траси вносит в свою прежнюю доктрину?
Прежде всего он обращается к воле. Предположим ощущение движения, сопровождаемое желанием его испытать: оно прекращается, в то время как желание сохраняется. Я узнаю, что существует нечто, противостоящее моему желанию: желание — это я, а то, что ему противится, — вне меня. Но Дестют де Траси утверждал ранее, что без способности к движению у нас не было бы ни воли, ни суждения. Теперь он уже не может этого утверждать, не впав в порочный круг. Поэтому он полагает, что ощущение, приятное или неприятное, сопряжено с суждением, посредством которого мы чувствуем соотношение между ним и нашей способностью чувствовать, и что необдуманное желание двигаться при сильной боли предшествует или сопровождает первое из наших движений.
Ни Дестют де Траси, ни кто-либо из тех, кто его изучал, не изложили причин этих изменений. Но после чтения Кабаниса это становится понятным: «Такой способ рассматривать предметы, — говорил Дестют де Траси, — ставит нас на путь понимания того, как некоторые обстоятельства нашей организации, происходящие от различий темпераментов, возрастов, болезней, оказывают столь сильное влияние на наши суждения и склонности, и позволяет постичь, чем являются инстинктивные детерминации». Так вот, Кабанис выводит инстинкты самосохранения, питания и т. п. из детерминаций, свойственных нервной, кровеносной и пищеварительной системам, чётко разделяя сознание и впечатления: таким образом, можно хотеть или желать, не обладая знанием; извлекать из способности чувствовать — детерминации и идеи. Дестют де Траси, который «обращался к физиологии за разъяснением», согласовал свои воззрения с воззрениями «своего учителя и друга», а Кабанис впоследствии встал на его сторону против Бирана, потому что его собственные идеи «по этому вопросу уже давно были определены».
И действительно, Биран, который считал себя и провозглашал учеником Дестюта де Траси, «развивая его первоначальные идеи о роли усилия», с горечью жалуется, что был оставлен своим наставником. Неопубликованные письма, труды, изданные после смерти Бирана, сочинения самого Дестюта де Траси, Ампера, Дежерандо позволяют нам наблюдать дискуссию, имеющую первостепенное значение в истории философии. Кабанис находится на стороне Дестюта де Траси, Ампер — на стороне Бирана, причём и тот и другой не раз меняют свои взгляды; Дежерандо полемизирует с Дестютом де Траси, объединяя в критике и Бирана, и Кабаниса. Ясно видно различие в точках зрения, которые занимают Дестют де Траси и Биран. Последний — спиритуалист и субстанциалист: он стремится перейти от психологических фактов к сущностям и причинам. Дестют де Траси же остаётся идеалистом и феноменалистом, или, точнее, он занимает позитивную позицию и решительно отвергает всякие метафизические утверждения. Его линия была продолжена Тюро, Брауном, Бейном, Спенсером, Миллем, Тэном, Рибо, тогда как Биран вдохновил французских эклектиков.

Вернёмся к Éléments d’Idéologie. Благодаря ощущению движения и воле мы узнаём, что существуют тела. Первое свойство, которое мы им приписываем, — это сила инерции, предполагающая подвижность и силу импульса. Из этих трёх первоначальных свойств Дестют де Траси, как и прежде, выводит протяжённость; из неё — непроницаемость, делимость, форму и фигуру, пористость. Что касается длительности, то она может принадлежать существам без протяжённости, поскольку проистекает исключительно из последовательности наших ощущений; но это не относится к измеренной длительности, то есть ко времени, которое возникает из движения и протяжённости и, в свою очередь, в сочетании с протяжённостью служит для измерения движения. С большой точностью Дестют де Траси показывает, что величина становится измеримой в той мере, в какой можно ввести в неё чёткие и устойчивые деления. Если протяжённость в наивысшей степени обладает этими качествами, то длительность, части которой мимолётны и смутны, становится воспринимаемой благодаря вращению Земли вокруг своей оси, и её единицей служит день. Движение, части которого аналогичны частям длительности, представляется через протяжённость, а его энергия измеряется длительностью. Именно потому, что протяжённость допускает лёгкие, точные и постоянные деления, потому, что она может быть точно воспроизведена в масштабе, меньшем, чем в натуре, геометрия с лёгкостью достигает истины и достоверности. По этой же причине и другие науки достигают истины и достоверности, или применяют расчёт, в той мере, в какой предметы, которыми они занимаются, поддаются сведению к измерениям протяжённости. Следовательно, степень ясности и достоверности различных наук — механики, физики, медицины, нравственных и политических наук — зависит от природы объекта, а не от природы умственных операций. Анализ наших интеллектуальных способностей даёт более точные представления о природе тел; он должен был бы стать естественным введением в физику, как и в любой другой род познания.
Глава XI подводит итог всем критическим замечаниям, которые Дестют де Траси уже высказывал в адрес Кондильяка и его последователей. Затем автор рассматривает последствия соединения способности чувствовать со способностью двигаться. Подобно Кабанису и высказываясь достаточно осторожно, он подчиняет способность мыслить подвижности, и представляет себе в нас некий активный принцип, не как подлинно творящую силу, абсолютно новую и независимую от всех уже существующих в мире сил, а как силу, возникающую из притяжений и химических соединений, которые порождают особый порядок явлений, чтобы вскоре вновь подчиниться более общим законам, управляющим неорганической материей. Пока эта сила существует, мы живём, движемся и ощущаем. Мы не знаем, как осуществляются видимые или внутренние движения, которые она вызывает; мы не знаем ни характера движения, за которым следует восприятие, ни различий, отделяющих движения, предшествующие разным восприятиям, воспоминаниям, желаниям или суждениям. В свою очередь, способность желать действует на подвижность. Но движения, поддерживающие и обновляющие жизнь, нам совершенно неизвестны и, следовательно, не подчинены власти воли. Те движения, о которых мы иногда осведомлены, а иногда нет, в последнем случае независимы от воли; в первом — иногда происходят без нашего участия, иногда вопреки нашей воле, иногда — по воле. Некоторые движения всегда совершаются добровольно; другие — всегда помимо нас; третьи — всегда невозможны. Наконец, даже те, которые наиболее подчинены нашей воле, сами являются результатом множества других внутренних движений, происходящих без нашего желания и даже без нашего ведома. Это, по словам Дестюта де Траси, — действия, которые совершаются потому, что мы этого хотим, но движения, подготавливающие их, происходят сами по себе. Что касается интеллектуальных способностей, то влияние, которое оказывает на них воля, пропорционально тому, которое она оказывает на движения, порождающие восприятия, воспоминания, суждения и желания. В этом вопросе, как и в вопросе о свободе воли, Дестют де Траси возвращается к ранее выработанным идеям, при этом стараясь показать, что мы не ошибаемся, отождествляя себя с нашей волей, придавая большое значение воле других или их «я», говоря о заслуге или вине, о наказаниях и наградах, «поскольку воля оказывает влияние, опосредованно, через способность направлять наше внимание на определённое восприятие, помочь нам восстановить воспоминание, исследовать соотношение».
Четыре последние главы завершают историю мышления исследованием эффектов, которые в нас производит частое повторение одних и тех же действий, а также постепенного совершенствования интеллектуальных способностей как в отдельном человеке, так и в духе человечества — благодаря развитию знаков. Привычка есть источник всех наших успехов и всех наших заблуждений; знаки — самое ценное изобретение человека. Дестют де Траси воспроизводит в новом порядке и с большей точностью доктрины, изложенные в Mémoire sur la Faculté de penser («Мемуаре о способности мыслить»). Закон привычки заключается в том, что чем больше повторяются движения, тем легче и быстрее они совершаются, но тем менее они становятся ощутимыми. Этот закон применим к ощущениям, к воспоминаниям, в которых он устанавливает ту самую «связь идей — столь важный идеологический феномен, наблюдение за которым столь справедливо восхваляется, ибо он проливает яркий свет на наши умственные операции и сам по себе представляет собой не что иное, как механическая или химическая связь органических движений, порождающих наши идеи». Он применим и к суждениям, и к желаниям; он позволяет объяснить ряд необъяснимых прежде фактов, позволяет понять, почему человек, подчинённый привычному желанию, действует ради его удовлетворения вопреки самым очевидным доводам разума: это происходит потому, что обдуманные и ясно осознанные суждения сталкиваются с другими, более привычными и неосознанными; потому что в нас почти одновременно совершается невероятное количество интеллектуальных операций, о которых мы не имеем никакого представления. Так же объясняются и те инстинктивные детерминации, которые сравнительная идеология могла бы с такой пользой изучать. Уже с первого дня у животного совершается множество сложных сочетаний с той же быстротой, какую мы приобретаем только благодаря упражнениям.
Точно так же Дестют де Траси вновь показывает, насколько первый человек, рождённый взрослым и организованный, как мы, оставался бы, живя в изоляции, ниже самого ограниченного дикаря, поскольку у него не было бы никакого языка, и он не мог бы воспользоваться опытом ни одного существа, подобного ему. Он указывает на преимущества знаков, придавая ещё большее значение их идеологической роли и рассматривая грамматику, идеологию и логику как нечто единое. Различая, и вполне обоснованно, природные знаки и знаки искусственные, то есть произвольные, он утверждает, как и прежде, что мы начинаем мыслить ещё до того, как располагаем искусственными знаками, которые впоследствии будут вызывать, направлять и фиксировать общее движение человеческого духа в его построениях и поисках. Вопрос о знаках, если речь идёт о природных, сводится к тому, можно ли отделить способность чувствовать от способности действовать. Он, говорит, может представить себе состояние, в котором внутренние движения, производящие наши восприятия, происходили бы без сопровождающих их внешних движений, их проявляющих, — состояние, в котором мы бы мыслили без знаков. Наконец, он совершенно справедливо отмечает, что знаки, исходящие от голосового органа и направленные к органу слуха, являются наиболее распространёнными, потому что они наиболее удобны и наименее ограничены в возможности совершенствования. Самое важное действие знаков — в том, что они помогают нам сочетать элементарные идеи для формирования составных идей и закреплять их в памяти; они соединяются с внутренними движениями, которые при чисто интеллектуальных восприятиях лишь в малой степени возбуждают нервную систему, чтобы придать этим восприятиям энергию ощущения, которое ими вызвано; они становятся своего рода ярлыком идеи, формулой, которую мы легко запоминаем, потому что она чувственна, и которую используем в последующих построениях, даже если мы уже забыли, каким образом она была первоначально сформирована.
Успех Éléments d’idéologie («Элементов Идеологии») был столь же велик, как и успех Rapports du physique et du moral de l’homme («Отношений между физическим и нравственным в человеке»).
— III —
Мемуары о Канте; Чистая мука и мука опыта; Немецкая философия и французская философия; Грамматика; Д. де Траси и Джеймс Милль; Речь и письмо; Универсальный алфавит и язык; Суждения Кабаниса, Туро и Бирана; Логика, посвященная Кабанису; История логики; Ошибка; Зарождение наших идей; Критика Ларомигера; Общие и специальные науки; Девять частей элементов идеологии; Дополнение к логике, вероятности; Идеология и физиология
Кант в то время уже был знаменит во Франции: его труды, получившие признание ещё с самого начала в Страсбурге благодаря Мюллеру и его ученикам, привлекли внимание Сийеса и Грегуара, Бенжамена Констана, Дежерандо, Прево, Франсуа де Нёфшато и писателей из журнала Décade. Мерсье, восторженно превознося Канта, чтобы противопоставить его Локку и Кондильяку, и Вийе, оскорблявший французскую философию и Революцию, — не сумели отвратить от него симпатии; Институт высоко оценил его, включив в число тех, из кого выбирали иностранных членов. Когда вышел перевод Кинкера — «одно из самых полезных сочинений для продвижения рациональной философии», — Дестют де Траси взялся за анализ кантианства и 7 флореаля X года прочёл обстоятельную записку о Метафизике Канта, которую он, к тому же, изучал и в латинском переводе его сочинений. «В Германии, — говорит он, — люди становятся кантианцами так же, как становятся христианами, магометанами, браманистами, как прежде были платониками, стоиками, скотистами, томистами или картезианцами. Во Франции нет глав школ: никто не идёт под чужим знаменем, каждый придерживается своих личных взглядов, и если в ряде пунктов между нами есть согласие, то оно возникает без всякого намерения к единомыслию. Когда немцы утверждают, будто мы последователи Кондильяка, так же как они — кантианцы или лейбницианцы, они забывают, что Кондильяк ни разу не выступал как догматик, не создал системы, не разрешил ни одного из тех вопросов психологии, космологии или теологии, из которых немцы составляют свою метафизику; что, быть может, нет ни одного из тех, кто, подобно ему, ограничивался изучением наших идей и их знаков, исследовал их свойства и выводил из них некоторые следствия, — кто бы принял его грамматические принципы, был бы полностью удовлетворён его анализом интеллектуальных способностей или его теориями рассуждения. Не его положения ценятся, а его метод. Этот метод медленно, но верно ведёт, во всех областях человеческого знания, тех, кто добросовестно наблюдает факты, извлекает из них следствия лишь с полной уверенностью, кто никогда не выдаёт простые предположения за факты и соединяет между собой лишь такие истины, которые естественно и без пробелов связаны друг с другом, кто признаёт своё незнание и предпочитает его любому утверждению, основанному лишь на правдоподобии». Именно этот метод, строгий и по-настоящему научный, хотя сам Дестют де Траси не всегда следовал ему в Идеологии, он и сравнивает с философией Канта. Несомненно, — говорит он языком, напоминающим студента из Страсбурга, друга Сийеса и Грегуара, — Кант философ весьма выдающийся, автор трудов, способствовавших прогрессу просвещения и распространению здравых и либеральных идей. Он весьма уважаем в Германии, где самые искусные умы считают за честь быть его учениками; но никто не утверждает, что он наблюдатель-фактолог. Его философия преподносится как всеобъемлющая система, охватывающая метафизику, мораль, политику, все разделы рациональной философии, как мир умопостигаемый, так и мир чувственный. Между тем нам откровенно признают, даже при признании его выдающегося литературного дара, что в его сочинениях есть неясности; разве это не серьёзное подозрение против системы, чья прочность уже кажется сомнительной на фоне известной несовершенности самой науки? Его доктрина, как утверждают, представляет собой полное обновление человеческого духа: следовательно, она должна опираться на идеологию более совершенную, чем все предыдущие, и именно эту идеологию следует изучить и познать, чтобы судить о ней. Именно так и поступает Кинкер, который в объяснении философии Канта обращается к Критике чистого разума, и в ней — прежде всего к её идеологической доктрине. Однако в ней чувствительность рассматривается как пассивная, в противоположность активному рассудку — что, как раз, и есть противоположность истине. Он говорит об ощущаемых объектах как о вещах, находящихся вне нас, при этом повторяя, что чувствительность предоставляет рассудку весь материал для его понятий, но не поясняет, что есть впечатления, исходящие от наших внутренних органов и жизненных функций, так же как и впечатления, приходящие извне; что есть воспоминания или восприятия прошлых впечатлений. Если границы и свойства чувствительности определены плохо или изложены неясно и расплывчато, то рассудок ещё хуже обойдён. Утверждают, что при этом упущена способность суждения, которая, между тем, является элементарной и коренной — способностью формировать понятия. Но это результат не какой-то одной способности, а нескольких различных. Разум же называется способностью заключать от общего к частному, что, если даже допустить существование такой способности, было бы противоположностью разуму: ведь всегда мы поднимаемся от частных идей к общим. Вся эта аналитика, таким образом, неполна и не может привести ни к какой прочной системе.
Разумеется, можно признать, что не было бы ни восприятия, ни познания, если бы не существовало существ, способных чувствовать, и объектов, способных быть воспринятыми; что восприятие и познание были бы иными, если бы сами эти существа были иными. Но нельзя утверждать, будто существует знание, происходящее от применения этих способностей к объектам. Говорят, что знание механизма мельницы — это не то же самое, что знание материала, подвергаемого помолу, и что оба знания необходимы для полного понимания того, что такое мука. Хорошо, допустим. Но в производстве муки участвуют два необходимых агента: мельница и зерно; одно поставляет материал, другое производит и определяет форму — но из этого не следует, что существует два рода муки. Мельница сама по себе не производит чистую муку, так же как зерно само по себе не даёт «опытной муки». Только их совместное действие даёт подлинную муку.
Объяснение чувствительности даёт нам лишь чёткое и точное применение принципов, истинность которых не была доказана. Пространство и время здесь представляются как формы, которыми наше познание будто бы наделяет явления, а не как свойства самих вещей; тогда как в действительности наше познание не облекает ни явления, ни вещи ни в какую форму, не навязывает законам ничего, но наблюдает вещи, отмечает явления, которые они проявляют, и распознаёт законы, которым те подчиняются. Вот к каким результатам приходят, когда опираются на абстрактные принципы, а не на факты, и когда полагают, будто общие идеи дают нам возможность судить о частных.
Точно так же говорят о законах или формах рассудка, к которым якобы должны относиться все возможные наши суждения; утверждают, что логически возможно предположить у души способность читать будущее, потому что, рассматривая формы суждений и силлогизмов как законы и свойства мышления, принимают кору за дерево, вводят человеческий разум в заблуждение и откладывают тот момент, когда он узнает собственные подлинные способы действия.
Наконец, неясность становится ещё большей, когда речь заходит о разуме, когда начинают говорить об идее всеобщности, возведённой в закон и универсальный закон человеческого разума, когда упоминают некоего чистого разума, который черпает из самого себя концепции и принципы, независимые от чувствительности и рассудка. Разве не очевидно, что ничто не врождённо в нас, кроме самих средств познания, и что именно незнание того, как формируются наши общие идеи, заставляет верить, будто они изначально присутствуют в нашем разуме, будто они врождённые образцы, так же как классификации, которые мы на их основе создаём, ошибочно принимаются за законы, управляющие их возникновением? И каким образом можно логически доказать, что три науки, из которых составляется метафизика, — невозможны и иллюзорны, и одновременно утверждать, что чистые идеи о душе, о мире и о Боге якобы необходимы нашему разуму для того, чтобы он мог исполнить своё предназначение?
Можно только радоваться, глядя на всё это, что мы всегда утверждали: идеология — это вещь совершенно отличная от метафизики. Греки были врачами, поэтами, ораторами, художниками, математиками, но они не были идеологами; и всем известно, насколько они были метафизиками. Аристотель, один из величайших умов, когда-либо прославлявших человеческий род, не имел в своём распоряжении достаточно наблюдённых фактов, чтобы заняться интеллектуальной историей человека. Он полагал, что формы рассуждения, являясь следствиями интеллектуальных операций, в то же время являются и их причинами; подлинная наука о мышлении, быть может, готовая уже к рождению, была тогда же и задушена в зародыше. Когда Бэкон почувствовал и провозгласил, что необходимо заново перестроить человеческий разум, он не смог добиться этого, несмотря на весь свой гений. Декарт и Мальбранш приложили к созданию науки о человеческом разуме возвышенные усилия, но часто тщетные — потому что хотели построить целую систему, тогда как могли бы лишь заложить её основания. Немецкие философы находятся в том же положении. Сохраняя следы, привычки и предрассудки той старой школьной доктрины, в которой они были воспитаны, они всё же чувствуют, что нужно изучать человеческий разум в его операциях. Но они не знают наблюдений, сделанных во Франции; они никогда не принимают во внимание ни наших органов, ни языковых знаков, ни методов вычисления, и представляют себе человеческий разум как некое абстрактное существо; они больше предполагают, чем наблюдают, и, не зная, как формируются наши идеи, полагают, что наиболее общие из них являются источником и началом всего. Они даже не знают Кондильяка, поскольку никогда не ссылаются на последнее издание его сочинений. Они почти не изучали ничего, кроме Трактата об ощущениях — сборника догадок, который было бы большой ошибкой считать сегодня образцом. Они не обращаются ни к первой части Грамматики, ни к Искусству мыслить, ни к Логике, ни к Языку вычислений, где человеческий дух сталкивается с инструментами, которые он сам себе создаёт или которыми пользуется, и с предметами, к которым он их применяет; ни к Трактату о системах — шедевру, где они были бы заранее полностью опровергнуты. Никогда нельзя быть идеологом, не будучи физиологом, а значит — физиком и химиком; не будучи одновременно грамматиком, алгебраистом и философом. Только во Франции мы близки к тому, чтобы в теории постичь, полностью и ясно, в чём и почему человек бывает прав или неправ; только здесь видно наибольшее внимание к методологии в книгах и преподавании, наибольшую ясность стиля, надёжность в исследованиях; и именно здесь в последнее время с наибольшим успехом велась работа по совершенствованию идеологической теории, основания которой были заложены Бэконом, Гоббсом, Локком и Ньютоном.
Таким образом, в этом Мемуаре Дестют де Траси энергично защищал философию и научный метод; он противопоставлял доктринам Канта собственные положения, не упуская случая указать в ряде мест на слабые стороны противоположной системы. Он делал для эмпирической школы, с таким же талантом, пусть и не с таким успехом — тоже самое, что в наши дни сделал Стюарт Милль в своей Философии Гамильтона.
Именно в тот момент, когда Дестют де Траси читал свою работу о Канте, он находил в процессе рассмотрения Мемуаров, присланных в Институт в ответ на вопрос о влиянии привычки, новые основания провозглашать превосходство французской философии. В труде Бирана, получившем единодушное одобрение, Дестют де Траси особо выделял, за её ясность, главу о чувствах; а за очень хорошие наблюдения — ту, что касалась суеверных идей; за блестящие разработки — главу, в которой рассматривались опасности, порождаемые неточностью человеческого разума и его склонностью к заблуждению, а также способы, как себя от этого обезопасить. Если последняя глава, говорил он, является самой удовлетворительной и самой ясной во всём сочинении, то потому, что автор правильно ухватил суть своей темы и хорошо выбрал отправную точку.
«Чтобы быть идеологом, — говорил Дестют де Траси, завершая свой Мемуар о Канте, — нужно быть философом-грамматиком; а чтобы соответствовать этому последнему условию, необходимо знать несколько языков». В начале своей Грамматики, он добавлял, что это обширнейшая наука, и что пришлось бы заняться поистине пугающими исследованиями, если бы кто-то захотел не упустить ни одной грамматической истины. Каким же исследованиям он себя посвятил, чтобы составить свой труд? Он знал латинский и греческий языки, возможно — английский и итальянский, но не знал немецкого. Он изучал французские грамматики Кондильяка, Жирара, Девьенна; итальянские — Кортичелли и Бенчирекки; немецкие — Готшеда и Юнкера; английские — Сире и Мазер-Флинта; труды авторов из Порт-Рояля, восхищение которыми никогда не будет чрезмерным, и которые провозглашали, что знание того, что происходит в нашем уме, необходимо для понимания основ грамматики; работы Дюмарсе, первого из грамматиков; Бозюэ, Уорбёртона и Кайлюса, Дюкло и Кур де Жеблена, аббата д’Оливе, Хорна Тука, который привёл к надлежащей мере заслуги своего соотечественника Харриса, когда-то столь превозносившегося; а также замечательные примечания Тюро к его переводу Харриса — это настоящие диссертации, часто ценные и всегда значительно превосходящие сам текст. Он изучал Путешествие в Сирию и сочинение об упрощении восточных языков отличного наблюдателя Вольнея. У всех этих авторов он искал сведения о шведском, еврейском и восточных языках, о баскском и перуанском, об иероглифике и китайском языке; но, похоже, он не знал замечательного труда президента де Бросса О механическом образовании языков. Наконец, человек большого ума — возможно, его коллега Ларомигьер — сказал ему справедливо, что «никогда нельзя как следует понять вещь, если не видишь, как она могла быть сделана» — замечание, основанное на глубоком понимании наших умственных операций, которое побудило его (де Траси) придать наивысшую важность полному прояснению происхождения языка и письма.
Рибо, говоря о Генеральной грамматике Джеймса Милля, замечает, что развёрнутая экспозиция доктрин, которые к моменту написания уже во многом устарели, была бы излишней; что в XVII веке язык рассматривали с точки зрения логики, а не психологии; и что подобные объяснения, в лучшем случае, применимы лишь к семье арийских языков. Этого нельзя сказать в полной мере о грамматике Дестюта де Траси, поскольку он изучил больше материалов и избрал более всеобъемлющий метод. Однако очевидно, что значительный прогресс сравнительной филологии обязывает нас говорить об этом труде лишь настолько, насколько это необходимо для того, чтобы показать: в области грамматики, как и в психологии, Дестют де Траси был новатором — и часто удачливым, — а французская философия поступила бы разумно, если бы продолжила на этом пути (как и на многих других) традицию идеологов, пусть даже с её уточнением и дополнением за счёт открытий филологов и физиологов.
В предисловии автор, хотя и признаёт заслуги древних, а также Пор-Рояля, Дюмарсе и Кондильяка, высказывается о них гораздо строже, чем Кабанис: все они построили теорию знаков, не определив предварительно теории идей. К свободомыслию древних, считает он, нужно, для подлинного прогресса в познании человека, добавить научность и сдержанность новых времён: таков характер французской эпохи, который даёт основания ожидать развитие разума и рост счастья, которые невозможно судить по примерам прежних веков. Поэтому Дестют де Траси, которого не поколебали ни упразднение Второго отделения Института, ни закрытие центральных школ, как и Кабанис, отстаивает мысль о том, что аналитический дух отнюдь не является признаком упадка и истощения гения. Он, кроме того, подчёркивает, что анализ считается завершённым лишь тогда, когда удаются обе операции — разложение и воссоздание, из которых одна составляет основание, а другая доказательство. Наконец, он убеждён, что его грамматика имеет одно неоспоримое достоинство: она начинает с самого истока и естественным образом продолжает трактат по идеологии.
В своём происхождении язык располагает лишь теми знаками, которые представляют впечатления, составленные из нескольких восприятий, то есть целое суждение. Животные обладают только таким языком: каждый жест, каждый крик — это выражение двух ощущений, связанных актом, по своей природе аналогичным акту суждения. Это, как говорил Тюро, «точное, новое и прекрасное прозрение — различие в самой сущности способности к языку у человека и у животных». Сущность речи, или всякого выражения посредством знаков, заключается в том, что она состоит из предложений, то есть из высказываний-суждений. Первоначально суждение выражается одним-единственным знаком: таковы, до сих пор, междометия в нашей артикулированной речи. При разложении суждения первым элементом оказывается имя, выражающее идеи, обладающие самостоятельным существованием. Второй элемент, т.е. знак относительной или атрибутивной идеи — это не прилагательное, потому что идея, выражаемая им, действительно должна принадлежать какому-либо субъекту, но при этом не указана как такая, что принадлежит ему в настоящий момент. Только слово быть, существовать, которое выражает идею бытия само по себе, может передать её, будучи соединено с другими словами. Глаголы, будучи результатом соединения быть с другими действиями, образуют второй элемент речи.
К имени и глаголу — существенным формам предложения в любом типе языка — устные языки добавляют вспомогательные знаки. Междометие, при разложении, даёт имя и глагол — два элементарных знака, выявляемых при разложении предложения. На первом месте среди полезных знаков находятся прилагательные, которые изменяют идею — то в её объёме, то в её содержании. Сюда входят числительные, некоторые местоимения и артикли. Предлоги происходят от имён или прилагательных; они связывают имена, глаголы, прилагательные с подчинённой и дополняющей идеей. Превращаясь в окончания, они образуют в некоторых языках падежи имён; во всех языках (за исключением баскского и перуанского), — лица, числа, наклонения и времена глаголов; включённые в слова, они служат образованию сложных форм и производных от корней. Наречия выражают предлог и его дополнение; союзы — целое предложение, но без самостоятельного смысла. Все они содержат союз что (que), который можно было бы считать единственным союзом, так же как быть — единственным глаголом. Союзные прилагательные, обычно называемые относительными местоимениями, состоят из союза что (que) и определительного прилагательного le или il, чьи функции они совмещают.
Синтаксис, который учит, как соединять знаки, изучает их расположение (конструкция), некоторые изменения, которым они подвергаются (склонения), и изобретение особых знаков, предназначенных для обозначения взаимных связей между другими знаками (пунктуация). Конструкция является естественной, когда знак идеи, которая наиболее сильно нас затрагивает, предшествует всем остальным; прямой — когда знаки расположены так, чтобы воспроизводить последовательность идей при формировании суждения. Следовательно, обратная конструкция может быть естественной, оставаясь при этом глубоко отличной от прямой конструкции.
Спряжения входят в число склонений; у глаголов есть три наклонения: прилагательное, субстантивное и атрибутивное. Последнее включает в себя изъявительное наклонение, к которому нужно присоединить условное и сослагательное. Времена изъявительного и условного наклонений сводятся к двенадцати и образуют две серии: одна включает настоящее и пять прошедших времён; другая — будущее и пять прошедших. Первая серия относится к действительной (положительной) реальности, вторая — к возможной (гипотетической). Первые три времени каждой из серий — je suis, j’ai été или je fus, j’ai eu été или j’eus été и je serai, j’aurai été, j’aurai eu été — являются абсолютными, поскольку указывают лишь на их соотношение с моментом речи. Последние три — j’étais, j’avais été, j’avais eu été и je serais, j’aurais été, j’aurais eu été — являются относительными, потому что выражают, помимо отношения ко времени речи, ещё и отношение одновременности с другим бытием. Что касается сослагательного наклонения, то оно представляет собой косвенный падеж атрибутивного наклонения, в котором существование, подчинённое другому, не должно делиться на действительное и возможное: оно имеет лишь шесть времён, соответствующих двум вышеназванным сериям.
Как из преходящих и мимолётных знаков наших идей возникли постоянные и устойчивые знаки? Прикрепив к каждому слову устного языка изображённую или начерченную фигуру, получают иероглифическое или символическое письмо. Изображая звуки, из которых состоит каждое слово, получают слоговое или алфавитное письмо. В обоих случаях преходящие и мимолётные знаки заменяются знаками устойчивыми и постоянными. Но символическое письмо не способно передавать изменения устной речи и не может быть надёжно истолковано, когда само слово исчезло. Если существует восемьдесят тысяч знаков, из которых образованные китайцы знают едва ли более пятнадцати тысяч, то всё остальное — это неразрешимая живопись утраченных слов, исчезнувших в ходе языковых преобразований. Если у народов, использующих иероглифическое письмо, обнаруживаются знания, несовместимые с этой системой письма, которая ведёт к одурачиванию народных масс, к застою среди образованных, к отсутствию контактов с иностранцами, к утрате знаний и суеверному преклонению перед древностью и т. д., — то это потому, что такие знания были получены от другого народа, имя и страна которого всё ещё остаются неизвестными
Но чтобы знать, в чём состоит письмо, необходимо понимать, что такое речь. Наряду с голосовыми звуками, представленными гласными, и артикуляциями, выраженными согласными, Дестют де Траси выделяет три другие свойства звуков, о которых грамматики ничего не говорят: длительность, тон и тембр. Произнося гласную a, мы придаём ей определённую длительность, ощущаем звук как более или менее краткий, более или менее высокий, и различаем простую артикуляцию в слове amour, которая модифицируется очень заметной придыхательной нотой в слове hache. Если придыхание — это подлинная артикуляция, встречающаяся в любой гласной, то, напротив, в произношении согласной различается голос или schéva — настоящее немое e, ещё короче самых кратких гласных. Звук не может существовать без артикуляции, голоса, тона и длительности — так же как тело не может быть без формы, величины и тяжести. Тот, кто произносит a, дополняет его тоном, артикуляцией и длительностью; тот, кто произносит b, — голосом, длительностью и тоном. Поскольку грамматисты не восходили к первым природным фактам, они не поняли ни происхождения языка, ни происхождения письма. Учитывая предыдущий анализ, письмо легко объясняется через музыку. Сначала существуют лишь тоны в ограниченном числе, и каждому из них соответствует знак — нота, следы которых находят на очень древних памятниках. Затем стали записывать длительность звуков. Распевая знаки, к ним добавляют артикуляции и голос. Так же, как когда-то изобрели ноты, чтобы передать тон и длительность, были изобретены согласные и гласные, чтобы передать артикуляцию и голос; позднее были добавлены ударения, чтобы обозначить высоту и количество, то есть знаки, изначально применяемые исключительно к музыкальному звуку. Если действовать таким образом, то станет ясно: чтобы отдельно передать каждое из свойств звука и не оставить ничего на домыслы, потребуется: для артикуляций: двадцать согласных; для голосов: семнадцать гласных; для тонов: два ударения, обозначающие крайности — высокий и низкий, оставляя без знака средние; для длительности: цифры 1, 2, 3, 4, указывающие, насколько каждый звук длится дольше самых кратких, или schévas. С этими сорока тремя знаками можно было бы получить почти универсальный алфавит. Если бы какая-либо учёная организация продолжила эту работу, точно определив число артикуляций, голосов, тонов, длительностей и соответствующих им знаков; если бы она напечатала несколько хороших образцов текста — в прозе и стихах — с использованием такого алфавита, то правильное произношение и подлинная просодия были бы зафиксированы с максимально возможной точностью. Если бы таким же образом были напечатаны образцы текстов на иностранных языках, при необходимости добавив несколько новых знаков, то это дало бы нам действительно полный алфавит, орфографию, действительно достойную этого названия, и энциклопедический памятник современному состоянию речи и её точного воспроизведения.
Можно ли после универсального алфавита ввести по-настоящему универсальный язык? Так же, как и в 1798 году, Дестют де Траси не верит, что можно установить универсальный язык ни для обиходного, ни для научного использования — и даже в последнем случае он не считает это возможным без недостатков: ведь если бы такой язык и объединил учёных всех стран, он одновременно затруднил бы их общение с согражданами. Наконец, он также сомневается в возможности создания совершенного языка. Тем не менее он указывает на некоторые изменения, которым должны были бы подвергнуться современные языки, чтобы стать менее несовершенными — и было бы небезынтересно сопоставить эти предложения с теми, что выдвигались современными реформаторами. Он желал бы: чтобы слова были составлены в соответствии с истинной последовательностью идей; чтобы синтаксис был как можно более простым; чтобы конструкция была полной и прямой; чтобы существительные были без рода, а число обозначалось с помощью прилагательных, падежи — предлогами; чтобы прилагательные были неизменяемыми; чтобы был только один глагол — глагол «быть», с тремя наклонениями и двенадцатью временами в прилагательном наклонении; только одно настоящее время в субстантивном наклонении; одно настоящее в атрибутивном наклонении с шестью окончаниями, обозначающими три лица и два числа; союз que («что») как корень всех союзов, отделяемый от прилагательного в союзных прилагательных.
Мы уже видели, как Кабанис оценил новый труд своего друга. Тюро, посвятивший ему три статьи в Décade, был не менее восторженным. Он тоже считает это сочинение во многих отношениях превосходящим Идеологию. Все основные идеи, углублённые, упрощённые и сближённые между собой, представляются ему пригодными для того, чтобы ускорить и обеспечить поступательное движение человеческого разума на его бесконечном пути; подлинные и важные наблюдения, прежде неполные и разрозненные, касающиеся грамматики, теперь соединены, прояснены и подтверждены множеством новых наблюдений, связанных с простыми и плодотворными принципами, благодаря методу, применённому с наивысшей возможной проницательностью. И именно собственные идеи автора, по мнению Тюро, составляют безусловно самую оригинальную, самую интересную, самую полезную и самую значительную часть труда. Аналогично и Биран, хотя и полемизирует с теориями Идеологии, использует Грамматику как основание для своих размышлений и находит превосходным очерк о постоянных знаках наших идей: «Пусть же учёные из нашей Академии надписей (третьего отделения), — восклицает он, — ещё раз попробуют утверждать, что идеология ни на что не годна!»! Добавим, что в этом труде поднимаются многие вопросы, которые и по сей день волнуют филологов (пусть теперь у них в распоряжении несравненно более обширные материалы), а также психологов, опирающихся на физиологию, в которой уже далеко не всё погружено во тьму. Метод, избранный автором, хотя порой и чересчур гипотетический, временами приближается к подлинному научному и позитивному наблюдению. Ни один другой труд не был бы столь пригоден для того, чтобы привить грамматистам вкус к идеологии, а философам — вкус к таким полезным для познания человека исследованиям.

В том же году, когда вышла его Грамматика, Дестют де Траси сблизился с Бираном, который приехал в Париж для печати своего Мемуара. Весной 1804 года он пишет Форьелю, что «картина человеческих безумств», с таким самодовольством нарисованная Дежерандо, вновь пробуждает у него желание заняться этими размышлениями: «Я всё больше убеждаюсь, — добавляет он, — что тот, кто знает три или четыре [размышления], знает уже тысячу». В конце того же года он выпускает новое издание Идеологии. Не следует понимать буквально его утверждение в Предуведомлении, что он лишь перепечатал первое издание. Он сам заботливо уточняет, что включил в него примечания и пояснения, которые покажутся важными тем, кто углублённо изучает предмет. Тюро, представивший книгу читателям Décade, отметил удачные усовершенствования и полную переработку главы VII, посвящённой вопросу об экзистенции (существования).
Дестют де Траси ещё нисколько не утратил уверенности; он совершенно спокоен относительно прочности своих принципов. Существование секции анализа в Национальном институте и кафедры общей грамматики, хотя она просуществовала очень недолго, кажется ему явлением, давшим уму «поразительный импульс, который не прекратится». В августе 1804 года он писал Бирану: «Сейчас делаются прекрасные вещи по общей объяснительной грамматике и сравнительной грамматике. Священный огонь не угасает; у меня есть мысль, что через некоторое время это всех удивит; в этом уж точно не будет вины некоторых людей». А в декабре он высказывается ещё яснее. Если он находит немного полезного для себя в сочинении Прево о знаках и если Précis d’Idéologie де ла Буллиньера заставляет его сказать, что автор лучше своей книги, он всё же заявляет, «что в Анже ведётся хороший курс нашей науки, и другой в Безансоне, что Андриё начинает его в Политехнической школе, что священный огонь живёт всегда».
Уже в начале XIII года Дестют де Траси сообщает Бирану, что только что закончил свою Логику: «Я обошёл, — говорил он, — весь мой маленький круг; он замкнулся совершенно точно, безо всякого преднамеренного расчёта, что свидетельствует о том, что он был вычерчен правильно». Посвящение Кабанису, датированное 1 флореаля (май 1805), на два месяца позже письма, в котором Кабанис сообщает Бирану, что третье отделение только что увенчало его Мемуар о разложении мысли, а Ларомигьер опубликовал свои Парадоксы Кондильяка.
Логика насчитывает шестьсот семьдесят страниц и включает Предварительное рассуждение (140 страниц), девять глав (с 140 по 522 страницу), Продуманную выдержку (с 522 по 561), наконец Приложение (с 561 по 567), где находятся Краткое изложение «Instauratio magna» и перевод Логики Гоббса.
«Предварительная речь» заслуживает внимания по многим причинам. Чтобы доказать, что логика является наукой чисто спекулятивной, а не искусством рассуждения, как это принято говорить, Дестют де Траси пишет историю логики, где, оставаясь строгим в своих оценках, стремится беспристрастно изложить доктрины своих предшественников. Аристотелева логика, по его мнению, имеет основной недостаток: она не объясняет ни действия интеллектуальных способностей в формировании идей, ни порождение их знаков, ни эффекты и способы использования этих знаков; она плоха как искусство и не является наукой о истине и достоверности — наоборот, она заставила считать их излишними и вредными. Однако, замечает он, стоит прочесть французский перевод Органона, сделанный Ф. Канэем в 1589 году. Было бы полезно, чтобы существовал распространённый, часто используемый французский перевод Логики Аристотеля, и Дестют де Траси даёт полезные советы тому, кто бы решился сделать такой перевод хорошим и понятным. Сам он тщательно изучил Категории, О толковании, Первыe и Вторые аналитики, Топику и Софистические опровержения. Французские идеологи, «вовсе не являются неистовыми новаторами, не отступили от школы Аристотеля, и не пытаются вопреки его намерению заняться тем, что великий учитель называл бесполезным или невозможным. Напротив, они его продолжатели, его ученики и, можно сказать, исполнители его духовного завещания». Также Дестют де Траси с вниманием анализирует Бэкона, и в ряде случаев толкует его совсем не так, как Лассаль. Если Бэкон и был великим человеком, обладал выдающимся умом, обширными познаниями и замечательным даром, то все же первая часть его сочинения (О предвидении наук) плоха, потому что основана на ложном анализе наших интеллектуальных операций; вторая (Novum Organum) — ещё более несовершенна; третья (Естественная и экспериментальная история, призванная стать основой философии) это всего лишь попытка, предпринятая в неверном направлении; четвёртая (Лестница разума) состоит из шести отрывков, тем лучших, чем меньше они следуют предписанному методу. О пятой части (Предварительные знания второй философии) до нас дошло только предисловие, а шестая (Вторая философия) даже не начата. Более того, Дестют де Траси полагает, что Декарт, не зная Бэкона, написал то же самое, но с меньшим пафосом и показной пышностью, зато яснее. О Гоббсе, чью Логику он переводит и настоятельно рекомендует читать внимательно, он отмечает — помимо анализа формирования идей, слов как знаков или отметин наших идей, и восприятия — следующее утверждение, которое само по себе должно бы закрепить за Гоббсом репутацию основателя идеологии и обновителя моральных наук: «Принципы политики происходят из познания движений души, а познание движений души — из науки об ощущениях и идеях». Мессии из Пор-Рояля относятся к Декарту так же, как Гоббс — к Бэкону: в их Логике и Общей грамматике содержится зачаточная теория идей и улучшенная теория знаков; они подготовили почву для Локка, чей Опыт исследования человеческого разума есть первый трактат по логической науке. Если Кондильяк более подробно и добросовестно исследовал ход мыслительной деятельности человека в Опыте о происхождении человеческих знаний, если он разработал тему до конца в Трактате об ощущениях и Трактате о животных, — его метод, с полным основанием высоко оцениваемый, на самом деле есть лишь метод Бэкона и Декарта; его идеологическая и логическая доктрина, к сожалению, так и не была собрана в одном сочинении и не была сведена в одну стройную систему взаимосвязанных идей. Он совершил большую ошибку, не обратив должного внимания на идеи П. Бюффье, заслужившего похвалу Вольтера и указавшего, что имя всегда является подлежащим в предложении, глагол — его подлинным сказуемым, а все остальные элементы — лишь модификаторы имени и глагола; что подлежащее содержит в себе сказуемое и что цепь предложений может быть логически связной только в той мере и потому, что каждое сказуемое последовательно включает в себя то, что следует за ним.
«Наученные усилиями наших предшественников, — говорит Дестют де Траси, который сделал для логики и рациональной идеологии то же, что Кабанис сделал для физиологической идеологии, — мы знаем, что чувствовать значит целиком существовать; что суждение это всего лишь выделение какого-либо обстоятельства из предшествующего восприятия. Но что же это за наука, логика? Это исключительно метафизика; но не старая метафизика, которая по отношению к новой то же самое, что астрология — к астрономии, алхимия — к химии. Истинная метафизика, или теория логики, есть наука о формировании наших идей, об их выражении, их сочетании и их выведении. Сначала она была неизвестна, затем отвергнута, и, наконец, преследуема, когда она с блеском появилась в рядах Национального института и на кафедрах публичных школ, однако она всё же сделала шаг вперёд. Необходимо завершить её усовершенствование. До Кондильяка правильность рассуждения объясняли тем, что в общих суждениях содержатся частные; называли предикат «большим термином», а субъект «малым термином», при этом утверждая, что оба они равны среднему термину. Для Кондильяка суждения — это уравнения, рассуждения — это последовательности уравнений, а идеи, сравниваемые в суждении и рассуждении, тождественны. Но в суждении субъект включает в себя предикат; в последовательности суждений каждый предикат включает в себя следующий, подобно тем коробочкам, в одной из которых находится другая, меньшая, а в той ещё одна, и так до самой последней. Или ещё лучше — как это бывает с трубками подзорной трубы, которые, будучи вложены одна в другую, при поочерёдном вытягивании из внешней продолжают её и удлиняют тем самым трубу: каждый раз, когда вы выносите новое суждение, замечая, что одна идея содержит в себе другую, прежде не замеченную, — эта последняя становится новым элементом, который добавляется к тем, что уже составляли первую, и увеличивает их число».
Существуют ли истина и ошибка, или, иначе говоря, почему и каким образом мы уверены в чём-либо? Дестют де Траси решает этот вопрос как продолжатель Декарта. Природа суждений объясняет правильность рассуждений, а природа идей — правильность самих суждений. Первый факт, в котором мы уверены, — это наше чувство, аффекция или знание; поскольку чувствовать для нас, это то же самое, что существовать и мыслить, то первое суждение, которое мы можем вынести с уверенностью, это то, что мы уверены в том, что чувствуем. Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, существую». Он мог бы сказать: мыслить и существовать для меня — одно и то же, и я знаю с уверенностью, что существую и мыслю, в силу самого акта мышления, который я сейчас осуществляю. Благодаря этой возвышенной мысли он вновь поместил всё человеческое знание на его подлинное основание, на его исходную и фундаментальную базу; ведь даже самый убеждённый скептик не может сомневаться в том, что он существует, воспринимая самого себя сомневающимся, — а это и есть уверенность в своём существовании и в каждом из его модусов.
Но откуда берётся ошибка? Вспомним различия, установленные в Идеологии. Чистые ощущения или простые идеи не подвержены никакой ошибке; однако они перестают быть чистыми и становятся составными идеями, как только мы прибавляем к ним мысль о том, что они происходят от иного существа. Что касается индивидуальных и частных идей, а также обобщённых или абстрагированных представлений о существах, их качествах и модусах, — они составлены посредством суждений. Хотя мы и уверены, что воспринимаем их так, как они нам даны, мы не уверены в точности суждений, с помощью которых они были составлены. Воспоминания, будучи достоверными как актуальные восприятия, могут быть ложными, если мы судим, что они являются верным отражением предыдущего восприятия; таким образом, идеи существ и их модусов при каждом своём возрождении приобретают или теряют ряд элементов; точно так же и суждения, и ощущения, и желания воспроизводятся в памяти лишь весьма несовершенно. Причина всех наших заблуждений заключена исключительно в суждениях; и тем не менее, как актуальные восприятия, суждения столь же достоверны, как и все прочие. Наши желания, реальны постольку, поскольку мы их ощущаем, становятся ошибочными в силу суждений, лежащих в их основе или вмешивающихся в них. Следовательно, все актуальные восприятия достоверны и допускают ошибку лишь в силу своей связи с прошлыми восприятиями; именно в несовершенстве нашей памяти коренится причина всех ошибок. Уверенные в том, что мы ощущаем, мы не всегда уверены в связи между тем, что ощущаем сейчас, и тем, что ощущали прежде.
Набросаем гипотетическую схему последовательного возникновения наших идей. Если достоверность актуальных восприятий и недостоверность связи этих восприятий с восприятиями прошлыми объясняет все факты, мы заключим, что именно они и являются двумя причинами [всех заблуждений], — так же как мы верим в существование первоначального толчка и постоянного притяжения, объясняющих все небесные движения. Я начинаю жить — я это чувствую; здесь не может быть ошибки. Я ощущаю воспоминание об этом, и в этом втором восприятии тоже нет ошибки. Но я сужу, что это воспроизведение первого. С этого момента возникает возможность заблуждения, не потому, что само суждение ложно, а потому что идея, выступающая в роли субъекта, несовершенно представляет собой первое воспоминание. Я открываю в идее своего первого ощущения идею того, что оно приятно для переживания: я могу ошибиться, потому что моё первое воспоминание — это не точная копия первого ощущения, и я сужу о нём так, как не стал бы судить о самом ощущении. Но, считая это восприятие приятным, я желаю испытать его вновь; мои члены снова приходят в движение, затем ощущение исчезает, как и в первый раз. Воспоминание об этом ощущении вернётся ко мне, осложнённое множеством идей, которых не было при первом его возникновении; оно станет менее достоверным. Осложнение происходит даже тогда, когда я сужу о чувстве, пока оно ещё длится: отсюда возникают новые поводы к ошибке. Но вскоре я сужу, что ощущение прекратилось по воле существа, отличного от меня, хотя я хотел его продолжения. Я постигаю существование двух различных и отделённых существ: одно — желающее, другое — сопротивляющееся. Мои идеи проясняются, превращаясь все в идеи существ или модусов, а моё актуальное восприятие всё труднее связывается с предшествующими восприятиями. Я осознаю, что идеи это не только мои собственные модификации, но и следствия свойств независимых существ; я полагаю, что для того чтобы быть правильными, они должны соответствовать существованию этих существ, а не только быть связаны друг с другом. И всё же — ошибочно; потому что взаимосвязи между идеями оставались бы теми же самыми, даже если бы модификации происходили, без внешней причины, исключительно от нашей чувствующей способности. Но невозможно предположить, что одна и та же чувствующая способность одновременно хочет и сопротивляется: если существует даже только две таких способности, они не могут отрицать друг друга, и не могут отказать в существовании существам, которые повинуются одной и сопротивляются другой. Следовательно, необходимо признать реальное существование существ, являющихся причинами наших восприятий. Это, впрочем, не мешает тому, что наши восприятия остаются для нас всем; что они являются истинными, если хорошо связаны между собой, ибо, рождаясь друг из друга, последние не могут быть более ложными, чем первые, если мы видели в первых лишь то, что в них действительно есть; и, наконец, что они, в таком случае, соответствуют реальному существованию этих существ, так как первые восприятия, происходя непосредственно от существ, их вызывающих, составляют для нас их существование, а все прочие — лишь их развертывания и следствия. Но наши идеи становятся всё более сложными, и точное воспроизведение воспоминаний становится труднее. Эта трудность ещё возрастает вследствие превращения идей в обобщённые или абстрактные, использования знаков, связи идей и частого повторения одних и тех же интеллектуальных актов. Она увеличивается по мере расширения, количества и утончённости наших идей, и образует достаточную причину всех наших ошибок. Она объясняет также эффекты, возникающие из различных состояний наших организмов, ибо привычное чувство жизнедеятельности изменяет идеи в зависимости от времени и изменяет суждения, искажая воспоминания. Она объясняет также искажения, возникающие в наших суждениях в силу различий темпераментов, полов, возрастов, состояния здоровья и болезней, а также различных недугов. Отсюда следует, что для того, чтобы иметь ясный ум и здравое суждение, необходимо обладать либо малой подвижностью натуры, либо силой рефлексии, которая позволяет точно отделять от идеи, о которой мы судим, посторонние ей впечатления. Кроме того, поскольку наши первые и простые восприятия достоверны, немногочисленны, одинаковы для всех в своих взаимосвязях и составляют все прочие идеи, которые остаются верными, если мы в первых восприятиях усмотрели только то, что действительно в них есть, — существует, для всего рода, некая всеобщая причина, некий общий и универсальный смысл.
Итак, мы рассуждаем с помощью слов, на основе уже сформированных идей, суждений и воспоминаний: чтобы хорошо рассуждать, формы не имеют значения; но необходимо описывать идею, если её понимание, а следовательно и значение её знака, становятся смутными и неясными, то есть нужно внимательно рассматривать лишь то, о чём идёт речь, и точно это представлять. Таким образом, первые две части старых логик оказываются расширенными, третья — уничтоженной, четвёртая даёт лишь неполный принцип. Тем не менее логики были искусны и полезны. Бесполезными всегда оставались лишь метафизики, которые отваживались догматизировать по поводу самых сложных абстракций и по поводу природы мыслящего существа, которого они не знали, не изучая ни происхождения наших идей, ни наших интеллектуальных операций. И мало найдётся логиков, идеологов, философствующих грамматистов, которые не могли бы упрекнуть себя в том, что порой были метафизиками.
Мы указали на место, где Дестют де Траси, по-видимому, критикует Ларомигьера и его теорию внимания; двенадцатая глава «Логики», где он утверждает, что его труд завершён, но тем не менее, хотя и довольно неохотно, старается найти новые доводы, которых якобы ещё недоставало для обоснования его принципов, — выглядит как ответ на Парадоксы. Последняя глава представляет собой резюме трёх частей, составляющих логическую науку, и программу того, что должно следовать далее. Начало напоминает первые страницы Рассуждения о методе, которым оно уступает лишь потому, что написано в 1805 году, а не в 1637. Траси, пришедший к идеологии через науки, никогда не помышлял о том, чтобы отделить одно от другого; он попытался, вслед за Д’Аламбером и до Ог. Конта, предложить классификацию и иерархию наук, в которой есть немало достойного; наконец, он сослался, чтобы оправдать свои идеологические исследования, на те же доводы, которые ныне приводят те, кто хочет отстоять против Ог. Конта легитимность метафизики. Ничто лучше не способно показать с наилучшей стороны философа, которого в нашей стране слишком недооценивают.
Все науки, даже те, что наиболее точны в своём ходе и наилучшим образом упорядочены в целом, казались ему оставляющими позади себя множество неизвестных, скрытых за их первыми принципами. Наука об абстрактных количествах не объясняет ни того, как мы формируем идею числа, ни того, как мы приходим к абстрактным идеям; геометрия не учит ни тому, как мы познаём протяжённость, ни в чём состоит это свойство, ни почему именно оно даёт повод для особой науки, которая влияет на все прочие. Физика, позитивная наука о свойствах существ, воспринимаемых нашими чувствами, и о законах, которыми они управляются, не объясняет, как эти свойства вытекают и происходят друг из друга, как они для нас зависят от наших познавательных способностей, как они связаны с протяжённостью, каковы их отношения со временем и количеством. Естественная история не объясняет ни в чём состоит существование существ, ни что оно собой представляет относительно их и нас; ни каковы интеллектуальные последствия чувствительности у различных видов, и в особенности — у нашего.
Как и эти общие науки, специальные науки, ещё менее надёжные в своих методах и более несогласованные между собой, лишены первичных понятий, на которые им надлежало бы опираться. Политическая экономия не указывает ни происхождения, ни природы наших потребностей, ни прав, которые эти потребности нам дают, ни обязанностей, которые налагает на нас осуществление нашей способности действовать. Мораль — ещё менее методична, поскольку до сих пор спорят о её цели и её принципах. Законодательство, происходящее из морали и политической экономии, и включающее науку о правлении и науку о воспитании, тем более лишено прочного основания. Логика, претендующая направлять как специальные, так и общие науки, была ограничена искусством выводить следствия и оставляет в стороне искусство полагать принципы. Грамматика плохо или почти не объясняет, как у нас появляются знаки для наших идей и каковы их преимущества и недостатки: она также лишена основополагающих принципов.
«Великолепное здание наших знаний, — говорит Дестют де Траси, — которое сперва представилось мне столь внушительным фасадом, таким образом оказалось лишённым основания и покоилось на вечно зыбучем песке».
«Эта печальная истина, которая проникла меня скорбью и тревогой, доказала мне, что великое обновление, столь часто провозглашённое и, как считалось, осуществлённое Бэконом, имело место лишь на поверхности; что все науки действительно избрали более упорядоченное и более разумное направление, начиная от определённых данных или условно принятых исходных точек; но что все они нуждаются в начале, которого нигде не оказалось. Именно эту потребность пытались удовлетворить с помощью первофилософии; но первофилософия — это не позитивная и чётко выраженная наука, высказывающая догматы о каком-либо особом роде существ или о последствиях их существования и их взаимных связей; она должна состоять в изучении наших средств познания. Возделываемая ранее людьми высокого ума, она уже достигла значительного прогресса; но всё ещё обозначалась сложным названием «анализ ощущений и идей» и не отождествлялась с научной частью логики, тем более — с первофилософией. Когда я предлагал, — добавляет Дестют де Траси, который позволяет нам присутствовать при становлении своей мысли, — назвать её идеологией, словом, которое было лишь сокращённым переводом выражения, которым её обозначали, это показалось попыткой придать ей новый характер; я и сам тогда не предвидел, куда приведёт меня это исследование. Поставленный, как у Бэкона, лицом к лицу с объектом, подлежащим изучению, я отбросил всё, что другие в нём видели или думали видеть до меня; я рассмотрел — без предварительных предубеждений, без заранее принятой позиции — всю совокупность моих идей и вскоре различил в их составе постоянное повторение небольшого числа интеллектуальных операций, всегда одних и тех же, которые суть лишь разновидности акта ощущения».
Д. де Траси затем напоминает основные идеи своей Идеологии — четыре элементарные операции: чувствовать, вспоминать, рассуждать и хотеть; существование сведено к способности ощущать; ощущение движения — единственное, что может дать нам знание о существовании других существ. «Недостаточно, — говорит он с уверенностью человека, убеждённого в обладании истиной, — уделили внимания этим фундаментальным основам моего труда и всей философии; были встречены с благожелательностью, а порой и с одобрением, отдельные части, которые могут обладать действительной ценностью лишь постольку, поскольку они опираются на эти предварительные положения. Я полагаю, что достаточно точно почерпнул их из природы, полностью освободив от всякого гипотетического мнения, от всякого произвольного принципа, эти первые данные, на которых покоится всё моё произведение. Их следует изучать, обсуждать и утверждать как можно тщательнее, если мы действительно хотим, чтобы наши знания были основаны на прочном и незыблемом фундаменте. Я сознаю, что в этом утверждении звучит оттенок притязания — утверждать, что сказанное мной заслуживает изучения; но я прошу этой милости не для себя, а для предмета, который я рассмотрел в одиннадцати первых главах: в них заключена вся истина истории нашего разума».
Затем, подводя итог Идеологии, Грамматике и Логике, Траси добавляет — скорее как картезианец, чем как натуралист: «Заблудиться, следуя по пути, которым я шёл, весьма трудно. Я изучал с пером в руке; я не знал этой науки, когда начал её писать, ибо она не существовала нигде; у меня не было никакой предвзятости; я не знал, куда приду; я наблюдал наш разум без предубеждений и записывал то, что видел, не зная, к чему это приведёт. Я возвращался назад всякий раз, когда видел, что пришёл к абсурду; я переделывал по пять раз отдельные части своей Логики; я всегда находил место, где сбился с пути, то есть где я неправильно воспринял исходные факты; наконец, без допущений, без противоречий, без лакун я пришёл к результату, которого я ни не предвидел, ни не желал. Он правдоподобен, он даёт объяснение всем феноменам — невозможно не обрести в нём полного и всецелого доверия».
Насколько же — и справедливо — мы сегодня более недоверчивы! Противники идеологов, оспаривая их утверждения, показали нам, что эти вопросы не столь просты, как тогда казалось, и позволили нам формулировать, пусть и не решать, во всей их почти бесконечной сложности те проблемы, которые идеологи считали окончательно разрешёнными. И эта услуга, оказанная нам таким образом, отнюдь не мала, если признать, что знание своей собственной неосведомлённости абсолютно необходимо для каждого, кто хочет заниматься наукой о человеке и о вселенной.
После того, что он уже сделал, Дестют де Траси говорит о том, что ещё предстоит осуществить. История нашего разума, рассмотренная в аспекте его познавательных средств, должна быть дополнена изучением воли и её последствий, то есть исследованием различных способов, которыми мы распоряжаемся своими силами, а также тех средств, при помощи которых мы правильно судим о чувствах и страстях, побуждающих нас к действию. Из этого можно было бы вывести принципы искусства правильного управления ими. Экономика, мораль, законодательство предоставили бы подлинные элементы всех разделов моральных и политических наук, и таким образом завершилась бы история интеллектуальных способностей человека. Затем человека следовало бы рассматривать в момент, когда он применяет свои познавательные средства к изучению других существ, — наблюдать, как он открывает их существование и свойства: так были бы найдены элементы всех наших физических или абстрактных наук — физики, геометрии и исчисления. Сначала показали бы, как, благодаря реакции нашей чувствующей способности на мышечную систему, мы узнаём о существовании тел и об их различных свойствах; отсюда бы возникли классификации и описания естественной истории, наблюдения и сочетания физики. Затем следовало бы изучать протяжённость в её конкретном и позитивном виде; установить, что она представляет собой лишь отношение к движению наших членов и почему вследствие этого она столь исключительно поддаётся измерению и вычислению. Тогда можно было бы углубиться в эту науку с уверенностью, что всегда удастся выйти обратно на свет, когда это потребуется. Наконец, перешли бы к количеству — свойству ещё более общему, чем протяжённость, и к самой абстрактной идее после идеи существования. Стало бы ясно, что наука о количестве полностью покоится на этом соглашении: каждый из различных чисел находится на равном расстоянии от предыдущего и последующего, и это расстояние всегда есть единица. Мы бы поняли, почему эта наука столь надёжна, почему она обладает столь многочисленными элементами и столь обширными возможностями комбинации; почему она применима ко всему, но к одним предметам — лучше, чем к другим. Мы бы узнали, что эта наука, несмотря на свои языки и частные формы, подчинена логике и всеобщей грамматике: перед нами открылась бы прекрасная прелюдия к науке исчисления.
Подлинные Элементы идеологии включали бы девять различных частей — идеологию, грамматику и логику; экономику, мораль и управление; физику, геометрию и исчисление — все одинаково необходимые, но образующие вместе ствол энциклопедического древа наших реальных знаний. К ним можно было бы прибавить в качестве приложения указание на ложные науки, которые уничтожает знание наших познавательных средств и их законного применения: «Человек тогда мог бы с полной уверенностью идти по любому пути, который он пожелает себе открыть».
Такова последняя часть Идеологии Дестюта де Траси, которая, по нашему мнению, является самой выдающейся.
Для второго издания Rapports («Отношений»), Дестют де Траси составил рассудительное извлечение, служащее аналитическим оглавлением. Читая его и сопоставляя с основным текстом, можно легко заметить различие в складах ума двух глав школы. Кабанис придаёт изложению широту, даже блеск; он возвращается к своим идеям, чтобы уточнить степень их вероятности, и заботится больше о том, чтобы придать каждой идее объём и выразительность, чем о том, чтобы связать её с предшествующей и последующей. Дестют де Траси, напротив, ясен и точен, употребляет только необходимые слова, но прочно связывает идеи между собой, устраняя полутона и придавая целому утвердительный тон и характер несомненности, которого у Кабаниса не найти. С Бираном Траси продолжает свои дискуссии. В 1805 году Биран приезжает в Париж и сближается с Ампером: оба часто обедают у Дестюта де Траси, где «спорят по вопросам метафизики». Траси в 1817 году отправляет Бирану напечатанное отдельно Приложение к Логике; в нём он напоминает выводы этого последнего труда, прежде чем применить к изучению нашей воли и её следствий свою теорию причин достоверности и ошибки. Четырнадцать афоризмов, сопровождаемых замечаниями и выводами, напоминают одновременно Бэкона, Декарта и Спинозу, но не содержат ничего нового в отношении его доктрины. Иное дело — заключение, в котором он утверждает, вопреки Д’Аламберу и Кондорсе, что наука о вероятности не является ни частью логики, ни даже её приложением. Скажут: она учит нас, оценивая вероятность мнения, правильно судить о том, вероятно оно или нет? Но ведь физика учит нас утверждать, что такое-то свойство присуще такому-то телу; наука о количестве — что такое-то число является результатом такого-то вычисления; однако ни та, ни другая не являются частями логики. Наука о вероятности ничем не привилегирована. Более того: это не наука, а множество фрагментов различных наук, которые невозможно объединить, не смешав всё в одно. Под этим названием, в самом деле, понимается как оценка данных, так и вычисление их сочетаний. Успех в оценке данных зависит, если речь идёт о вероятности какого-либо рассказа, от знания конкретных обстоятельств факта, то есть от истории; от физики — если речь идёт о вероятности физического явления; от социальной науки, морали, идеологии — если речь идёт о результатах обучения, о рассуждениях собрания. А сочетание данных относится к науке о количестве или к самому исчислению, ибо трудность заключается не в том, чтобы придать абстрактной единице ту или иную конкретную величину, ту одну, ту другую, а в том, чтобы знать все средства, которые даёт развитое исчисление, позволяющее из этой единицы и всех её кратных создавать наиболее сложные комбинации и регулярные связи, не теряя при этом нити. Следовательно, с любой точки зрения, наука о вероятности не является самостоятельной и обособленной наукой.
Посредством такого разложения «науки о вероятности» Дестют де Траси объясняет, почему именно математики первыми пришли к её идее, почему они выбрали для неё предметы с чрезвычайно простыми исходными данными — и почему, когда они попытались применить её к предметам со множеством, с тонкостью и сложностью данных, они в основном произвели лишь учёные пустяки. Чем дальше они продвигались в следовании следствиям, вытекающим из немногих данных, которые им удалось уловить, тем сильнее эти следствия оказывались отличными от тех, которые породили бы те же данные, соединённые со всеми другими — зачастую более важными — данными, которые они были вынуждены отбросить, поскольку не могли ни распознать их, ни оценить. Именно это произошло у Кондорсе в его рассуждениях о решениях собраний и о судебных приговорах.
Но не следует думать, что из-за этого нужно отказаться от великих надежд, которые Кондорсе возлагал на применение исчисления в целом, и теории вероятности в частности — к прогрессу моральных наук. Действительно, если невозможно выразить в числах все оттенки наших моральных представлений и все предметы, относящиеся к социальной науке, то эти предметы связаны с другими, которые часто позволяют свести их к количествам, поддающимся исчислению: так, например, степени ценности полезных или приятных вещей, которые могут быть представлены количествами веса или протяжённости одного и того же предмета, поддаются исчислению и сравнению. Точно так же мы можем, по их эффектам, вычислить силу и устойчивость скрытых пружин, вызывающих и поддерживающих действия жизненных органов. И существует бесчисленное множество вещей в моральных науках, которые предоставляют аналогичные возможности, и, следовательно, к которым исчисление применимо. Тем более необходимо с особым тщанием отличать их от тех вещей, которые таких возможностей не предоставляют, и в отношении которых применение исчисления является злоупотреблением, — а также от тех, которые настолько неразрывно усложнены с формами количеств, упрямо сопротивляющихся редукции, что неизбежно ведут нас к грубейшим ошибкам. Ибо в обоих случаях исчисление направляет нас хуже, чем здравый смысл, поддержанный достаточным вниманием, или чем обычные инструменты рассуждения — то есть наши обыденные языки, их формы и слова, из которых они состоят.
С этим небольшим трактатом, в котором мы находим столь оригинальные и до сих пор малоизвестные идеи о применении исчисления в моральных науках, мы сопоставим Логические принципы, или Сборник фактов, относящихся к человеческому разуму, который, по-видимому, был написан в то же время, но также был опубликован лишь в 1817 году. Дестют де Траси не добавляет в нём ничего принципиально нового по сравнению с идеями своих предыдущих трудов, но он с ещё большей определённостью подчёркивает своё строго научное направление. Он стремился наблюдать нашу чувствительность — то есть различные способы, посредством которых мы существуем по-разному, а также последствия, из неё вытекающие, — а не открывать существо, наделённое этой чувствительностью, его природу, его начало, его конец или его дальнейшее предназначение. Последние вопросы могут входить в состав метафизики и, как вполне справедливо замечает Дестют де Траси, не должны нас занимать в первую очередь; ибо чтобы познать причины чувствительности, нужно сначала познать саму чувствительность, то есть изучить её проявления, те эффекты, через которые она становится нам доступной. Ещё до Огюста Конта он утверждает, что идеология должна быть лишь частью и подотделом физиологии, которая, по сути, не должна даже носить особого названия, и которой отныне физиологи не смогут пренебрегать. Но это утверждение он обосновывает иначе, чем Конт: когда физиологи пренебрегают этим аспектом, — говорит он, — они делают все свои остальные объяснения неполными, как это наглядно демонстрирует замечательное произведение, в котором Кабанис действительно заложил подлинные основания всех наших физических и медицинских знаний.
— IV —
Комментарий к Монтескьё; суждения о политической и религиозной ситуации; «Трактат о воле и ее действиях»; Методология; идеология, экономика, мораль и законодательство; обрабатывающая производственная и торговая индустрия
Именно сочинению Комментария к Монтескьё Дестют де Траси посвятил 1806 и 1807 годы. Он хотел поразмышлять над каждой из великих тем, затронутых Монтескьё, чтобы сформировать по ним собственное мнение, прояснить его для себя и зафиксировать в письменной форме. Но вскоре он понял, что собрание этих размышлений образует собой полноценный трактат по политике, или, иначе говоря, по социальной науке — трактат, который был бы ценен, если бы каждое из высказанных суждений оказалось верным и если бы все они были хорошо взаимосвязаны. Однако, если бы он расположил их в ином порядке, к чему он и был склонен, учитывая огромное преимущество, которое давали ему знания, накопленные за пятьдесят поразительных лет, отделяющих его труд от труда Монтескьё, он уже не смог бы вести дискуссию с мнениями последнего и имел бы меньше шансов добиться того, чтобы его собственные взгляды были приняты и рассмотрены. Кроме того, такая форма изложения лучше соответствует порядку, которому должны следовать науки: каждое произведение должно исходить из наилучших взглядов, признанных его современниками, чтобы добавить к ним новую ступень точности; каждый автор, следуя строго, как того требует Кондильяк, от известного — к неизвестному, будет тем самым эффективно способствовать прогрессу социальной науки — науки, наиболее важной для человеческого счастья и той, которую совершенствуют в последнюю очередь, ибо она есть результат и продукт всех остальных.
Монтескьё обращался к разуму, просвещённому историей, чтобы определить наилучшие законы и наилучшие формы правления; Дестют де Траси же, прежде всего, апеллирует к разуму, опирающемуся на идеологию. Поэтому он находит в высшей степени ценными примечания и письма Гельвеция к Монтескьё и к Сорену относительно книги О духе законов; он неоднократно ссылается на это свидетельство. Ему также приходит на помощь Кондорсе, «величайший философ нашего времени»: не будучи столь суров и не отказываясь оспаривать взгляды Монтескьё, как и не соглашаясь во всём с Гельвецием, он подчёркивает «диалектическую силу», с которой последний опровергает О духе законов, и приводит эту критику, «которая никогда не публиковалась и, вероятно, и не предназначалась для публикации». Траси — не восхваляет эрудицию Монтескьё и не присоединяться к тем, кто упрекает его в том, что он не понял духа законов древних времён: он вовсе не останавливается на чисто исторических главах. Вопрос о распределении общественных сил, по его мнению, должен рассматриваться не исторически, а теоретически. Минье и Тэн упрекали Дестюта де Траси за то, что он пренебрег историей, которая могла бы дать ему ценные указания как для социальной науки, так и для идеологии; однако у нас сложилось бы ложное представление о его методе, если бы мы буквально приняли утверждения Тэна.
Действительно, главное, что Дестют де Траси упрекает в О духе законов Монтескьё, — это то, что тот ссылался на сомнительные анекдоты и недостоверные истории, что он поверил в то, будто в Лакедемоне законы позволяли кражу, будто мы располагаем достаточной информацией о Радамантe, чтобы хвалить его за способ, каким он вершил суд; что он искал — у самых ненадёжных авторов или в наименее известных странах — большое количество фактов, либо мелких, либо сомнительных, либо плохо засвидетельствованных, чтобы использовать их в качестве доказательств своих принципов или рассуждений; что он постановил, «вопреки прямому мнению Цицерона», что бывают случаи, когда можно издавать закон, направленный против одного единственного человека.
Разумеется, Дестют де Траси сомневается в своих социальных доктринах не более, чем в своих идеологических теориях. Он, безусловно, упрекает прежних экономистов в том, что они были слишком метафизичны и недостаточно наблюдали природу человека; он критикует даже Смита, хотя и высказывает в его адрес величайшую похвалу, а также Сэя, «автора лучшей книги по политической экономии, которая когда-либо была написана»; он льстит себе, что оказался яснее и полнее своих предшественников. Но и в этой области, как и в других, не следует принимать его за чистого утописта: смертная казнь представляется ему столь же справедливой, как и всякое иное наказание; форма правления не имеет сама по себе особой важности, и было бы довольно слабым доводом в её пользу утверждать, будто она более, чем другая, соответствует подлинным принципам разума, «ибо, — как он прекрасно говорит, — в делах этого мира дело не в умозрении и теории, а в практике и результатах».
Дестют де Траси различает два типа правлений: общие или национальные правительства, которые берут начало в воле народа и имеют своей целью общее благо, и частные правительства, претендующие на то, что они основаны на особых правах и частных интересах. Только первые имеют своими принципами разум; только они могут действительно желать, чтобы просвещение было здравым, мощным и всеобщим. На первой ступени цивилизации, в детстве общества, находятся чистая демократия, правление дикарей; и чистая монархия, правление варваров: умы ещё невежественны, государство опирается прежде всего на силу, а справедливость сводится к мести. Затем с ростом просвещения законы становятся более умеренными, наказания менее жестокими; аристократия формируется под началом одного или нескольких вождей. Наконец, мнения уступают место разуму, религия философии: чистое представительное правление, при одном или нескольких руководителях, становится совершенным типом государства, оно рождается из общей воли и на ней основывается; его руководители — слуги закона; его законы — следствия естественных потребностей; его наказания — средства предотвращения будущего зла. В конституции, которую он предлагает как результат своих размышлений, Дестют де Траси возлагает на всех граждан, без различия происхождения, состояния или образования, обязанность избирать выборщиков, которые назначают должностных лиц. Законодатели, многочисленные, разбитые на секции и обновляемые по частям, устанавливают нормы в пределах, заданных конституцией. Исполнительную власть временно осуществляют несколько государственных деятелей, объединённых в коллегию, действующих от имени всех и строго в рамках закона. Сохранительный орган, состоящий из мужчин, закалённых возрастом и опытом, не допускает, чтобы законодательное собрание нарушало конституцию своими законами или чтобы исполнительный совет нарушал закон своими действиями; он проверяет выборы и рассматривает государственные преступления, наблюдает за деятельностью чиновников и, при необходимости, смещает их. Конвенция, сосуществующая с остальными властями, может быть наделена задачей пересмотра конституции, чтобы та могла развиваться в соответствии с ходом общества и приспосабливаться к его изменениям.
«Эта книга, — говорит Минье, — написана с редкой энергией и высшей простотой, в ней природа и механизм налогообложения изложены особенно совершенным образом; она обладает достоинствами самого высокого порядка». Наивысшая похвала, которую можно ей выразить, заключается в том, что если бы автор располагал менее элементарной и лучше развитой идеологией, а также более богатой и надёжной исторической документацией, то этот труд не уступал бы по глубине, а, возможно, даже превосходил бы по ясности и точности те прекрасные книги, в которых Спенсер изложил свои Принципы социологии и защитил Индивида против Государства.
Оставим в стороне экономические теории, изложенные в четвёртом томе Идеологии, а также ранее упомянутые отрывки, касающиеся Старой и Новой Франции, Декларации прав и Лафайета, Конвента, Конституций годов III и VIII и т. д. Мы не можем, однако, умолчать о тех местах, где Траси выражает своё мнение о политической и религиозной ситуации в тот момент, когда Наполеон находился на вершине своей власти, а Кабанис писал своё Письмо о первичных причинах. Будучи человеком, заставшим подписание Конкордата, реформу Института и упразднение центральных школ, он объясняет, что в наследственной монархии суверен должен прибегать к поддержке религиозных идей, обеспечить себе услужливость священников, преподающих эти идеи, выбрать ту религию, которая в наибольшей степени требует подчинения умов, более всего запрещает всякое исследование, придаёт наибольший авторитет примеру, обычаю, традиции, решениям начальства и в наибольшей степени рекомендует веру и доверчивость, предлагая множество догматов и тайн. Чтобы сделать умы мягкими и весёлыми, лёгкими и поверхностными, ему следует прибегать к прекрасной словесности и изящным искусствам, даже к эрудиции и точным наукам, которые отвлекают подданных от дел и философских исследований. Наконец, он должен умножать чины, титулы, привилегии, отличия и, в сущности, свести образование низших классов народа почти исключительно к религиозному обучению (стр. 47). Вместо того чтобы позволить каждому в полной мере наслаждаться прекрасным правом — говорить и писать всё, что он думает, он нанимает писателей, заставляет говорить профессоров, проповедников и актёров, утверждает привилегированные учебники, заказывает альманахи и катехизисы, наставления, памфлеты и газеты, умножает инспекции, регламенты и цензуру (стр. 70). Если ему часто приходится жертвовать средствами для исправления расстройства дел в знатных семьях, которые он поддерживает, то благодаря власти, сохраняемой ими в его руках, он получает возможность извлекать ещё больше ресурсов за счёт остальных (стр. 109). Если он единоличный глава свободного народа, избранный на ограниченный срок, но без предохранительных мер, обладающий полной властью над армией и финансами, то он один держит в руках всю реальную силу. Ему необходимы дела и раздоры, ссоры и войны, чтобы оставаться нужным: он всегда найдёт повод. Возможно, он обеспечит своей стране военные успехи и внешние преимущества, но никогда — внутреннего спокойного счастья. Его станет невозможно отстранить и заменить: он останется у власти до конца жизни или утратит её только в результате великих общественных бедствий. Как только он оказывается на посту пожизненно, остаётся либо смириться с жизнью в конвульсиях беспорядка и даже дойти до распада общества, либо позволить ему сделать власть наследственной (стр. 192). А восстание, столь жестокое средство, что народ, обладающий хоть малейшим рассудком, будет долго терпеть бедствия, прежде чем на него решится, и отложит своё решение до такой степени, что, если захваты власти осуществляются искусно, он постепенно привыкнет к рабству, вплоть до того, что уже ни не захочет, ни не сможет освободиться таким путём. Траси также утверждает: нет никакой меры, способной предотвратить узурпацию, если вся активная сила уже передана в одни руки — как это произошло с Конституцией года VIII. Если же, кроме того, Сенат-консерватор, сформированный порочным образом, оказался не в состоянии хотя бы на мгновение защитить вверенный ему залог, то это потому, что свободу невозможно защищать в нации, настолько уставшей от своих усилий и бедствий, что она предпочитает даже рабство малейшей тревоге, которая могла бы возникнуть из-за попытки сопротивления: французы позволили у себя отнять, без малейшего ропота и почти с удовольствием, даже свободу мысли и личную свободу. Наконец, по мнению Траси, чем меньше влияние религиозных идей в стране, тем она добродетельнее, свободнее и спокойнее. Ни одна религия не может принадлежать всему обществу, ибо, являясь непосредственным и личным отношением каждого индивида к творцу всех вещей, она по самому своему существу не может быть общей для него и его сограждан.
Такую книгу невозможно было издать во Франции. Дестют де Траси отправил её Джефферсону, который перевёл её и организовал преподавание по ней в Колледже Чарльза и Марии (College of Charles and Mary); книга, напечатанная в 1811 году, стала популярной в Америке.

Комментарий, как и Приложение к первой части, был подготовкой к Трактату о воле и её последствиях. Автор, по-видимому, начал работу над этим последним сочинением ещё до смерти Кабаниса, и, возможно, уже тогда определил место для многочисленных страниц Комментария, посвящённых роскоши и использованию богатств, налогам и государственным расходам, населению и торговле, промышленности, сельскому хозяйству и денежному обращению и т. д., которые вошли в Трактат дословно или почти без изменений. Утомлённый, быть может, чрезмерно долгим и напряжённым умственным трудом, измученный страданиями и утратами друзей, Дестют де Траси испытывал разочарование от политики Империи, становившейся всё менее либеральной и всё более вредной для Франции. Заменив Кабаниса во Французской академии, он говорил: «Моя душа так отягощена жестокими скорбями, что не может открыться ни для какого иного впечатления». А затем, воздавая должное своему другу, он добавлял: «Печально, что столь удачные усилия по совершенствованию разума и улучшению человеческой судьбы по сей день подвергаются клевете… Удручает, что столь добросовестный и осмотрительный наблюдатель был обвинён в безрассудстве, что против г-на Кабаниса снова были выдвинуты те банальные упрёки, которые в веках невежества столь бесстыдно извергались на всех учёных, что превратились в поговорку». И он завершал эту речь восхвалением Наполеона, вполне понятным, впрочем, если вспомнить, что Кабанис был по приказу императора погребён в Пантеоне, и что Дестют де Траси сам горячо желал некоторых из тех реформ, которые Наполеон в действительности осуществил.
В ноябре 1809 года он покидает Отёй и переселяется на улицу д’Анжу, в предместье Сен-Оноре, чтобы, как он пишет Бирану, «там печально закончить свою жизнь». В том же письме он сообщает о намерении прислать сочинения Тюрго: «Именно такие люди, как вы, — добавляет он, — заслуживают досуга; я же уже ни на что не гожусь. Если бы вы были рядом, мы бы поговорили, я, возможно, отвлёк бы вас от чистой идеологии, чтобы увлечь вас к её приложениям — к экономике и морали. И вы сделали бы это ещё лучше, чем в статье “Существование”, и даже лучше, чем в “Происхождении богатства”, хотя в ней есть отличные мысли; но ведь сколько нового с тех пор открылось!»!
Конец этого письма позволяет предположить, что Дестют де Траси вернулся к своим размышлениям и исследованиям в области морали и политической экономии. В следующем году он работает над своим четвёртым томом. Возможно, именно к этому времени относится письмо, в котором он просит Форьеля высказать мнение скорее о форме, чем о содержании, поскольку «не слишком боится, что его друг сочтёт это неверным». Как и в других своих трудах, Дестют де Траси абсолютно убеждён, что он открыл истину. По его мнению, чтобы разрешить трудности, которые кажутся запутанными, зачастую достаточно самого обыкновенного здравого смысла — при условии, что исследователь возвращается к первым принципам. Поэтому, как только он проясняет первую часть, он видит, как мрак отступает перед ним, и всё распутывается с лёгкостью. Если его взгляд на потребление согласуется с тем, что он сказал о производстве и распределении, если он в то же время проливает яркий свет на весь механизм общества — то согласие и эта ясность объясняются тем, что он нашёл истину. И если он отказывается воспевать гимн в честь свободы — первого из всех благ для чувствующего существа, — то лишь потому, что он стремится удовлетворить, а не возбуждать любовь к добру и истине.
Метод, используемый Дестютом де Траси, по-прежнему соединяет в себе дедукцию и наблюдение. Факт и рассуждение доказывают, что человек не может существовать в изоляции, как и то, что счастье человека пропорционально объёму его просвещения; оба эти аспекта возрастают и могут возрастать бесконечно. Однако наблюдение нередко подменяется конструктивной гипотезой. Так, после того как он, по его словам, изобразил нацию, счастливо расположенную, пользующуюся всевозможными благами и употребляющую их разумно, но чьё процветание — лишь преходящее, он может утверждать, что картина, которую он только что обрисовал — движение обществ от их зарождения, — поражает своей правдоподобностью; что в ней нет ни произвольно созданной системы, ни заранее выстроенной теории, а только простое изложение фактов; однако на деле мы видим в этом всего лишь идеальную конструкцию общества, аналогичную тем идеальным конструкциям индивида, какие создавали Кондильяк, Бонне, Бюффон и даже Декарт, — конструкциям, в которых наблюдение дало материал, но не связующую нить между элементами. Тем не менее у него имеется множество точных и личных наблюдений. Дестют де Траси с большим реализмом изображает Францию при старом режиме и при новом правительстве: людей, вынужденных из-за волнений покинуть свои замки и искренне убеждённых в том, что вся деревня останется без заработка, не замечая, что основную часть жалованья давали не они, а их фермеры; людей, уверенных, что если крестьяне даже разделят их земли или купят их за бесценок, то от этого только станут ещё несчастнее. В том же духе, уже около сорока лет владея имениями в местности с крупными фермами, в винодельческом регионе и в краю бедных метайерий, он всегда внимательно следил за их функционированием — и больше с точки зрения общего блага, чем личной выгоды; он добился ощутимых улучшений в двух последних и убеждён, что «если имеешь достаточное поле для наблюдений, то больше выиграешь, углубляя их, чем расширяя». Он совершенно справедливо настаивает на необходимости тщательного обсуждения таблиц смертности, рождаемости, браков, средней продолжительности жизни и общего числа населения: такие данные часто бывают неточными, и даже в случае точности они должны быть подвергнуты внимательному анализу и сопоставлению с большой проницательностью, чтобы дать верные выводы, а не серьёзные ошибки. Более того, подобные данные существуют только в немногих странах и лишь в недавнее время; так что в политической экономии, как и в астрономии, на старые или отдалённые наблюдения рассчитывать можно весьма слабо. Поэтому, даже отмечая, что колебания нашей чувственной природы заключаются в определённых пределах и что к ним всегда можно применять теоретические соображения, выведенные из теории пределов чисел, он заботится о том, чтобы подчеркнуть, насколько деликатным и искусным делом является исчисление всех социальных и экономических величин, и как неосторожно было бы без разбора применять к ним строгую числовую шкалу. Он, соответственно, не боится отказаться от резких, окончательных решений, которые, рассматривая совокупность человеческих интересов как ряд из слоновой кости шариков, утверждают, будто бы, какой бы из них ни коснуться, в движение придёт только последний. Всё это потому, что он представляет вещи такими, какими их видит, а не какими можно было бы их вообразить. Потому что, если крайняя простота и доставляет удовольствие уму, облегчая его усилия, то она встречается лишь в абстракциях, им же самим созданных; и даже в механике, когда речь идёт о реальных телах, необходимо принимать во внимание множество обстоятельств, которые отпадают, когда мы имеем дело лишь с математическими линиями и точками. Наконец, отметим, что как никогда ранее, Дестют де Траси исходит из строго позитивной точки зрения: «Можно без разницы предполагать во всём последующем, — говорит он (стр. 13), — что “я” есть абстрактное существо, которое мы называем чувствительностью индивида, проистекающей из его организации, или монада без протяжённости, или некое малое, тонкое, эфирное, неощутимое, неосязаемое тело».
Какую цель он поставил перед собой? Он вовсе не хотел написать просто трактат по политической экономии, а представить первую часть Трактата о воле, который должен состоять из трёх частей и сам является продолжением Трактата о разуме. Поэтому он не стал вдаваться в подробности, но постарался вернуться к истоку наших потребностей и наших средств, показать, как они рождаются из способности хотеть, и указать на связь между физическими потребностями и потребностями нравственными. Отсюда — введение очень общего характера, которое в равной степени не принадлежит ни экономике, ни морали, ни законодательству и имеет целью объяснить, какие идеи являются необходимыми для существования этих трёх наук и какими из них мы обязаны нашей способности хотеть. Почему же это сочинение составляет четвёртую часть Элементов идеологии? Потому что наши чувства, наши аффекты по своей сути не отличаются от восприятий или идей; быть аффективными — это для них лишь случайное свойство, так как некоторые модификации перестают быть таковыми, хотя прежде и были. Восприятия или идеи — это родовое понятие, а идеология — наука, которая изучает волю так же, как и разум. Итак, способность хотеть, охватывающая не только сознательные и формализованные акты воли, но и самые тонкие и неосознанные склонности, даёт нам ясное знание о нас самих как об индивидуальности — следовательно, идею собственности. Таким образом, экономика и мораль оказываются взаимосвязаны, поскольку без естественной и необходимой собственности на наши потребности и чувства мы никогда не пришли бы к условной или искусственной собственности. С другой стороны, воля есть причина всех средств, с помощью которых мы удовлетворяем эти потребности: труд, использование наших сил — это наше единственное сокровище, наша единственная сила. Так мы поэтапно приходим к идеям богатства и нищеты, свободы и принуждения, к правам, возникающим из потребностей, и обязанностям, возникающим из средств.
Это идеологическое введение показывает, что общество есть необходимое следствие потребности в воспроизводстве и склонности к симпатии. С экономической точки зрения, оно представляет собой цепь обменов или сделок, в которых обе стороны всегда что-то выигрывают. Эти обмены ведут к объединению усилий, увеличению и сохранению знаний, разделению труда. Производить — значит посредством изменения формы или связи придать вещам полезность, которой они прежде не имели. Полезно — это то, что увеличивает наши удовольствия или уменьшает наши страдания; мера полезности, цена или истинная ценность вещи — это количество жертв, на которые мы готовы пойти, чтобы завладеть ею. Следовательно, чтобы обогатиться, нации, как и индивиды, должны заниматься тем трудом, который оплачивается дороже всего.
Изменения формы порождают фабричную индустрию, в которую входит и сельское хозяйство; ведь ферма — это фабрика, а поле — это инструмент или склад сырья. Всякая индустрия предполагает теорию, применение и исполнение, то есть учёного, предпринимателя и рабочего: предприниматель получает прибыль только пропорционально успеху своего производства, а самые необходимые работы оплачиваются хуже всего. Таким образом, сельское хозяйство это первое из искусств с точки зрения необходимости, то есть средств нашего существования, но не с точки зрения богатства, то есть средств нашей жизни.
Изменения места осуществляются торговой индустрией, коммерцией. Вещи приобретают новую ценность, на которую торговец получает свою прибыль. Посредством торговли люди одного района, одной страны или разных стран объединяются друг с другом; внешняя торговля содействует ещё большему развитию торговли внутренней. Как и производственная индустрия, торговля требует теории, применения, исполнения, то есть — учёных, предпринимателей и рабочих.
Драгоценные металлы — вещи, обладающие ценностью и способные измеряться друг относительно друга, становятся всеобщей мерой и образуют денежную единицу, когда государственное клеймо удостоверяет их вес и пробу. Уменьшать количество металла, соответствующее условно установленным денежным наименованиям, значит совершать кражу, вредную даже для того, кто её совершает. Ещё более тяжёлой и пагубной кражей является создание бумажных денег. Деньги это не просто знак, это ценность, это подлинный эквивалент того, что ими оплачивается. Как и всякая ценность, деньги должны свободно сдаваться в аренду (т. е. даваться под проценты); государственная власть не должна вмешиваться в установление процента, так же как она не объявляет недействительными и незаконными аренды земель, которые заключаются по слишком высокой цене.
Процесс формирования богатств позволяет нам понять их распределение и потребление. Подобно собственности, неравенство является необходимым следствием нашей природы. Все люди являются собственниками, поскольку обладают средствами, и потребителями, поскольку имеют потребности. Но со временем одни получают авансы (капиталы), а многие другие — нет и живут только за счёт средств первых: так возникают наёмные работники и наниматели — одни продают свой труд по максимально возможной цене, другие стараются купить его как можно дешевле. Богатые праздные люди используют труд лишь ради собственного удовольствия и тем самым уничтожают его ценность; предприниматели, напротив, используют труд полезным образом — так, что он возмещает свою стоимость, способствует сохранению и приумножению уже накопленных богатств и обеспечивает доход другим владельцам капитала, за счёт которого те живут. Фонд, из которого оплачиваются наёмные работники, меняется мало, и именно в эту категорию вливается избыток из всех остальных социальных классов. Человек быстро размножается везде, где он имеет достаточно средств к существованию; верить в возможность и тем более стремиться к увеличению численности населения иначе, чем путём увеличения этих средств, — абсурдно и варварски. Следовательно, границы, которых может достичь класс наёмных работников, определяют и границы всей численности населения, а всё, что реально полезно бедному, полезно и для общества в целом. Как собственник, бедняк заинтересован в сохранении собственности тех, кто его нанимает, так же как и в сохранении своей свободы распоряжаться своим трудом и своим местом проживания; в том, чтобы заработная плата была достаточной и стабильной. Как потребитель, он заинтересован в том, чтобы производство было экономичным, пути сообщения лёгкими, а торговые связи многочисленными; то есть — в упрощении ремесленных процессов и совершенствовании методов
Потребление всегда противоположно производству. Потребление наёмных работников осуществляется за счёт капиталистов. Праздные богачи, живущие на ренту, потребляют впустую; деятельные люди, живущие за счёт прибыли, также впустую потребляют то, что удовлетворяет их потребности, но их потребление как индустриальных людей возвращается к ним с прибылью: они платят и своим рабочим, и рантье, и тем, кого нанимают последние, а затем возвращают себе свои средства через покупки их продукции, совершаемые рантье и рабочими. Так устанавливается циркуляция, благодаря которой богатства непрерывно обновляются. Что касается роскоши, или избыточного потребления, то оно не может ни ускорить циркуляцию, ни увеличить её фонд, поскольку замещает полезные расходы бесполезными. Государство — это очень крупный потребитель, «очень крупный рантье, у которого власть заменяет капитал». Налог это всегда жертва: он лишь перекладывает расходы из одних рук в другие, если затрагивает лишь личное потребление; но он уменьшает общественное богатство, если наносит ущерб производительному потреблению. Следовательно, лучшие налоги — это те, что наиболее умеренны, наиболее разнообразны и наиболее древни. Все государственные расходы столь же бесплодны, сколь и необходимы; поэтому желательно, чтобы они были как можно более ограничены; чтобы государство не создавало долгов и не могло их создавать, особенно таких, что обременяют будущие поколения и неизменно ведут государства к гибели.
Следовало бы привлечь внимание экономистов — особенно тех, кто занимается сегодня наукой о обществе — ко всем частям этого замечательного труда, где можно найти ещё множество проницательных и точных взглядов, остроумных и плодотворных наблюдений. Достаточно упомянуть, например, трактовку двух изречений: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» и «любите друг друга» — первое истолковано как плод глубочайшего неведения, выдумывающего роман о человеке; второе — как результат познания, способного изложить его историю; утверждение, что симпатия, возможно являющаяся зародышем любви, может существовать у всех живых существ; восторженное изображение всеобщего блага и общественного прогресса, проистекающего из непрерывных обменов; страницы, где Дестют де Траси различает собственников, настоящих кредиторов, от земледельцев; где он устанавливает, что законы всегда должны стремиться к защите слабых, а общество должно покоиться на свободном распоряжении индивидуумом своими способностями и на гарантии всего, что он может с их помощью приобрести; наконец, строгие рассуждения о роскоши, формах налогообложения и государственных займах.
Автор, уверенный, что он обладает истиной, тем не менее знает, что его утверждения будут оспорены, и особенно те, которые устанавливают иерархию важности различных социальных классов. Ведь ещё труднее внушить вкус к истине, чем открыть её. Так, последствия наших поступков позволяют нам оценить достоинство или порочность чувств, которые побудили нас к действию; анализ наших чувств необходим, чтобы различить те, которые основаны на здравых суждениях и всегда ведут нас правильно, от тех, что рождаются из иллюзий и искажений рассудка, создавая слепую совесть, уводящую нас с пути разума — единственного пути, ведущего к счастью. Если результаты человеческих поступков, если последствия их страстей будут правильно изложены, то станет легко указать те правила, которыми они должны руководствоваться, и написать подлинный «Дух законов», который мог бы стать наилучшим завершением Трактата о воле.
— V —
Мораль; воля и причинность; критика по последствиям; Д. де Траси в 1814 году; в 1830 году; его роль и влияние
Дестют де Траси, по-видимому, посвятил 1812 и 1813 годы размышлениям о морали, которой он уже занимался в 1798 году. В 1817 году, больше не надеясь завершить свой труд, он обнародовал начало тома, в котором хотел изложить природу и последствия наших различных потребностей. Эти сорок страниц заслуживают внимания: в них слышится последний отголосок полемики с Бираном, и становится совершенно ясно, почему позитивная, а не метафизическая доктрина де Траси не могла долго удовлетворять того, кто считал себя его учеником. Но, прежде всего, там содержится энергичная тирада против противников идеологов — красноречивый и гневный ответ всем тем, кто, как де Бональд или Фрейсину, Руайе-Коллар и его преемники, воспользовались враждебностью Бонапарта, чтобы бороться с идеологами всеми возможными средствами. Читая эту «честную дискуссию», нельзя не пожалеть, как и Кузен, что «де Траси не смог вступить в схватку с новой философией, не сумел учредить научную полемику, элементы которой он мог бы найти в углублённом изучении философских вопросов, в аналитическом даровании и строгой логике, в которых он многократно давал убедительные доказательства».
Произведение начинается с вопроса, который позднее часто поднимали биранианцы, следуя за своим учителем: являются ли наши акты воли действенными причинами так называемых произвольных действий? Несомненно, мы знаем, что желание двигать наши конечности, использовать органы, прибегать к телесным или умственным способностям часто даёт результат. Но мы не можем постичь, как простой акт ощущения — желание чего-либо — способен порождать длинную цепь движений, о которых индивид даже не имеет сознания, не знает ни их способа, ни их последовательности, ни их ближайшей цели, и которые, тем не менее, все направлены к достижению желаемого результата. Ещё менее постижимы произвольные движения у низших животных, которым пришлось бы приписать интеллектуальные способности, намного превосходящие наши: дар предвидения, познания в геометрии и химии, щедрость, предусмотрительность и бурю страстей. Более вероятно, что они — машины, сконструированные для осуществления определённых эффектов, но обладающие, вопреки утверждению Декарта, чувствительностью и волей. И у них, и у нас происходят внутренние движения, неизвестные самому индивиду, которые вместе с ощущением и волением производят внешние движения, кажущиеся результатом последнего. Эти различные движения следуют друг за другом, связываются между собой необходимым образом — наподобие тех, что обслуживают питание и в которых воля не принимает никакого участия. В этом смысле предустановленная гармония Лейбница — идея весьма красивая и чрезвычайно правдоподобная: она помогает нам объяснить множество фактов из жизни животных, которые иначе кажутся совершенно чудесными.
На возможные возражения Дестют де Траси отвечает, прежде всего, вопросом: почему движения, порождающие чувство воления, не происходили бы с такой же необходимостью, как и те, что поддерживают жизнь? Почему акт воления не мог бы быть безразличным обстоятельством по отношению к производимому эффекту, кажущимся существенным лишь потому, что он всегда предшествует ему или его сопровождает? Почему, наконец, так называемая внутренняя убеждённость не могла бы быть иллюзией? Тем, кто утверждает, что чувство воления есть акт нашей души, и что именно её воздействием на тело движения последнего совершаются в соответствии с нашей волей, он указывает — оставаясь в пределах своей позитивной точки зрения — что, не утверждая и не отрицая ни того, что у нас есть душа, ни того, что она бессмертна или нематериальна, можно предположить, что если она есть у нас, то она есть также и у животных, которые отличаются от нас лишь степенью, или у существ, способных к ощущению, не проявляя его внешне. Из этого вытекает необходимость признать существование универсальной души, причины всего происходящего в природе; отсюда следует, что всё в ней совершается по неизменным законам. Но существование души не может быть доказано, это лишь гипотеза, призванная объяснить то, чего мы не знаем. А между тем, согласно подлинной философии, необходимо признать собственное неведение, не прикрывая его гипотезами. Более того, такая гипотеза ничего не объясняет, поскольку если мы не знаем, как внутренние движения порождают чувство воления, вызывая вслед за собой другие движения, кажущиеся его следствием, то мы тем более не можем постичь, что такое душа, как она чувствует и хочет, а затем воздействует на тело и приводит его в движение в соответствии со своей волей. Разве это не попытка объяснить непонятное через ещё менее понятное?
Но, возражают снова, эта точка зрения унижает человечество, ставит его под ярмо непобедимой необходимости, лишает его заслуг и вины за его поступки; следовательно, это мнение в высшей степени безнравственно. Я не знаю, — отвечает Дестют де Траси, — что значит «унизить человечество». Речь не идёт о том, чтобы унизить нас или возвысить, но о том, чтобы понять, каковы мы на самом деле: ведь наивыгоднейшее и наиблагороднейшее для нас — это познание, это открытие истины. Упрёк в безнравственности был неоднократно использован во зло: говорили, что безнравственно отрицать движение солнца, одержимость, колдовство, предсказания и силу слов. Сегодня такие отрицания не считаются несовместимыми ни с философской моралью, ни даже с религиозной, христианской моралью. Не случится ли то же самое однажды и с учением о всеобщей необходимости? Пойдём дальше: как бы ни думали и ни говорили те «доктора», с которыми «никто не хотел бы поменяться моралью, ни теоретической, ни практической», упрёк в безнравственности не имеет места в философии. Следовало бы принять утверждение как истинное, даже если бы оно оказалось безнравственным — если бы такое вообще было возможно. Но между разумом и добродетелью, между истиной и добром нет противоположности: это вещи неразделимые и неразрывные. Следовательно, суждение об учении должно исходить не из последствий, а из оснований, на которых оно зиждется — или, по крайней мере, нужно быть полностью уверенным, что сами эти последствия действительно заслуживают упрёка. А в данном случае тревогу вызывают ложные и ошибочно выведенные последствия. Ведь эта непобедимая необходимость, столь унизительная для тщеславия софистов, присутствует при всех гипотезах и подавляет нас своей очевидностью и своей силой. Потому что даже если бы в добровольных действиях усматривали эффект чувства воления, они всё равно оставались бы необходимыми: ведь воля возможна только в силу предшествующих мотивов, которые с необходимостью её определяют. Не следует страшиться этой истины, против которой всякое восстание тщетно: она не безнравственна и не уничтожает ни достоинства, ни порочности наших чувств и поступков. Ибо судить о них следует по их последствиям — весьма ощутимым и весьма важным — а не по их причинам, весьма туманным и безразличным: необходимое оно или нет, всё, что ведёт к благу человечества, — похвально и добродетельно, всё, что ведёт к противоположному — порочно и заслуживает осуждения. Вот истинный и единственный камень пробный морали. Наконец, какое бы мнение ни было принято, оно никоим образом не повлияет на то, что следует включать в моральное учение: истина, что подлинные причины наших произвольных действий это внутренние движения, не имеет непосредственного практического применения, и мы всегда можем говорить о нашей воле как о причине этих действий, поскольку она всегда им предшествует, если ничто ей не препятствует.
Дестют де Траси основывает мораль, «углубляясь ещё дальше», на постоянных фактах, установленных физиологией. Последняя различает органическую или внутреннюю жизнь, включающую функции самосохранения и имеющую своим главным центром большой симпатический нерв; и животную или внешнюю жизнь, состоящую в функциях отношения (взаимодействия с внешним миром), сосредоточенную в мозге — специальном органе, в котором происходит обработка и комбинация ощущений. Функции, зависящие от большого симпатического нерва, независимы от нашей воли; остальные подчинены воле. Действия этих двух принципов взаимосвязаны, и в некоторых случаях большой симпатический нерв заменяет собой мозг. Из жизни самосохранения рождается чувство индивидуальности, которое ставит нас в противопоставление с нашими ближними и порождает страсти ненависти. Из жизни отношений проистекает потребность в симпатии, присущая всей одушевлённой природе, сближающая нас с другими существами и дающая начало доброжелательным страстям. Примирение этих двух видов страстей и есть задача справедливости, то есть разума.
После нескольких слов об отношении к любви, которую Дестют де Траси, по-видимому, предоставил описывать своему ученику Стендалю, «без вольностей, без пресности, без педантизма, без восторженности», книга внезапно обрывается. Автор, по-видимому, хотел оставить законодателям и философам задачу выводить последствия и предлагать такие политические, гражданские, нравственные и уголовные законы, которые были бы наилучшим образом способны развивать наши способности и добродетели, подавлять или сдерживать наши дурные наклонности и обеспечивать наше счастье. Возможно, он также хотел бы высказать свои взгляды на религиозные идеи, организацию общества и воспитание молодёжи. Не придавая им дидактической формы, он изложил их для широкой публики в Материалах, касающихся народного просвещения, в Средствах для основания морали народа, а также в Комментариях к «Духу законов».
Этот последний труд показался столь замечательным Дюпон де Немуру, что в 1814 году он хотел перевести его на французский язык, и Дестют де Траси был вынужден, чтобы его отговорить, показать ему рукопись оригинала. То, чего не сделал Дюпон де Немур, сделали другие: перевод был напечатан в Льеже, затем переиздан в Париже. Дестют де Траси, который вовсе не намеревался публиковать его в Европе, издал текст в том виде, в каком он его и написал, когда увидел, что «все печатают его без его ведома». Это было в июле 1819 года; 2 апреля 1814 года Д. де Траси предложил Сенату объявить об отречении императора. Он без особого сожаления воспринял Реставрацию; но с первых же дней опасался, «как бы то, что погубило Стюартов, не погубило и Бурбонов». В Палате пэров он отказался участвовать в политических процессах и выступал против мер, направленных на воссоздание старого порядка. Его Комментарий, который в 1810 году мог бы показаться сатирой на имперское правительство, в тот момент, когда министр Деказ сместился вправо после избрания Грегуара, должен был выглядеть настоящим памфлетом. Сам он посчитал необходимым добавить к главе о законах, формирующих политическую свободу в её отношении к конституции, примечание, ещё раз показывающее, что «идеолог» и «утопист» — вовсе не синонимы.
Но если мы ничуть не жалеем о применении наших средств познания к изучению воли и её последствий, то совсем иное дело — третья часть труда и приложение. Краткие замечания, рассыпанные по его сочинениям — о физике, геометрии, математическом исчислении, о ложных науках — дают почувствовать, сколько мы потеряли из-за болезни и уныния, которые прервали его работу. Поражённый катарактой, он решился на операцию, но не заботился должным образом о восстановлении и так и не вернул полностью зрение. Его здоровье, уже пошатнувшееся после смерти Кабаниса, всё более ухудшалось. «Я страдаю, — говорил он, — значит, я существую»; при этом нравственные страдания были ещё мучительнее. Реставрационное правительство, за редкими всплесками либерализма, было мало способно, с учётом преобладающего положения, предоставленного им духовенству и религиозным идеям, понравиться человеку, который читал или декламировал шедевры Вольтера. Революция 1830 года, во время которой он вышел на улицы, «в шёлковых чулках, с лицом, скрытым под широким зелёным абажуром, с длинной тростью в руке», среди баррикад, могла заставить его поверить, как и его друга Лафайета, что он продолжит дело 1789 года. Но он, должно быть, вскоре разуверился — как разуверился и Тюро, человек куда менее требовательный, который всё же считал, что министерство не поняло: «необходимо было заменить легитимность национальным суверенитетом».
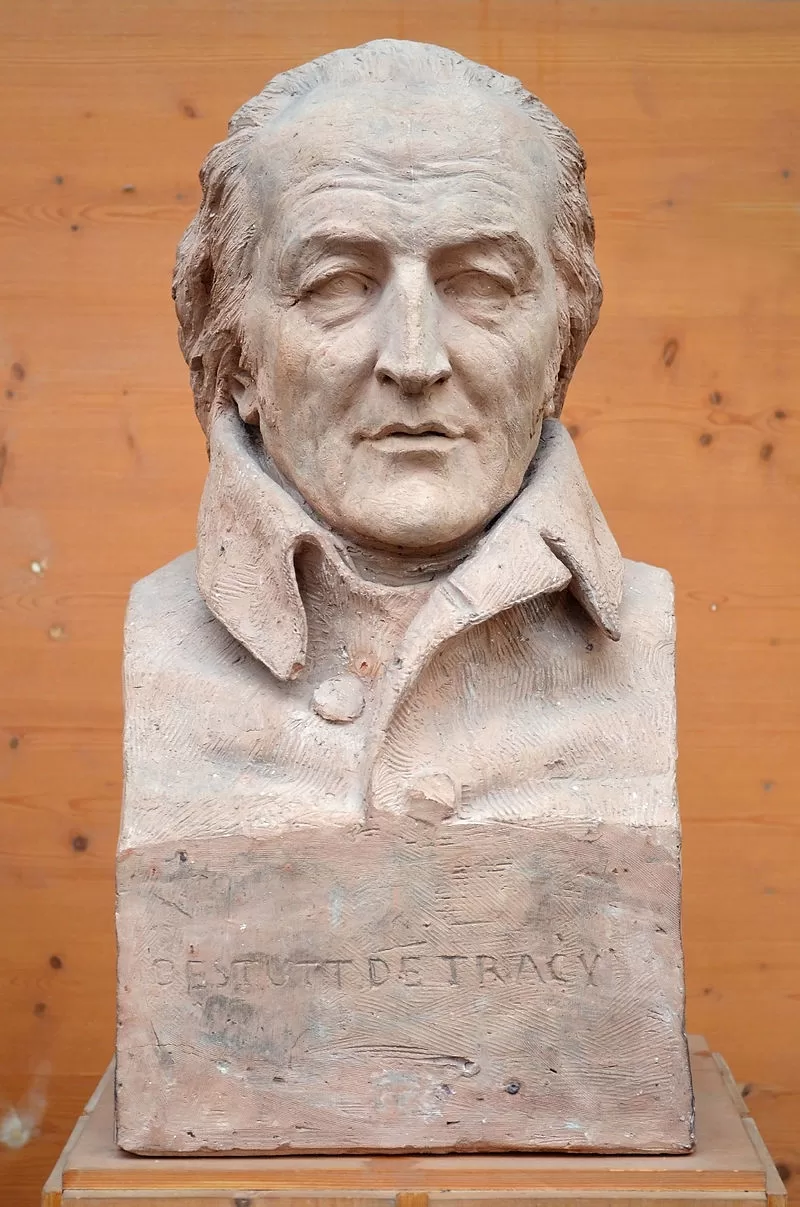
Дестют де Траси был не более доволен и философскими тенденциями. Биран, становившийся всё более роялистом и католиком, отдалялся от идеологов и рассматривался их противниками как «вождь» в борьбе, которую они вели против «сенсуализма». Кузен и его сторонники были не более снисходительны к идеологической школе, чем Шатобриан, де Бональд, Ламенне или де Местр. Дестют де Траси мог бы прочесть у Дамирона, что «сенсуализму соответствовали, в эпоху Директории и Империи, слабая вера в нравственные начала, развращение совестей или их унизительное раболепие, грубость в поведении власти, материализм искусств и презрение к религии» (с. 31). Он мог бы, как и Брюссе, выразить сожаление, что Францию вновь пытаются погрузить «в иллюзии и химеры онтологии». Точно также, он мог бы считать, видя, что не только Биран, но и Дроз, Дежерандо, Ларомигьер оказались, вместе с Кузеном, Жуффруа и Руайе-Колларом, включены в число эклектиков, — что онтологизм начинает «давать трещины» даже внутри самой школы. Более того, он видел в собственной семье следы влияния, оказываемого политической, религиозной и философской реакцией. Его сын, около 1818 года, вторым браком женился на мадемуазель Ньютон, вдове генерала Ле Тор. Молодая женщина «любила священников, кресты, колокола, монахов, иконы, часовни и всех святых»; позднее она занялась изучением Отцов Церкви, «чтобы узнать, что они говорили о душе, — те, кто, в отличие от иных, не искал руками эту душу, чьё бессмертное существование позволяет человеку с полным правом верить, будто весь мир был создан исключительно ради него».
Но, как сказал Минье, Дестют де Траси слишком верил в свои идеи, чтобы быть поколебленным идеями других. Он оставался приверженным своим теориям с спокойной твёрдостью, полагая, что человеческий разум переживает лишь временное заблуждение, и с уверенностью рассчитывая на его возвращение к истине. Вместе с Брюссе, возможно, он считал, что «химия, физика, естественная история, математика, история, ныне ставшая по-настоящему философской», — это «медные бастионы, которые канто-платонизм никогда не сможет сокрушить». Поэтому он поддерживал труды молодых учёных, которые к нему обращались, и с интересом следил за развитием естественных наук, которые привели его к философии и, как он верил, могли вновь привести к ней и будущие поколения. Его доверие не было обмануто, и его влияние — прямое или косвенное — оказалось, как и влияние Кабаниса, значительным и плодотворным во всей сфере спекулятивной мысли.
Придя к философии через науки, Дестют де Траси придал идеологии имя и позитивный характер. Если он и ошибался, полагая, что может создать её с нуля, то он совершенно ясно понимал, что, чтобы стать самостоятельной и полноценной наукой, она должна опираться на физиологию и патологию, на изучение детей, безумцев и животных. Он тесно связал её с грамматикой и логикой, с моралью и политической экономией, с законодательством и политикой. Как соратник Кабаниса, он вдохновил Дежерандо и Бирана, Ампера и Стендаля, Тюро и Борда-Демулена, Брюссе и О. Конта, Мильна, Янга и Брауна. Благодаря ему идеология распространилась среди естествоиспытателей и врачей — в Италии, в Англии, в Америке, как и во Франции.
Продолжение: Глава VII. Помощники, ученики и продолжатели Кабаниса и де Траси
