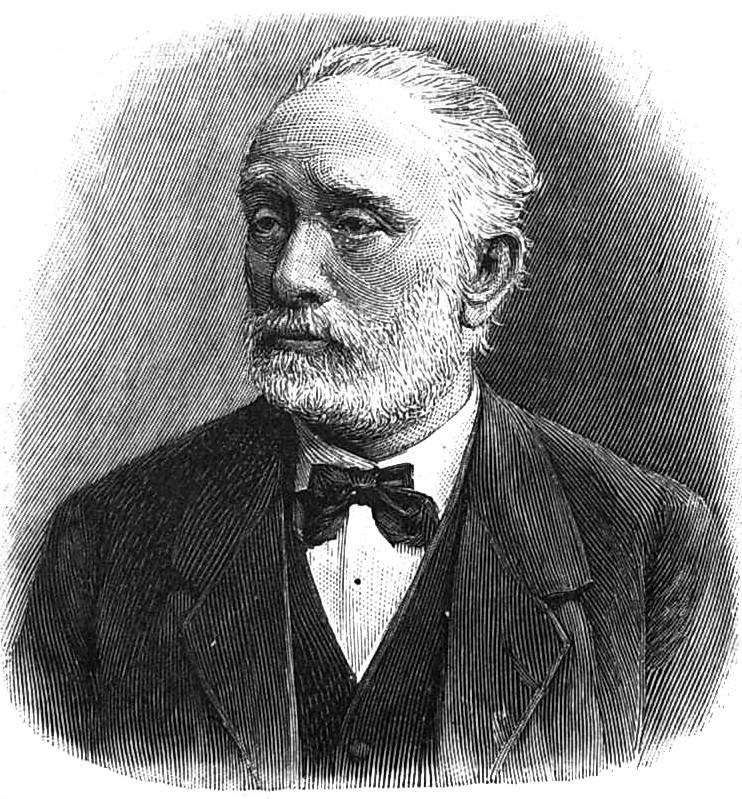
Полный обзор книги Бюхнера можно найти здесь, там же и мнение нашей группы по поводу Бюхнера.
Ну а прочитать первоисточник с дореволюционной русской орфографией — здесь.
Есть только одна истинная Библия, это природа. Кто умеет читать ее, тому открыты двери рая.
(с) Эрихсен
«Люди», говорит знаменитая «Система природы», появившаяся в 18-м веке [книга, написанная Гольбахом], «будут всегда обманываться, доколе будут менять опыт на измышленные фантазией системы. Человек — продукт природы, он живет в природе, он подчинен ее законам, он не может даже мысленно подняться над ними. Тщетно пытается его ум перешагнуть границу видимого мира; ему приходится постоянно вновь возвращаться к ней».
Эти слова получили в течение девятнадцатого века превосходящее все ожидания подтверждение. Скорее, чем можно было ожидать, судя по медленному прогрессу человеческого познания, отжили свое время и преданы заслуженному забвению выступившие на сцену в таком великолепии идеалистические системы после-кантовского периода, на которые, к сожалению, потратило все силы своего ума и своей жизни столько людей. Заглянули под блестящие одежды этой философии и не нашли там ничего, кроме тощего скелета философской фразеологии, витиеватых, высокопарных предложений без содержания, тривиальных идей, прикрытых изысканным и напыщенным стилем, доведенной до крайности софистики, словом, ничего, кроме духовного шарлатанства, которое могло импонировать только поколению слабых голов, но должно было возбудить чувство отвращения или скуки в разумном читателе или слушателе.
Если мы спросим себя о причинах этого вдвойне замечательного отрезвления в стране, столь склонной к философским спекуляциям, как Германия, то наверно не ошибемся, указав, как на одну из главных, на мощное влияние, приобретенное развившимися в совершенно неожиданной степени естественными науками, не только на материальную, но также и на духовную жизнь. Не только своими великими открытиями и изобретениями, но также методом исследования, связанным с реставрацией теории развития, они открыли мышлению совершенно новые области или точки зрения и принудили его спуститься из туманных и бесплодных областей спекулятивных бредней, т. е. — другими словами — поставить на место безнадежного искания абсолюта исследование сущности индивидуума и всего с ним связанного. Если бы человеческий дух, как утверждают теологи и философы, обладал метафизическими знаниями, т. е. знаниями, выходящими за пределы природы и чувственного познания, неопределимыми при посредстве реального мира, то мы были бы в праве требовать от метафизиков такого же согласования и уверенности во взглядах, какие, напр., существуют у физиков относительно закона тяготения или у физиологов относительно функций известного мускула и т. д. Вместо этого мы не находим у них ничего, кроме неясности и противоречий, равно как разногласий, доходящих иногда до диаметрально противоположных взглядов и утверждений. Один говорит так, другой иначе; каждый называет своего противника ослом, и если бы смелые, назойливые и часто повторяемые уверения были доказательствами, то нам пришлось бы признать доказанными самые противоречивые и нелепые утверждения.
«В наши дни», говорит Льюис, выдающийся историк философии [позитивист и утилитарист в духе Дж. Ст. Милля], «спекуляции по метафизическому методу нисколько не разумнее, чем теория развития живых существ на Сириусе».
Но уже Вольтер метко охарактеризировал этот метод, сказав: «Когда говорящий начинает не понимать самого себя, a слушающие перестают понимать его совершенно, тогда начинается метафизика».
Впрочем смелость философов в метафизических вещах находится в поразительном противоречии с их жеманной скромностью и сдержанностью в вещах эмпирических или в объяснении бытия, опирающемся на научно доказанные факты. Позволяя себе там без всякого стеснения уноситься мыслью в сверхчувственный мир, они внезапно становятся здесь во прах ползающими червями, зрительная и познавательная сила которых не простирается далее ближайшего их окружающего, и которые даже не уверены в том, достоверно ли и реально ли то, что им отражает их ограниченный мир чувств. Все их познание есть, мол, только личное чувственное восприятие или кажимость, за которой находится навеки скрытая от него сущность вещей или «вещь в себе», остающаяся непознанной и непознаваемой; при этом оказывается снова в чести старое сократовское правило, что высший результат мудрости — знать, что мы ничего не знаем.
Это высокомерие полного незнания так же безосновно и предосудительно, как и высокомерие всеведения, и отнимает у мыслящего человека всякую охоту к научному исследованию. Что человеческому познанию положены известные непроходимые пределы, разве в этом кто-нибудь когда-нибудь сомневался? Также и то обстоятельство, что материальные движения внешнего мира получают лишь от наших органов чувств известные свойства, которые мы им приписываем, каковы звук, цвет, запах, ощущения тепла, свет, давление, вкус и т.д. — было уже известно древнейшим греческим философам, а ещё более эмпирикам, напр., Гоббсу и Локку, хотя из него и пытаются сделать самое новейшее открытие для обоснования гносеологического скептицизма. Но разве отсюда следует, что эти движения, являющиеся ведь последней причиной постепенного возникновения наших органов чувств, не существуют, и что мы должны прекратить общее исследование бытия с помощью чувственных средств познания, если других у нас нет? Эмпирическая философия имеет такое же право, как идеалистическая, опираться на известный принцип Протагора, что человек есть мера вещей; только она менее изменяет этому принципу, чем последняя, не выходя из этой меры и не занимаясь ни «вещью в себе», ни так называемым «абсолютом», ни неразрешимым вопросом: почему? а довольствуясь ответом на вопрос: как? или каким образом?
Почему — об этом мы
Только в судный день узнаем,
Как — нам ясно и теперь,
Если мир мы понимаем.
«Вещи в себе» не может быть уже потому, что все вещи существуют лишь друг для друга и без взаимных отношений не имеют никакого значения. Есть только вещи среди вещей. Но если бы она даже существовала, то все же была бы непознаваема и не могла бы иметь никакого значения ни для нашего мышления, ни для наших поступков. В этом отношении можно сослаться на самого старика Канта, который буквально говорит следующее (Критика чистого разума): «Что такое вещи в себе, этого я не знаю, да мне и не нужно этого знать, так как вещь никогда не может встретиться мне иначе, как в явлении»; далее он разъясняет, что желание познавать вещи без посредства чувств или с помощью способности познания, совершенно отличной от человеческой, не имеет под собой решительно никакой почвы. Только с помощью наблюдения и расчленения явлений проникаем мы вглубь природы, «и нельзя предвидеть, как далеко подвинемся мы в этом отношении с течением времени» (там же).
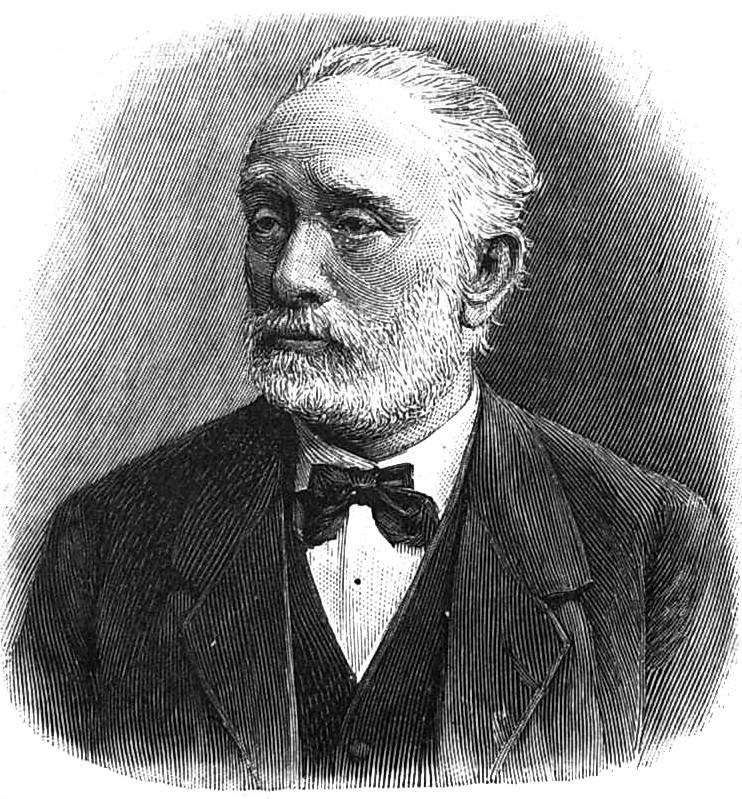
Несостоятельны также сделанные недавно некоторыми выдающимися естествоиспытателями предположения, что следует начертать пределы и для их науки. Наука не знает никаких границ, кроме заключающихся в самой ее предмете, и ничего не может быть глупее стремления установить заранее определенные, навсегда непреходимые границы для человеческого исследования (если только оно не ударяется в область сверхъестественного). Ибо тот, кто это делает, в свою очередь никогда не может стать выше знаний своего века и должен обладать даром провидца, чтобы иметь возможность судить таким образом о будущности познания. Если бы какому-нибудь ученому вздумалось тысячу или более лет тому назад утверждать, что люди никогда не дойдут до объяснения, что такое морская змея, какова природа демонов, никогда не узнают чего-нибудь более определенного о философском камне, о физических и химических свойствах отдаленных небесных тел, об устройстве движения вселенной, об истории возникновения Земли и ее границах, о естественном происхождении человека и органического мира, о жизненной силе, о быстроте мысли, о сущности нервного принципа и т. д., — то такое утверждение было бы для своего времени настолько же справедливым, как и важные речи современности о множестве так называемых «мировых загадок». Такая точка зрения, как уже сказано, может считаться правильной лишь постольку, поскольку вопрос касается причины всех вещей, но она неприменима к нашему исследованию внутренней связи их по ненарушимому закону причины и действия. «Нет более оскорбительного скептицизма», говорит Паж, «чем тот, который подвергает сомнению результаты честных и добросовестных наблюдений, и нет более грубой бесчестности, нежели та, которая оказывает недоверие выводам правильного и беспристрастного суждения».
Энтузиасты или фанатики незнания отличаются на свой лад такой же нетерпимостью, как фанатики веры, и тем опаснее их, что умеют носить личину беспристрастия, тогда как в действительности занятое ими среднее положение скорее объясняется смешной боязнью упрека в безбожии и недостатком мужества мыслить последовательно. Боятся мощного, освобождающего умы влияния естественных наук и пытаются, опираясь на старый, но поношенный философский авторитет, ограничить область этих наук одним только миром явлений, чтобы дать возможность старой философии и теологии тем беспрепятственнее хозяйничать в области духа. Но в действительности и при надлежащем свете знаменитое «Unknowable» или «Непознаваемое» современных агностиков или незнающих (точно так же, как близко родственное ему «Мы не узнаем» господина Дюбуа-Реймона, вызвавшее настоящий радостный вой всех обскурантов) есть не что иное, как старый добрый Господь Бог теологов, подвергавшейся в истории философии уже столь
многим обманчивым переодеваниям. Дело нисколько не изменится от того, окрестим ли мы его именем «Абсолюта» или «Субъект-объекта» (Шеллинг), «Идеи» (Гегель) или «Вещи в себе» (Кант), «Мировой души», «Мирового разума» или «Вечной силы» (натурфилософия), «Органинтеллекта» (И. Г. Фогт), «Непознаваемого» (Спенсер), «Воли» (Шопенгауэр), «Бессознательного». (Гартман) и т. д.; остается та же основная мысль, то же антропоморфистическое (очеловечивающее) искажение, то же Asylum ignorantiae (Убежище невежества) или то же темное существо, которое, будучи порождено первоначально страхом перед неведомым, господствовало уже над грубым первобытным человеком и будет господствовать также над образованными людьми, пока солнце познания и признание естественного, ни от чего не зависящего и существующего благодаря самому себе миропорядка не провозгласит истиною fiat lux! (да будет свет).
