
Первая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).
Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.
Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.
Определить, каких именно философов следует отнести к числу «идеологов», — задача отнюдь не лёгкая. Откройте Словарь Французской академии, и вы найдете очень неточные определения:
ИДЕОЛОГИЯ — наука об идеях, система, касающаяся происхождения и формирования идей: Трактат об идеологии.
ИДЕОЛОГ — тот, кто сводит всю философию к идеологии: глубокий идеолог. Иногда также говорят идеологист.
Если вы обратитесь к Литтре, который по своим философским симпатиям, казалось бы, заранее предрасположен к тому, чтобы дать нам точную справку, — вот что вы прочтёте в его Словаре:
ИДЕОЛОГИЯ:
1º Наука об идеях, рассматриваемых сами по себе, то есть как феномены человеческого духа: Лейбниц, считавший Локка столь слабым в области идеологии (Шатобриан, Гений христианства, III, II, 2);
2º В более узком смысле — наука, которая занимается формированием идей; затем — философская система, согласно которой ощущение есть единственный источник наших знаний и единственное основание наших способностей;
3º Теория идей у Платона..
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ — то, что имеет отношение к идеологии, ей принадлежит: Идеологические знания, идеологические истины.
ИДЕОЛОГИСТ — синоним идеолога: Наши современные идеологисты впали в атеизм (Б. де Сен-Пьер, Гармонии, V, 6)
ИДЕОЛОГ:
1º Тот, кто занимается идеологией: глубокий идеолог. Тот или иной писатель может оказаться изощрённым идеологом (Шатобриан, Гений христианства, III, II, 2); особенно тот, кто принадлежит к школе Кондильяка, вообще — метафизик;
2º В неблагоприятном смысле — философский и политический мечтатель.
Литтре, определяя смысл каждого из этих слов, ссылается исключительно на противников идеологии. Он даже не упоминает Дестюта де Траси — изобретателя слова «идеология», и не различает идеологиста (термин, употреблявшийся Траси и Кабанисом) и идеолога, слово, используемое с пренебрежением Шатобрианом и Наполеоном. Наконец, он, по-видимому, применяет оба выражения к тем, кто принадлежит к школе Кондильяка
Именно с этой последней точки зрения также выступает Дамирон. Он относит Кабаниса, Д. де Траси, Гара, Вольнея, Ланселена, Бруссе, Галля и Азайса к «школе ощущений, к сенсуалистской школе или к числу защитников идеологии и учеников Кондильяка, чьи доктрины были развиты Институтом». Автор статьи «Идеология» в Философском словаре определяет идеологию как «науку об идеях, рассматриваемых сами по себе, то есть как простых феноменах человеческого духа». Но и для него, в узком смысле слова, идеология — это «наука об идеях, в том смысле, как её понимала школа Кондильяка». Включая в эту школу Дестюта де Траси, Кабаниса, Гара, Вольнея, он считает, что Ларомигьер едва ли может быть назван идеологом, а Дежерандо и Биран — только в какой-то момент. Тем не менее, он ясно видит, что идеология, «союзница Французской революции, рождается вместе с ней и растёт рядом с нею»; что её представители — это одни и те же люди, что заседают в Конвенте и в Институте; что большинство из них встречаются в Отёе у мадам Гельвеций.
Что же подразумевал под идеологией сам Дестют де Траси? В своих первых «Мемуарах» он показывал, что знание о порождении наших идей является основой грамматики, логики, просвещения и воспитания, морали и политики. Затем, критикуя выражения «анализ ощущений и идей», слова «метафизика» и «психология», он предлагал обозначить науку, которой специально занимается вторая секция (Института), словом идеология — буквальным переводом выражения наука об идеях. Так, говорил он, будет указано, что стремятся познать человека исключительно через анализ его способностей, и что готовы игнорировать всё то, что этот анализ не позволяет открыть. И он добавлял, что, составив первую секцию из аналитиков и физиологов, они стремились исследовать эти способности во всех отношениях — что осуществилось бы ещё лучше, если бы к ним были добавлены грамматисты.
Ничто в этих пояснениях не даёт основания отождествлять учения идеологов с учением Кондильяка. Можно ли, однако, дополнить в этом смысле определение, данное Дестютом де Траси?
Нельзя видеть в философах, ставших знаменитыми особенно после 1789 года, учеников Кондильяка — так следует полагать уже априори, если помнить, что Кондильяк не был — как мы полагаем, уже доказали это — единственным философом XVIII века. Если Кабанис, по-видимому, указывает, что Гара, де Траси, Ланселен, Дежерандо, Ларомигьер, Жакмон, Биран — ученики Кондильяка, нельзя забывать, что Кабанис критикует Кондильяка, и в других местах ссылается на Гельвеция и Бюффона, на Бонне и энциклопедистов, «которые подготовили господство истинной морали и освобождение рода человеческого». Кроме того, как справедливо заметил Сент-Бёв, Кабанис писал это предисловие около 1802 года, и выставлял Кондильяка на первый план потому, что тот никогда не писал ни против души, ни против Бога — он был более «приемлемым» и явным наставником, чем Гольбах, Дидро и даже Кондорсе. Немного позже, впрочем, Дестют де Траси высказался по этому вопросу с предельной ясностью, не оставляющей ничего недоговорённым:
«Немцы, — говорил он, рассуждая о философии Канта, — воображают, будто мы все в области метафизики — ученики Кондильяка, так же как они — Канта или Лейбница… Они не знают, что среди тех, кто, подобно ему, ограничивается изучением идей и их знаков, исследованием их свойств, из которых они выводят некоторые следствия, возможно, нет ни одного, кто бы без оговорок принимал грамматические принципы Кондильяка, или кто был бы вполне удовлетворён его способом анализа наших умственных способностей, или кто не находил бы поводов для возражений против его рассуждений… Мы придаём значение не выводам Кондильяка, а методу… Эта методика учит нас, почему мы не можем создавать системы… Она состоит в том, чтобы наблюдать факты с предельной добросовестностью, выводить из них следствия только при полной уверенности, никогда не принимать простые предположения за факты, соединять между собой истины лишь тогда, когда они естественно и без пробелов вытекают одна из другой, откровенно признавать, чего мы не знаем, и неизменно предпочитать полное неведение всякому утверждению, которое лишь правдоподобно… Сегодня мы, французы, в идеологических, моральных и политических науках не признаём ни одного главы школы, не следуем ни за чьим знамением. Каждый, кто ими занимается, имеет свои сугубо независимые мнения; и если они сходятся во многих пунктах, то это всегда происходит без всякого намерения, нередко — без их ведома и подчас даже без их уверенности в том, что это действительно так».
От Наполеона, который способствовал популяризации самого слова, не стоит ожидать точного определения термина «идеолог». Ведь Наполеон пользовался этим эпитетом, как и выражением «туманный метафизик», чтобы обозначить тех, кто пытался отстаивать свободу против него самого. Если он и сказал Талейрану, как утверждают, относительно курса, открытого Руайе-Колларом: «Знаете ли вы, что в моём Университете зарождается новая философия, весьма любопытная, которая, возможно, прославит нас и избавит нас от идеологов, убив их на месте с помощью рассуждения», — мы не найдём в этом высказывании ничего нового, поскольку Руайе-Коллар излагал Рида, критиковал Кондильяка и даже Декарта, иногда Локка и Гельвеция, но не говорил о современниках, на которых намекал Наполеон. Однако нам известно, что на одном официальном приёме император подошёл к Луи де Фонтану и сказал: «Фонтан,… великий магистр Университета… позитивность…, монархичность…, никакой метафизической…, идеологической чепухи», — добавил он, бросив взгляд на Дестюта де Траси. Таким образом, мы снова возвращаемся к Дестюту де Траси и вынуждены включить в «школу» всех тех, кто принимает это новое слово и науку, которую оно обозначает — всех, кто продолжает философские традиции XVIII века, такими, какими мы постарались их здесь представить.
Таким образом, рядом с Дестютом де Траси нужно поставить Вольнея и Гара, Дону и Кабаниса, Ларомигьера, Рёдерера и Сийеса — тех, кто вошёл в Институт с момента его основания, кто присоединился позже, чтобы работать над «наукой об идеях», или же тех, кто в соседнем классе содействовал общей задаче; затем — тех, кто участвовал в конкурсах, организованных второй секцией: Дежерандо и Ланселена, Прево, Ампера и Бирана; наконец — тех, кто познакомил публику с доктринами, выдвинутыми Кабанисом, де Траси и их современниками, кто сохранял их и защищал, когда они подвергались нападкам, — то есть Тюро, Форьеля, Бруссе, Кардайяка, Валетта, Сафари, Стендаля и др. Лишь немногие из тех, о ком мы будем говорить, отвергли бы название идеологиста — хотя мы всё же предпочитаем термин идеолог, более употребительный сегодня. Что касается каждого из тех, к кому такое наименование может на первый взгляд показаться неприменимым, мы приведём основания, по которым решили его использовать.
Но прежде чем перейти к изучению тех персон, которым мы посвятим отдельное внимание, считаем полезным кратко обозначить, какое политическое влияние оказывали эти философы, чьи учения возникли одновременно с Революцией и развивались вместе с ней; какие особые общества они между собой образовали; как функционировал Институт, «развивавший идеологические теории»; Центральные школы, призванные преподавать искусства и науки, «усовершенствованные Институтом»; Специальные школы, принимавшие учеников Центральных; Нормальные школы, созданные, чтобы готовить преподавателей для этих учебных заведений; и наконец, как эти доктрины распространялись и защищались в печати — прежде всего через «Философскую декаду», которая для этой школы играла в прессе ту же роль, что Институт — среди учёных обществ.
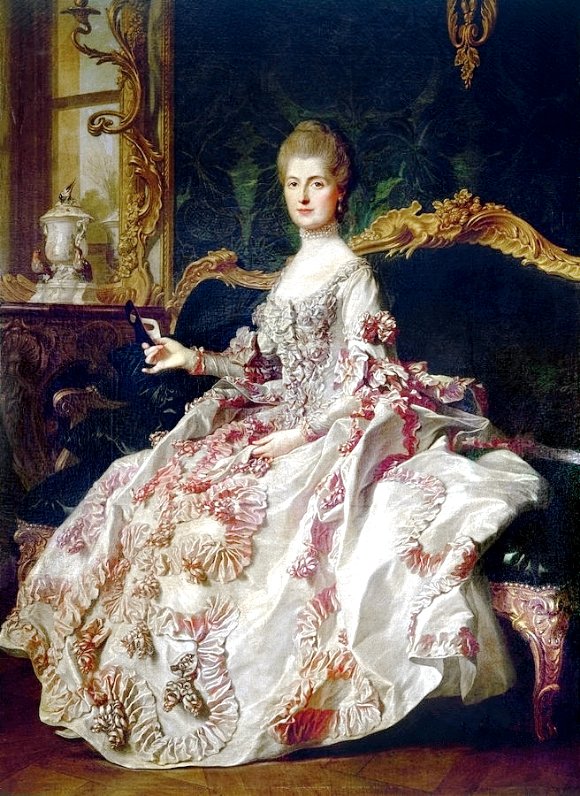
— I —
Политические собрания; Отёй и улица Бак
Чтобы изложить историю политических собраний, сменявших друг друга во время Революции, и конституций, которые они предлагали Франции, пришлось бы одновременно показать влияние философов XVIII века в ту эпоху, и роль их преемников — идеологов. Сийес, Вольней, Гара, Талейран, Рёдерер, Дестют де Траси, Грегуар, Дюпон де Немур, Брийя-Саварен и др. заседают в Учредительном собрании. Сийес, Мунье (который впоследствии будет защищать философию), Талейран входят в Конституционный комитет; Рёдерер, Талейран и Дюпон де Немур — в Комитет по налогообложению. Кабанис — друг и лечащий врач Мирабо; Дону представляет Ассамблее план образования; Кондорсе участвует в работе Библиотеки общественного деятеля и Деревенского листка. Кабанис составляет для Мирабо труд по народному образованию, а Талейран — автор знаменитого доклада на ту же тему.
«Декларация прав» свидетельствует о доверии к разуму и истине, напоминающем дух Декарта и XVIII век. «Невежество, — говорится там, — забвение или презрение к правам человека, это единственные причины общественных бедствий и порчи правительств». Как ученики Декарта и Кондильяка, депутаты Учредительного собрания желают, чтобы требования граждан основывались «на простых и неоспоримых принципах»; с Гельвецием и Гольбахом они хотят, «чтобы эти требования вели… к счастью всех». Но они следуют за Вольтером и Руссо, когда «признают права человека в присутствии и под покровительством Верховного Существа». С Гельвецием и Гольбахом они вновь утверждают, что «социальные различия могут быть основаны только на общественной пользе». Как Руссо, они помещают суверенитет в нации и провозглашают его «единым, неделимым, неотчуждаемым и неустранимым». Они провозглашают свободу вероисповедания и труда, которых требовали Вольтер, Монтескьё и Тюрго; устанавливают «наказания строго и очевидно необходимые», как на этом настаивали Монтескьё, Вольтер, Гельвеций и Беккариа. По примеру Тюрго, они отменяют цехи и корпорации. Они разделяют властные функции в духе Монтескьё и постановляют, что Конституция будет представительной. Сам Людовик XVI говорит как ученик Руссо, Гольбаха и Гельвеция: «Он более не мог признавать в законах волю народа, когда повсюду видел, что они лишены силы и не исполняются… он задумал проект обеспечить счастье народов на прочных основах». (Письмо в Ассамблею, 1791 г.)
В Законодательное собрание входят Франсуа де Нёфшато и Кондорсе, который там представляет свой доклад об общественном образовании. Рёдерер занимает пост генерального прокурора-синдика Сены, Дону — викарий епископа Арраса, а затем митрополичий викарий Парижа, Сийес — член директории департамента Сены, Талейран — также член этой директории и посол в Англии. Дестют де Траси командует кавалерией в армии Лафайета. В Конвенте заседают Кондорсе, Сийес, Шенье, Лаканаль, Дону, Дюпюи и др. 16 февраля 1793 года Кондорсе от имени Конституционного комитета вносит проект Декларации прав и Конституционного акта, который, будучи изменён после суда над Людовиком XVI и процесса жирондистов, станет Конституцией 1793 года. В своём докладе Эро говорит, подобно депутатам Учредительного собрания, но вдохновляясь в равной мере Мальбраншем, как Декартом или Кондильяком, что «чем более взволнован народ, тем важнее предлагать его согласию лишь аксиомы разума или, по крайней мере, первые следствия этих аксиом, неотразимых и чистых, как свет, из которого они исходят». Он пытается примирить Руссо с Монтескьё, утверждая, что «конституция не менее демократична, чем представительная», и счёл бы себя счастливым, если бы ему удалось решить задачу, поставленную Руссо — найти форму правления, «которая бы сжималась по мере расширения государства». Больше, чем когда-либо, звучат уверенные утверждения о могуществе разума. Уже речь идёт не только о порочности правительств — источником бед всего мира теперь объявлены забвение и пренебрежение естественными правами человека. Поэтому провозглашается, что образование — это потребность всех, которую общество должно всеми силами поддерживать, способствуя прогрессу общественного разума и делая обучение доступным каждому гражданину. Комитеты общественного спасения и общей безопасности, а также часто повторяемое утверждение, что «всё становится законным и даже добродетельным во имя общественного спасения», напоминают Гельвеция. Определения свободы, наказания, суверенитета отсылают нас к Вольтеру, Монтескьё, Руссо и Беккариа. Статья, по которой «гарнизоны городов, где происходят контрреволюционные выступления, будут содержаться и оплачены богатыми жителями этих городов до наступления мира», реквизиции, максимум цен — всё это вызывает в памяти Мабли и других социалистических теоретиков.
Во время Террора Гара, будучи министром юстиции, зачитал Людовику XVI приговор о смертной казни; Вольней и Дону были заключены в тюрьму; Сюар размышлял в заточении над рукописью «Язык исчислений»; Дестют де Траси систематизировал там свои идеи, Женгене философствовал. Талейран был обвинён, Рёдереру пришлось скрываться, Кабанис держался в стороне, служа в госпитальных комиссиях; Сийес довольствовался тем, что просто жил; М.-Ж. Шенье не смог спасти своего брата, а Кондорсе избежал гильотины, но лишь приняв яд.
После 9 термидора Дону, Шенье, Лаканаль, Сийес в Комитете народного просвещения учреждают начальные, Нормальные и Центральные школы, Школу живых восточных языков, Бюро долгот и сам Институт. Боден, Буасси д’Англа, Крезе-Латуш, Дону, Ланжюнэ, Ларевейер-Лепо входят в комитет, ответственный за пересмотр конституции 1793 года. Дону вместе с Баррасом входит в комиссию, руководившую борьбой 13 вандемьера против восставших секций. В конституции III года видно, что опыт уменьшил доверие. Невежество, забвение и презрение к правам больше не считаются единственными причинами наших бед: культ, воздававшийся Богине, охладил пыл тех, кто ожидал всего от Разума. Более того, законодатели сочли необходимым напомнить о долге человека после того, как перечислили его права, потому что «если декларация прав содержит обязательства законодателей, то для поддержания общества необходимо, чтобы его члены знали и исполняли свои обязанности». И они настаивают на необходимости подчиняться законам (ст. 3, 5, 6, 7) и уважать собственность, настолько быстро народ, получивший пять лет назад свои права, научился пренебрегать своими обязанностями! У Руссо и Вольтера, но также и у христианства они заимствуют «два принципа, запечатлённые природой в каждом сердце», от которых происходят все обязанности человека и гражданина: не делай другому того, чего не желаешь себе; постоянно делай другим то добро, которое хотел бы получить сам. Однако они повторяют ранее данные определения свободы, закона, наказаний, суверенитета, ссылаются на общее благо, на счастье народа и настаивают на разделении властей. Хотя они и остаются учениками Руссо, кажется, они понимают, что следует требовать от избирателя определённых способностей, а также удостовериться, что, будучи способен обеспечивать себя трудом, он не будет искушён искать средства к существованию в торговле своими правами. Молодые люди (ст. 16) не могут быть внесены в гражданский реестр, если не докажут, что умеют читать и владеют одной из механических профессий, включая занятия сельским хозяйством.
При Директории происходит организация Института, центральных и специальных школ. Ларевейер-Лепо, Франсуа де Нёфшато, Сийес были директорами; Талейран — министром иностранных дел; Сийес, Гара, Женгене, Дону, Лаканаль были отправлены в командировки. В двух Советах заседали Дону, Шенье, Кабанис, Камий Жордан, Порталис, Биран, Женгене, Дюпюи, Лаканаль.
18 брюмера Бенжамен Констан сближает Сийеса и Рёдерера, который, вместе с Талейраном, выступает посредником между первым и Бонапартом; Вольней активно действует на Кабаниса, Шенье и других республиканцев из Отёя. В состав исполнительной консульской комиссии входят Бонапарт, Сийес и Роже Дюко. В составе законодательных комиссий и секций, разрабатывающих новую конституцию мы видим Дону, Шенье, Кабаниса и Гара. В правительстве, вышедшем из 18 брюмера, Гара, Сийес, Вольней, Дестют де Траси, Кабанис, Грегуар, а позднее Рёдерер заседают в Сенате; Биран, Дюпюи, затем Галлуа — в Законодательном корпусе; Бенжамен Констан, Дону, Ларомигьер, Шенье, Женгене, Дезрено, Жакмон, Галлуа и Ж.-Б. Сэй — в Трибунате; Порталис ведает делами вероисповедания, Рёдерер — народного образования. Дезрено входит вместе с Лежандром, Эмери, Кювье и де Боналем, Ноэлем и Вийяром в Совет Университета. Ампер, Руайе-Коллар, Лепрево д’Ирэ, Изарн — генеральные инспекторы. Дежерандо, сначала генеральный секретарь Министерства внутренних дел, исполняет различные административные функции.
Если исследовать Конституцию 1799 года и изменения, которым она подверглась вплоть до 1814 года, то историк увидит, что Революция пошла в обратном направлении по сравнению со своими первыми годами. В VIII году (1799) ограничиваются тем, что говорится: конституция основана на подлинных принципах представительного правления, на священных правах собственности, равенства, свободы; но уже главное внимание уделяется созданию сильной и стабильной власти, такой, какая необходима для защиты прав граждан и интересов государства. Декларация прав исчезает. Сенатское собрание от 14 термидора X года (2 августа 1802 года) ярко выражает национальную благодарность победителю и умиротворителю, наделяет правительство всей необходимой стабильностью во имя независимости, процветания и славы Республики. Первый консул назначает председателей собраний кантонов и избирательных коллегий, клянётся соблюдать конституцию, уважать свободу совести и противостоять возвращению феодальных учреждений, никогда не вести войну иначе как ради защиты и славы Республики, использовать власть, которой он наделён, только ради счастья народа, от которого он её получил и ради которого ею пользуется. Он имеет право назначать в Сенат граждан, отличившихся своими заслугами и талантами, даже если они не были представлены департаментскими коллегиями; он имеет право на помилование. Трибунат сокращён до пятидесяти членов. В XII году (1804) Наполеон становится императором французов: императорское достоинство становится наследственным по прямой, естественной и законной линии потомства по мужской линии, по праву первородства, с постоянным исключением женщин и их потомков. Учреждаются французские принцы, члены Сената и Государственного совета с восемнадцатилетнего возраста, императорские дворцы, великие сановники, одновременно сенаторы и государственные советники: великий выборщик, архиканцлеры Империи и Государства, архиказначей, коннетабль, великий адмирал; великие офицеры, назначаемые пожизненно. Император клянётся сохранять целостность территории Республики, уважать и обеспечивать уважение к законам Конкордата и свободе вероисповеданий, уважать и обеспечивать уважение к равенству прав, политической и гражданской свободе, необратимости продаж национальных имуществ, не взимать налоги и не устанавливать сборы иначе как на основании закона, сохранять учреждение Почётного легиона, управлять исключительно ради интереса, счастья и славы французского народа. Он назначает сенаторами «тех, кого сочтёт достойными этого звания». Если существует сенаторская комиссия по свободе личности, она рассматривает случаи ареста только на основании информации, полученной от министров. Точно так же сенаторская комиссия по свободе печати не ведает произведениями, которые печатаются и распространяются по подписке и периодически. Наконец, в начале исполнительных копий судебных решений, обнародованных законов появляется знаменитая формула: «по милости Божией и Конституциям Республики, N… император французов, всем настоящим и грядущим — привет».
Поэтому мы не слишком удивлены, что после падения императора, которому идеологи — республиканцы и роялисты, такие как Дестют де Траси, Биран и др. — не простили его абсолютистских стремлений, Людовик XVIII именует себя королём Франции и Наварры по милости Божией, одновременно гарантируя определённое число прав, провозглашённых Учредительным собранием и нарушенных Наполеоном: налогообложение с согласия, свобода личности и публичной жизни, свобода печати и вероисповедания, ответственность министров, независимость судебного корпуса и т. д. Хартия 1814 года начинается с декларации публичных прав французов. Хотя она и ограничена по многим пунктам и представлена как «дар», «жалование», сделанное добровольно и по свободному усмотрению королевской власти, она показывает, насколько нужно было считаться с идеями, которые восторжествовали в 1789 году. Это также подтверждает Дополнительный акт к Конституциям Империи. Нацеленный на увеличение благосостояния Франции посредством укрепления общественной свободы, он содержит специальный раздел, в котором перечисляются права граждан.
Упомянем ещё, чтобы дополнить картину различных перипетий, через которые прошли идеи, выработанные в XVIII веке, закон о правах французской нации, принятый палатами в 1815 году. В нём мы снова находим: суверенитет народа, разделение властей, ответственность министров, свободу печати и вероисповедания, начальное образование, «необходимое для познания прав и обязанностей человека в обществе, предоставляемое бесплатно всем слоям народа», гарантию права петиций, государственной помощи и т. д.
Известно, впрочем, что именно по инициативе Дестюта де Траси было провозглашено отрешение Наполеона от власти, а по предложению Лафайета палата объявила себя в состоянии постоянного заседания.
Во время Реставрации Дестют де Траси и Вольней остались в Палате пэров; Бенжамен Констан, Биран, Дону, Камиль Жордан, Грегуар были депутатами. Талейран руководил переговорами после падения Наполеона; Дежерандо стал государственным советником; Ларомигьер продолжал преподавать на факультете литературы, где его помощником был Тюро. Ампер читал лекции на факультете литературы и в Коллеж де Франс, где также преподавали Андриё и Дону, защищавшие школу (идей) от нападок Кузена и его учеников.
Революцию 1830 года с радостью приветствовали Дону, Дестют де Траси, Тюро, Лаканаль и Жакмон. Уцелевшие члены старой Академии моральных и политических наук присутствовали при её восстановлении: Дестют де Траси, Бруссе, Ларомигьер, Дону, Рёдерер, Талейран, Дежерандо, Дроз, Лаканаль — все они защищали идеологию.
Мы снова находим Дону в Палате депутатов, Дестюта де Траси и Дежерандо — в Палате пэров. Политическое влияние школы продолжало ощущаться и в 1848 году: Арман Марра стал заметной фигурой в истории Второй республики.
Помимо политических собраний, идеологи устраивали и другие, в частности, в Отёе и на улице Бак, где они в своих беседах обсуждали все литературные, художественные, философские и социальные вопросы, волновавшие философов XVIII века, и всё ещё интересовавшие их современников.
Именно в Отёе, мадам Гельвеций, после смерти своего мужа, собирала у себя д’Аламбера, Тома, Кондильяка, Тюрго, Франклина, Мальзерба, Кондорсе, Гольбаха, Шамфора, Морелле, Кабаниса, Дестюта де Траси, Тюро, Вольнея, Гара, Шенье, Женгене, Дону. Именно у неё Франклин сказал Кабанису и Вольнею, оба из которых были молоды и полны пыла: «В этом возрасте душа — снаружи, а в моём — внутри: она смотрит в окно на шум прохожих, не принимая участия в их ссорах». После смерти мадам Гельвеций в 1800 году её дом перешёл к Кабанису. Вместе с хозяином дома, который был душой этих собраний, встречались Дестют де Траси и Вольней, Гара и Сийес, Ларомигьер и Дону, Дежерандо, Тюро и Андриё, Женгене и Форьель, а иногда, когда бывали в Париже, — Биран, Дроз, Ампер и Мандзони, внук Беккария.
Во времена Директории Гара, Кабанис, де Траси, Тюро, Галлуа, Жакмон, Лебретон, Ларомигьер, Шенье, Андриё, Женгене, Бенжамен Констан и Дону обедали на третий день каждой недели у трактирщика на улице Бак и обсуждали там политику, литературу или метафизику. В 1802 году Кабанис и Шенье, через посредничество Жакмона, тогдашнего начальника бюро наук в Министерстве внутренних дел, вступили в сговор с Моро, чтобы свергнуть первого консула, который уже почти полностью уничтожил свободу. Фуше, выйдя на след этого заговора, дал понять Кабанису и его друзьям, что он осведомлён. Обеды по третьему дню декады прекратились, и друзья с тех пор регулярно встречались только на собраниях в Отёе.
— II —
Нормальные, центральные и специальные школы
Конвент, желая, как говорил Лаканаль, уничтожить неравенство в просвещении, распространив анализ на все виды идей и во все школы, заранее учредил Нормальные школы, чтобы «подготовить большое число учителей, способных воплотить в жизнь план, цель которого — регенерация человеческого разума». В этих школах следовало изучать не науки, а искусство преподавания наук. В этом «семинарии природы, истины, разума и философии» самые выдающиеся в любой области науки и таланта, люди с европейской известностью, должны были стать «первыми школьными учителями народа». Граждане, назначенные конституционными властями, «уже исполненные любви к науке, которую они будут постигать», — добавлял Лаканаль, — придут получать эти великие уроки. Как только эти курсы искусства преподавания человеческих знаний завершатся в Париже, они отправятся повторять их повсюду, где Республика будет открывать нормальные школы. Разум человека, повсеместно развиваемый одинаково просвещённым усердием, — продолжал Лаканаль, — даст повсюду одни и те же результаты, и этими результатами станет «воссоздание» человеческого разума у народа, который должен стать примером и образцом для всего мира.
Преподавателями были все выдающиеся люди, некоторые из них — учёные первого ранга. Вольней преподавал историю, Б. де Сен-Пьер — мораль, Сикар — грамматику, Гара — анализ разума, Лагарп — литературу, Бюаш и Мантель — географию, Добантон — естественную историю, Гаюи — физику, Бертолле — химию, Лаплас и Лагранж — математику, Монж — описательную геометрию.
Каждое преподавание включало курсы, на которых профессора, «подготовившие свои идеи, но не свои речи», должны были «излагать свои идеи»; конференции, на которых слушатели представляли своим наставникам трудности, которые те решали прямо на месте, или же сами задавали вопросы, на которые тут же давали ответ. «Цель Нормальных школ, — говорится в предисловии, которое предваряет Сеансы, записанные стенографистами, — это образование граждан республики, в которой слово будет иметь большое влияние, а то и силу». Открытие этих школ, размещённых в Якобинском клубе на улице Сен-Оноре, состоялось 1 плювиоза в амфитеатре Музея естественной истории под председательством Лаканаля и Делера. Школы были закрыты 30 флореаля.
Нормальные школы были весьма строго оценены, как и большинство учреждений Конвента. «Лекции, — говорил Кузен, — были скорее академическими речами, чем конференциями, способными чему-либо научить». — «Перевезти в Париж, — говорит г-н Альбер Дюруи, — тысячу четыреста молодых людей разного возраста, из самых разных мест, не подвергнув их серьёзному экзамену, — это уже само по себе было весьма рискованно. Оставить их на свободе, посещать лекции или нет, значило подвергнуть себя риску остаться лишь с несколькими добровольными слушателями. К тому же, — добавляет он, — большинство курсов едва ли были приспособлены для привлечения юношей, чьи первоначальные знания, как правило, ограничивались лишь некоторыми понятиями о грамматике и арифметике. С точки зрения преподавания, как и с точки зрения дисциплины, — заключает он наконец, — Нормальная школа III года [республики] никоим образом не соответствовала замыслу, из которого она родилась; быть может, со временем она пробудила бы несколько научных призваний, но она была неспособна дать Республике тех преподавателей, в которых она нуждалась».
Чтобы вынести окончательное и точное суждение, следовало бы, наряду с двенадцатью томами, содержащими курсы и конференции, иметь список этих тысяча четырёхсот учащихся из департаментов с достаточно подробной биографией каждого, чтобы определить, что он знал, поступая в Нормальную школу, и чего достиг впоследствии. Следовало бы судить о самих лекциях и дискуссиях, затем оценить их с учётом слушателей, к которым обращались преподаватели, и, наконец, попытаться показать, какое влияние они оказали на их интеллектуальное развитие.
Не предпринимая этой работы, которая вывела бы нас за рамки, которые мы себе наметили, мы отметим прежде всего, что Кузен и Альбер Дюруи — политические и философские противники идеологии, чьим суждениям следует противопоставить строгую проверку. Современники оставили совершенно иные оценки. Женгене объявлял в своей газете «Декада», что Гара, который придал истории в Лицее новую структуру, кажется предназначенным для того, чтобы подняться ещё выше и, быть может, отодвинуть границы той карьеры, в которую он вступает после стольких великих людей. И Жан-Франсуа Тюро говорил в своём Предварительном дискурсе к переводу «Гермеса» Харриса, что он почерпнул в лекциях Гара зародыш той важной истины, которую он развивает. Прево из Женевы, чьё свидетельство совершенно бескорыстно, говорил в том же духе и, как говорит Женгене, «восстанавливал справедливость в отношении Нормальных школ, которые почти в равной мере пострадали от холодности и несправедливости».
Дону, на которого иногда ссылались, чтобы осудить эти школы, говорил о них в самых хвалебных выражениях: «В этой обширной и знаменитой школе, — говорит он, — профессора, почти все выдающегося уровня, насчитывали среди своих многочисленных слушателей множество литераторов и весьма выдающихся учёных; несколько из этих учеников (так их называли) с почётом занимались, а иногда и развивали определённые науки; они уже были или могли стать весьма искусными наставниками». Кабанис также говорил, что эта Школа, где одновременно можно было услышать Лагранжа, Лапласа, Бертолле, Монжа, Гара, Вольнея, Гаюи и др., была настоящим феноменом во время своего создания, и что она отметит собой целую эпоху в истории наук. Био, которого позже хвалил, как христианина первых времён, граф Шамбор, писал в IX году (30 флореаля) в Décade, что «в течение нескольких последних лет преподавание наук полностью изменило свой облик, и именно Нормальной школе мы обязаны этим усовершенствованием». Сен-Мартен, которого слишком часто представляли как противника Гара, не принимая во внимание его восхищения Революцией, считал за честь быть посланным своим дистриктом в Нормальную школу и «гордился столь новым для истории народов занятием, карьерой, от которой может зависеть счастье стольких поколений». Если впоследствии он и был более строг, то потому, что он «видит в этом чистый дух мира, и тот, кто прячется под этой мантией… — потому что он может говорить только раз или два в месяц и лишь по пять или шесть минут перед двумя тысячами человек, которым надо бы заново отформатировать слух». Более того, говорили — и не без основания — что Сен-Мартен в Нормальной школе стал лучшим философом, чем сам думал. И сам он, на мгновение задумавшись попросить кафедру истории в Центральной школе Тура, вряд ли казался критиком системы преподавания, организованной в ту эпоху.
Наконец, в одном университетском журнале — Lycée, который охотно хвалит Руайе-Коллара и Кузена, — мы встречаем следующую оценку: «Центральные школы, фрагмент идеального здания, фундаменты которого так и не были заложены… и особенно первая Нормальная школа, вышедшая из самых недр Революции, вся блистающая гением и светом, как солнце из недр хаоса и ночи, — достаточно свидетельствуют, что та эпоха была вовсе не чужда высшим потребностям духа и самым возвышенным замыслам разума».
Насколько нам известно, никто не оспаривал ценность профессоров. Напомним, впрочем, что Монж изложил там впервые идеи, которые ему до сих пор приходилось скрывать из патриотических соображений; что Лаплас обнародовал достигнутые им результаты по исчислению вероятностей. Что касается учеников, то они должны были быть не моложе двадцати одного года, и, как говорил Дону, многие из них были литераторами и весьма выдающимися учёными. Среди тех, чьи имена опущены в отчётах о заседаниях, встречаются такие, кто возражает Гаюи (24), что начинать с принципов — противоречит аналитическому подходу; кто цитирует Монтескьё в споре с Сикаром (108), чтобы доказать, что глухонемой — это не «естественный человек»; кто спрашивает у Лагарпа, начинается ли для французов эпоха Нового времени с Декарта или с Корнеля (114). Другие выражают сожаление, что Декарт не фигурирует среди великих аналитиков человеческого разума, цитируют Юма в разговоре с Вольнеем (165), усматривают противоречие между тем, что говорит Сикар, и тем, что писал Кондильяк (414), или ссылаются — по вопросу об употреблении обращения на «ты» — на Кондильяка и Гедике из Берлинской академии. Нам известны Мюр и Тесседр, защищающие метод и доктрину Декарта; Дюамель, который возражает против «статуи-человека» Кондильяка; Жерюзе, который прерывает Монжа возражением, основанным на Кондильяке; Рулле, директор Полисофской школы в Нанте и впоследствии профессор Центральной школы в Ванне; Ж.-Ж.-Г. Левек (J.-J.-G. Lévesque), который ещё до закрытия школ публикует «Опыт о способе писать и изучать историю»; Жеди-Дюгур, который в то же время издаёт «Историю Кромвеля»; Тюро и Ларомигьер; Сен-Мартен и Бугенвиль — «шестидесятилетний и старейший по возрасту среди всех, кого прислали округа, бывший командующий эскадрой, трижды совершивший кругосветное плавание и открывший остров Таити». Если допустить, что в деле обучения различие между наставниками и соучениками больше способствует воодушевлению учеников и развитию их духа, нежели сами лекции, то легко будет поверить, что Нормальные школы, хотя и быстро закрытые, оказали глубокое воздействие — влияние, важность которого трудно переоценить — на интеллектуальную культуру нашей страны.
Представляется, кроме того, что значительная часть учеников Нормальных школ стала преподавателями в Центральных школах. Мы уверены в этом по отношению к Жерюзе, Рулле, Жеди-Дюгуру, Ларомигьеру, Дюамелю, Био, Тюро и др. Кроме того, Добантон опубликовал свою «Систематическую таблицу минералов», сопроводив её письмом «профессора прежних Нормальных школ к профессору естественной истории одной из Центральных школ». Био утверждал, как мы уже видели, что прогресс, достигнутый за последние годы в преподавании наук, был обязан именно Нормальной школе. Поэтому, чтобы судить о Нормальных школах, необходимо также рассмотреть, чем были Центральные школы.
Заметим, впрочем, что весьма странно видеть, как поклонники Нормальной школы, основанной Наполеоном, осуждают ту, что ей предшествовала! Профессора, то есть преподаватели факультетов наук и словесности, — либо бывшие наставники прежних Нормальных школ, как, например, Гаюи, либо их ученики и преемники — Лакруа, Жоффруа Сент-Илер, Био, Ларомигьер, — либо люди, не оставившие особенно громкого имени: Дине, Франкёр, Дефонтен, Миллон, Лакретель и др. Что касается учеников, то они поступали на отделение словесности, не изучив философии, отсюда и объясняются пробелы, которые обнаруживаются в трудах тех, чьи имена дошли до нас. Если они знали латинский и греческий, никто из них, несомненно, не знал их лучше, чем Жеди-Дюгур, Рулле, Ларомигьер или Тюро.
Нормальные школы, — говорил Лаканаль, — возвестили Франции о завершении образования, которое может быть достигнуто лишь в Центральных школах. Декрет 7-го вантоза предписывал учреждение одной школы на 300 000 жителей; ей полагались преподаватели математики, экспериментальной физики и химии, естествознания, сельского хозяйства и торговли, метода наук или логики и анализа ощущений и идей, политической экономии и законодательства, философской истории народов, гигиены, ремёсел и профессий, общей грамматики и изящной словесности, древних языков, живых языков и рисования. Согласно декретам от 11 вантоза и 18 жерминаля, должно было быть основано пять Центральных школ в Париже и девяносто шесть — в департаментах. Закон от 3 брюмера IV года учредил по одной Центральной школе в каждом департаменте. Обучение делилось на три отделения: первое включало рисование, естествознание, древние и живые языки; второе — математику, физику и химию; третье — общую грамматику, изящную словесность, историю и законодательство. Преподаватели по своему жалованию приравнивались к администраторам департаментов.
Центральные школы могут быть ныне оценены беспристрастно не больше, чем Нормальные школы. Подобно последним, подвергшимся чрезмерным нападкам со стороны противников, и чрезмерной похвале со стороны сторонников Революции, они ещё никогда не были предметом изучения, основанного на достаточных данных. У нас нет, для каждой из них, списка преподавателей, которые там преподавали. Мы не знаем, что каждый из них знал и чего стоил, кем он был до учреждения этих школ и кем стал после их закрытия. У нас недостаточно сведений о студентах, посещавших их; мы не знаем, какое влияние оказало на формирование их ума и характера обучение, полученное ими там. Благодаря любезности господина Жюля Готье, нам удалось через Revue de l’enseignement secondaire et supérieur (Обзор среднего и высшего образования) обратиться с призывом, который не остался без ответа. К сожалению, лица, занявшиеся поисками сведений, не всегда получали помощь со стороны архивистов — либо плохо знакомых с документами, касающимися революционного периода, либо нерасположенных разрешить использование материалов, которые они, впрочем, и сами не публикуют. Не в силах написать полную историю Центральных школ, мы можем, тем не менее, на основе полученной информации, либо лично собранной, либо переданной нам, показать — на примерах, взятых из различных регионов, где лицеям сегодня придаётся весьма различное значение, — что в целом Центральные школы делают честь своим основателям и особенно что они могли бы, если бы не были упразднены, привести к победе идеи, дорогие идеологам.
Департаменты, составляющие ныне Академию Лилля, насчитывали пять Центральных школ: в Суассоне, Межьере, Амьене, в департаменте Нор, чья школа, первоначально расположенная в Мобёже (3 брюмера VI года), была перенесена в Лилль 7 апреля 1796 года, и в департаменте Па-де-Кале, где она находилась в Аррасе. К этим школам можно добавить школы в Брюсселе (Диль), Генте (Эскот), Люксембурге (Леса), Монсе (Жеммап), Брюгге (Лис), Маастрихте (Нижняя Маас), Антверпене (Два Нетта), Льеже (Урт), Намюре (Самбра и Маас). Не существует, насколько нам известно, ни одного труда, где предпринималась бы попытка определить, кто преподавал в этих школах и чему там обучали. «La Décade», которую мы настоятельно рекомендуем всем, кто интересуется историей идей и людей революционной эпохи, предоставила нам ряд весьма интересных сведений. Так, Гюффруа-Воґель, профессор изящной словесности, произнёс на закрытии Центральных школ в VI году речи, которые журнал посчитал нужным воспроизвести (20 вандемьера VII года), и в которых он упрекал «молодых граждан, которых равнодушие или лень отдаляли от школы». Другой преподаватель из Лилля, память о котором сохранилась в народе, Лестибудуа, опубликовал «Элементарное краткое изложение естественной истории животных» (VII год), или «Бельгийскую ботанографию», где утверждает, что аналитический метод — это самый лёгкий и удобный способ удовлетворить нетерпение учеников, стремящихся узнать растения. Он попытался — и, как он считает, успешно — реализовать пожелания, которые высказывал Ж.-Ж. Руссо относительно согласования номенклатур.
Альбер Дюрюи описал положение дел в Центральной школе Суассона в VI году: на курсах рисования — двадцать учеников; на курсах древних языков — восемь; естествознания — семь; математики — семь; другие курсы — ноль. Из преподавателей мы знаем по имени лишь Марешаля, профессора истории, чьё письмо, в котором он просит «побелить спальни и учебные залы», опубликовала Декада. Однако профессор общей грамматики Бенони Дебрюн является автором «Курса психологии» объёмом 382 страницы, первая часть которого, посвящённая анализу ощущений и идей, имела целью усовершенствовать систему Кондильяка, в то время как вторая представляла собой трактат по грамматике. Пуаре, профессор естествознания, написал письмо, также опубликованное в Декаде, с предложением, чтобы государство платило преподавателям. В VIII году он получил 180 голосов в Институте — почти столько же, сколько Кант — и опубликовал «Наблюдения над пиритистыми торфами окрестностей Суассона», а в IX году — труд о «Речных и наземных раковинах, наблюдавшихся в департаменте Эн и окрестностях Парижа», из которого Декада также привела отрывок. Профессор древних языков в Арденнах Гранше написал «Поэмы», анонсированные Декадой. Центральная администрация Соммы известила через тот же журнал, что 15 прериаля VII года будет произведён выбор профессоров законодательства и естествознания. Буржуа, преподававший общую грамматику, издал в IX году «Аналитический метод для изучения английского языка». В Брюсселе профессора изящной словесности и древних языков Руйе и Лебруссар произнесли в VI году заключительную речь. Декада, ознакомившись с речами, протоколами и отчетами, сочла, что «ничто не сулит будущему лучших предзнаменований». Розен, профессор естествознания той же школы, написал «Опыт о преподавании минералогии в Бельгии». Лонё, преподававший в Льеже, опубликовал в VIII году «Общую грамматику, применённую к французскому языку» (340 стр.). Томерэ из Монса направил в Декаду письмо по поводу одной статьи в проекте Гражданского кодекса (30 флореаля IX года). Ханг из Маастрихта опубликовал в одном томе in-8 «Принципы французского публичного права». Ван Хультем, профессор библиографии и литературной истории в Генте, обнародовал программу, которая, «если судить по ней обо всех учебных курсах, позволяет утверждать, что они не оставляют желать лучшего».
К современной Академии Нанси можно отнести Центральные школы в Нанси, Бар-сюр-Орнене, Меце, Кольмаре, Страсбурге и Эпинале. Монджен из Нанси издал в XII году «Элементарную философию»; Декада, анонсируя её, писала: «Опубликовать сегодня под таким заглавием важный трактат по метафизике и грамматике — своего рода смелость». Другой профессор из той же школы, Виллеме, зачитал в Обществе здравоохранения Нанси «Мемуар к общей естественной истории насекомых». В Декаде Дюпон, профессор изящной словесности из департамента Мёз, указывал у Делиля на странную реминисценцию из аббата Ренеля. Библиотека школы Нижнего Рейна была обширна: она включала более ста библиотек, собранных в департаменте, и была богата инкунабулами. Эшер, профессор общей грамматики, организовывал там публичные упражнения по идеологии и логике. Хаусснер в VII году издал под заглавием Anglo-Germanica пятьдесят тысяч фраз, извлечённых из английских авторов и переведённых на немецкий язык. Бутеншон, профессор истории в Верхнем Рейне, сообщил Декаде в письме, что Галль использовал свою огромную коллекцию черепов для своего курса краниологии — одного из самых интересных и поучительных, на которые когда-либо решался доктор: «Он возбуждает, — писал он, — сильно любопытство своих многочисленных слушателей… он соотносит с каждой интеллектуальной способностью и каждой страстью определённую часть черепа» (20 мессидора IX года). Затем он пытался показать (30 термидора), ссылаясь на Комментарий к «Политике» Аристотеля, что уроки, извлечённые Робеспьером, следует приписать не Макиавелли, которого часто обвиняют в том, что он был учителем тирании, а святому Фоме Аквинскому. Наконец, он просил, чтобы в греческой грамматике в особенности изучали Гомера, а в качестве элементарной книги рекомендовал Анабасис. Один из профессоров, член Института, позднее (20 прериаля XI года), потребовал преподавания греческого языка: «Отказаться от изучения греческого ради латинского — значит дезертировать из школы мастеров в школу учеников». В Декаде от 20 вандемьера X года читаем: «Программы Верхнего Рейна доказывают, насколько каждый профессор владеет наукой, которую он преподаёт, умеет совершенствовать методы и говорить на её языке. Они разделили все курсы на шесть классов; переход из одного в другой осуществляется лишь после экзамена, удостоверяющего, что ученик усвоил предшествующие уроки и способен с пользой воспринять следующие. Они добавили к древним языкам преподавание немецкого и создали пансион, которым управляют сами. Они приняли основные положения регламента школы департамента Уазы. Ученики, насколько возможно, должны иметь за плечами по крайней мере год занятий математикой и физикой, прежде чем приступить к курсу общей грамматики, «ибо последняя основана на принципах анализа, к которым первые две дисциплины дают постоянные примеры». И наконец, добавим, что Годфруа, профессор общей грамматики в Мозеле, опубликовал в 1797 году Новое краткое руководство по французской грамматике (125 стр.).
Продолжим наш обзор Франции немного быстрее. Общепризнано, что школа в Безансоне пользовалась большой славой. Дроз, самый знаменитый профессор и учитель Нодье, член Французской академии и второй Академии моральных и политических наук, находился в тесных отношениях с Дестютом де Траси и Кабанисом, и был «одним из тех философов Греции, что под зелёной сенью наставляли учеников, жадных к знанию». Однако стоит особенно подчеркнуть одну соседнюю школу, история которой стала известна нам лишь недавно.
Центральная школа в Юре была открыта 2 флореаля V года в здании колледжа д’Арк. Библиотека насчитывала 15 000 томов; были закуплены приборы для физического кабинета, модели и гипсовые фигуры для преподавания рисования; был создан ботанический сад. Три бывших преподавателя королевского колледжа — Жантэ, Реке и Рулье — преподавали математику, изящную словесность и заведовали библиотекой. Другими профессорами были: Россе — рисование, де Санпан (бывший врач в Безансоне) — естественная история, Стерг — древняя история, Далло — физика и химия, Аббей — грамматика, Роллен — история, Пьер-Игнас Бюль из Доля, впоследствии председатель гражданского суда, затем депутат (1815) — законодательство. Жениссе из Мон-су-Во́дре, один из вождей революционной партии в Юре, преподавал там до назначения преподавателем риторики в лицее, а затем латинской литературы на факультете в Безансоне. Школа процветала: «Все области преподавания, — говорила в V году центральная администрация Юры, — поручены профессорам, чьи способности равны их усердию, преданности и гражданской добродетели. Около четырёхсот учеников посещают различные курсы; они уже продемонстрировали, на публичных занятиях, быстрые успехи; их прилежание на уроках, доброе попечение и доброжелательная привязанность преподавателей к своим ученикам — всё это гарантирует новые успехи». В следующем году министр внутренних дел писал центральной администрации, что он доволен отличным положением школы. Закрытая в 1802 году, она уже насчитывала среди своих учеников некоторых деятелей, чья память до сих пор с гордостью сохраняется жителями Доля.
Точно так же стоит упомянуть, в нынешней академии Дижона, центральную школу в Осере, на которую, насколько нам известно, никогда не обращали особого внимания. Публичные занятия, выдержки из которых мы приводим, ясно показывают, каковы были курсы: школа имела таких профессоров, что нынешний колледж вряд ли видел лучших, и учеников, достойных своих наставников. Эти ученики читали Декаду и иногда рассуждали в здравых письмах о классических произведениях: профессора, Девиль или Фонтен, писали туда, чтобы сообщить интересный факт для натуралистов или — по поводу перевода одного фрагмента из Силия Италика, выполненного Курно, профессором Коллеж де Франс, — с просьбой не искажать «великолепного» языка Расина, Вольтера, Фенелона, Руссо и Бюффона. Один из учеников центральной школы Ньевра предложил прозаический перевод латинской эпитафии Дезе, выделенный Декадой.
Ампер был профессором физики и химии в Буре, «где он нашёл достаточно ресурсов для разнообразных экспериментов» и где в 1801 году он произнёс речь, содержащую зародыш, и своего рода первую попытку «Опыта по философии наук». В самом Лионе среди преподавателей школы значился член Института, чьи стихи Декада перепечатала — стихи, более интересные по содержанию, чем по форме:
Toi de qui tout est né, toi de qui tout dépend,
Toi qu’on nomme Destin, Nature, Providence,
Suprême créateur! Dieu très bon, Dieu très grand,
Augmente, augmente encor le bonheur de la France!
(Ты, от кого всё рождено, ты, от кого всё зависит,
Ты, кого зовут Судьбой, Природой, Провидением,
Верховным Творцом! Бог премудрый, Бог великий,
Увеличь, увеличь ещё счастье Франции!)
В Гренобле историю, общую грамматику, изящную словесность и естественную историю преподавали Берриа-Сен-При, Гаттель, Дюбуа-Фонтанель и Виллар, член Института. Лицей наук и искусств, в котором они состояли, за пять лет (к IX году) опубликовал сто двадцать мемуаров, речей, диссертаций или отдельных сочинений и объявил конкурс на тему: «Каковы средства совершенствования физического и нравственного воспитания детей?». На конкурс поступило тринадцать сочинений. По докладу Гаттеля, в XI году премия была присуждена Перрье, уроженцу Вильнёв-сюр-Йонна, служащему в Военном бюро в Париже. По словам Сент-Бёва, Стендаль начал своё формирование и внутреннее освобождение, посещая курсы центральной школы. Известно даже, что он был одним из её самых блестящих учеников.
В Шамбери профессор истории Рэймон в IX году опубликовал труд «Живопись, рассмотренная в её влиянии на человека вообще», а затем, в X году, «Опыт о воспитании в социальном порядке и его применении к воспитанию», получивший почётное упоминание Института. В Воклюзе Сабатье из Кавайона в Декаде отстаивает подлинность стихов, приписываемых Вольтеру.
Почти никто не оспаривает, что школа в Монпелье пользовалась большим успехом. Альбер Дюрюи приводит данные, заслуживающие внимания. В VI году (1797-1798) в школе обучалось: 60 учеников рисованию, 30 математике, 20 естественной истории, 25 истории, 20 древним языкам, 15 законодательству, 80 физике и химии, 80 общей грамматике. Альбиссон был представлен Институтом в секцию законодательства. Карне опубликовал мемуар о первом меридиане и о всемирной эре, с которой тот должен быть связан. Драпарно, судя по всему, преподавал одновременно естественную историю и общую грамматику и в ан X был кандидатом в секцию идеологии, наряду с Прево и Дежерандо. В том же году, когда уже возникали опасения за политическую свободу и систему образования, другой профессор, Гийом, произнёс 14 июля речь, «полную энергии и страсти, — писала Декада, — в которой он напомнил памятные обстоятельства, ознаменовавшие первые дни нашей свободы».
Школа в Перпиньяне продолжала оказывать сопротивление всем поводам к унынию даже в X году: из года в год она совершенствовала методы преподавания, расширяла сферу обучения и добивалась всё более значительных успехов.
Ограничимся напоминанием об общепризнанном успехе школы в Тулузе, и о публикациях Шантро, профессора из департамента Жер. Эстарак и Барадер, профессора общей грамматики в Пау были авторами «прекрасных курсов», которые, по всей вероятности, читал Дестют де Траси. Это сделало первого кандидатом в секцию идеологии наряду с Ласалем, Прево, Дежерандо, а второго — кандидатом на место корреспондента, ранее полученное последним. Доб, профессор в Верхних Пиренеях, написал Опыт по идеологии, к которому мы ещё вернёмся. Канар, профессор математики в Мулене, был удостоен награды Института в ан IX за мемуар, ставший основой его труда Принципы политической экономии. Матьё из Нанси, профессор физики и химии в Коррезе, опубликовал в издательстве Жане-Лебрена Словарь рифм и произношений. Лакост из Плезанса, профессор в Пюи-де-Доме, был автором Наблюдений о вулканах Оверни.
Оставим в стороне школу в Луар-и-Шер, более посещаемую и добившуюся наибольших успехов в X году, благодаря пансиону при ней; школу в Перигё, рядом с которой находился столь же процветающий пансион; школу в Бурже, которая, организованная с самого начала и постоянно действующая, из года в год укрепляла и расширяла свой успех, где математические, физические и нравственные науки развивались равномерно и отличными методами. Но следует особенно остановиться на школах в Сен-Севере, Родезе, Кагоре, Ньоре, Сенте, Туре, о которых у нас есть точные документы. Там преподавали и учились люди, имена и число которых вполне выдерживают, если не сказать больше, сравнение с теми, кто работал в учреждениях, пришедших им на смену.
М. Ксамбё не нашёл в Сен-Севере ни одного документа о курсах, читавшихся в центральной школе, и о числе учеников, их посещавших. Школа, открытая 1 месидора IV года (июнь 1796), имела следующую команду преподавателей: Месье, Моро, Манье, Дюплантье, Дюфур, Бертран, Любе-Барбон, Ланлонг, Баскья. Из них Моро, Манье, Бертран, ранее уже преподававшие в Эре, а затем в Сен-Севере, и натуралист Дюфур — если говорить только о тех, по кому у нас есть точные сведения — были вполне подготовлены к преподаванию древних языков, общей грамматики, истории и естественной истории. Школа была закрыта 11 флореаля X года (май 1802), возможно, из-за политических раздоров, слишком часто вызывавших смену администраторов. Однако Декада сообщает нам (20 вандемьера VII года), что центральная школа Сен-Севера завершила учебный год публичными экзаменами, на которых ученики, «число которых почти учетверилось», дали удовлетворительные ответы.
В Родезе центральная школа была открыта 16 мая 1796 года. Как справедливо замечает М. Люнель, вряд ли какая другая центральная школа Франции могла бы в день открытия предъявить публике столь выдающийся состав преподавателей. Боннатерре преподавал естественную историю, Шальре — химию и экспериментальную физику, Клозель де Куссерг — изящную словесность, Бальсак — право, Кабанту — древние языки; Монте́й-Белькомб преподавал историю, Фабр — общую грамматику, Теденат — математику. Фабр, бывший до этого доктринером и прокурором-управляющим в коллеже Ла Флеш, в тот момент был администратором департамента. Шальре написал трактат по математике и долгое время преподавал в Тулузском университете. Бальсак позднее получил кафедру права в Экс-ан-Провансе и умер деканом этого факультета. Монте́й-Белькомб является автором Описание Аверона, о выходе которого сообщала Декада, и Истории французов различных сословий в XIV, XV, XVI, XVII и XVIII веках, прославившей его и опубликованной благодаря благородному покровительству Ларомигьерра. Клозель де Куссерг стал штатным проповедником короля и капелланом герцогини Ангулемской при Реставрации, а затем епископом Шартра. Кабанту, профессор французской литературы в Тулузском университете с 1824 года, умер в 1840 году деканом факультета. Что касается Тедената и Боннатерра, они уже были знамениты: первый вошёл в состав Института при его создании и умер ректором Академии в Ниме. Второй, бывший под покровительством Рейналя, участвовал в Méthodique (Методической энциклопедии), написав четыре тома по орнитологии, два по змеям, два по китообразным и один по астрологии. Он был членом нескольких академий, и его цитируют Дестют де Траси и Биру в своём первом труде как «учителя, на свидетельство которого он (Биру) ссылается с доверием».
Таким образом, школа в Родезе процветала: в ней насчитывалось 248 учеников (в VI году), 321 (в VII году), 386 (в X году), и Фуркруа, не слишком расположенный к центральным школам, писал в 1802 году префекту Аверона, что положение школы в Родезе было блестящим. Следует отметить, впрочем, что департаментские власти сделали всё от них зависящее для обеспечения успеха нового учреждения. Они присутствовали на его открытии, на публичных экзаменах и церемониях вручения наград; они оказывали поддержку преподавателям в их публикациях, исследованиях, раскопках кельтских памятников. Они начали собирать коллекцию под названием «Труды авторов, родившихся в Авероне», реорганизовали библиотеку, создали сад естественной истории и передали школе предметы из бывшего кабинета физики и химии колледжа.
Школа в Кагоре была одной из первых, организованных в новом порядке. Уже в IV году Ру́зье, ранее преподававший в колледжах и «которого естественная склонность с ранних лет влекла к тому типу преподавания, который недавно был принят», был назначен профессором общей грамматики. Агар, впоследствии доверенное лицо Мюрата, граф Мосбурга и пэр Франции, получил поручение преподавать английский и итальянский языки, а затем — изящную словесность. Понсе-Дельпеш, а затем Ривьер преподавали законодательство. В 1796 году «Декада» опубликовала выдержку из речи, произнесённой Понсе при открытии его курса, а Ривьер устраивал публичные диспуты своих учеников на тему учреждений французского гражданского права. Выбранные преподаватели, по словам г-на Боделя, были «людьми выдающегося ума и выдающимися профессорами». В VI году школа насчитывала 108 учеников, из них тридцать посещали курс общей грамматики. Преподаватели составили общий учебный план и требовали преподавания механических искусств, избрав себе покровителем Руссо: «Эмиль, — говорили они, — будь нашим образцом! Какой отец семейства не гордился бы сыном, похожим на тебя?». В VII году было 128 учеников, из них двадцать — на курсе общей грамматики. Департаментская администрация могла утверждать, что школа процветает, и ей недостаёт лишь профессора современных языков. Уже в VIII году генеральный совет выказывает враждебность. Тем не менее, в X году в ней было 203 ученика. «Декада» отмечала, что это была одна из самых посещаемых школ, что успехи соответствовали рвению и талантам профессоров, но добавляла, что она подвергалась нападкам, доходившим «до неприличия». В XI году в школе ещё числилось 184 ученика. Её профессора, всецело принявшие Революцию, были вынуждены отказаться от преподавания.
Один поклонник Руайе-Коллара писал в 1828 году в заметке о Мазюре, инспекторе, ректоре Анже при Империи, генеральном инспекторе при Реставрации, что в 1796 году в умах происходило замечательное движение, что центральные школы в кратчайшие сроки стали очагами просвещения, что «толпы стекались к кафедрам, только что учреждённым». Он добавлял, что г-н Мазюр, чьё свидетельство не может быть заподозрено в предвзятости, с удовольствием вспоминал, и как особенность той эпохи, ту необыкновенную торжественность, с которой сопровождались празднества центральной школы, и те всеобщие почести, которыми был осыпан он сам, когда, будучи подростком, но уже лауреатом поэтических состязаний, оказался героем муниципального праздника.
Г-н Шамбе подробно описал организацию центральной школы Сента. В числе преподавателей там были: Жюпен (древние языки), Жакен (история), Делюсь (рисование), Вандеркан (общая грамматика), Вильбрюн (естественная история), Форже (изящная словесность), Лёсёр (математика), Метивье (законодательство), Меом (физика и химия), Мюрер (библиотекарь).
Открытая 30 фримера VI года (20 декабря 1797 г.), она была закрыта в конце учебного года 1801-1802. Жюпен был сначала заместителем директора, а затем директором колледжа; Форже — преподавателем второго класса, затем заместителем директора и, наконец, профессором философии. Делюсь впоследствии стал директором муниципальной школы рисования и хранителем музея в Анже, Меом — академическим инспектором в Амьене, Лёсёр — профессором навигации в Рошфоре, Метивье — преподавателем гражданской процедуры в Пуатье. Вандеркан, как и Жакен, был священником и принадлежал к семье голландского происхождения, чьи потомки и поныне занимают весьма почётные посты в Сенте и его окрестностях. Вильбрюн, доктор медицины, знал все известные языки Европы и Азии. Он был хранителем Национальной библиотеки и профессором греческой литературы в Коллеж де Франс, но был отстранён Директорией за то, что написал, будто Франции нужен вождь. Программы, собранные Шамбе и частично воспроизведённые в приложении, показывают, что преподаватели использовали свои прежние знания для нужд нового обучения. Особенно заслуживает внимания курс профессора общей грамматики, сохранившийся в библиотеке Сента и рассматривающий, подобно Дестюту де Траси, эту науку как «естественную историю мышления». Программы по древним языкам и истории таковы, что после их прочтения вряд ли можно будет согласиться с утверждениями страстных противников центральных школ. Поэтому неудивительно, что общественное уважение окружало преподавателей, чья преданность делу и учёность обеспечили успех школы.
«Школа в Туре, — говорила “Декада” в X году, — имела двадцать четыре ученика в первый год; теперь их сто шестьдесят, хотя её окружают крупные учреждения во Флеше, Понлевуа и Вандоме». Организованная в 1796 году, она имела среди преподавателей Сен-Марка Корнеля, преподававшего общую грамматику, Леру, затем Бенью и Во-Делоне — законодательство и мораль, Дрё — историю. Во-Делоне перевёл сочинение Пристли (Эссе о первых принципах правления и о природе политической, гражданской и религиозной свободы), начал перевод Беккариа и опубликовал «Исследования о способах придать новое оживление изучению латинского языка и грамматики». Программа по общей грамматике — или, точнее, перечень вопросов, заданных на публичном экзамене в VIII году, — и «Аналитическая таблица курса морали и законодательства», которую мы публикуем в приложении, доказывают, что преподаватели, которым в VII году приписывали всего трёх или семи учеников вполне соответствовали возложенной на них задаче. Видимо, и ученики умели воспользоваться уроками своих наставников, поскольку «Декада» опубликовала в VIII году французский поэтический перевод латинской эпитафии Дезе, выполненный одним из них.
Регион, простирающийся от Нанта до Шербура, должен бы, по самой природе событий, разыгравшихся на его территории, представлять менее обнадёживающие результаты. Тем не менее нам известно, что преподаватели в Ванне были подобраны замечательно. Преподаватель рисования Жаме де Кергуэ был секретарём гражданского трибунала и, что важнее, — художником и человеком вкуса. Обри, преподававший естественную историю, был доктором Монпелье, главным врачом военного госпиталя в Ванне, председателем округа в 1793 году и членом дирекции округа в III году. Он оставил, помимо прочего, «Опыт флоры Морбиана». Лами-Рулле, преподаватель древних языков, был выпускником Парижского университета, директором полисофической школы в Нанте и направлялся в Нормальную школу. Он представил административным органам рекомендации или аттестаты от Гаюи, Женгене, Шампани, Дюмушеля и других. Изарн, преподаватель физики, ранее преподавал в Кагоре, затем слушал курсы Шапталя, Либеса, Фуркруа. Он представил удостоверение от членов Института — Фуркруа, Вентины, Пармантье — которые заявляли, что он «вполне способен исполнять испрашиваемые им обязанности». Аррашар преподавал общую грамматику; бывший профессор риторики в департаменте Эр, он имел аттестат от Гаюи. Ле Фортье, ученик лицея Людовика Великого, преподаватель риторики в Коллеже Плесси, поступивший в медицинскую школу и служивший некоторое время военным врачом, был рекомендован Шампанем, членом Института и директором лицея Людовика Великого, ставшего Центральным институтом Стипендиатов Равенства. После прочтения речи, произнесённой в VI году на открытии курса изящной словесности этим «литератором, совершенно чуждым» редакции, «Декада» утверждала, что в провинциях имеются таланты, способные формировать «ум молодёжи в духе словесности и философии» и что «не стоит так уж отчаиваться в отношении народного образования, как это иногда делают». Лаланд преподавал историю после блестящих успехов в Коллеже Аркура и в Политехнической школе. По математике преподавал Маро, дважды удостоенный премии Академии наук. В школе насчитывалось 163 ученика в VI году, 113 — в VII году, 68 — в VIII году; закрыта она была в XI году.
«Декада» публиковала письма Бюкке, профессора естественной истории в Майенне (10 фримера VIII года), по поводу пожара в вереске, принятого за вулкан между Фужером и Витре; Лемо, профессора в Кот-дю-Нор, о подземном толчке; Вилье, из Мен-э-Луары, о внутреннем судоходстве. В школе в Ренне Ланжене преподавал законодательство, а Менги, главный библиотекарь, профессор библиографии и литературной истории, произнёс, как президент Института Ренна, речь об Академиях различных веков и народов Европы.
Центральная школа Руана была размещена в помещениях колледжа и семинарии Жуайез в начале 1796 года. Среди преподавателей — Биньон, преподававший общую грамматику, бывший в 1791-1794 годах директором Королевского колледжа; среди учеников числился будущий физик Дюлонг. Согласно недавно опубликованным документам М. А. Готье, преподавателю физики и экспериментальной химии не хватало материальных средств для преподавания. Жалование выплачивалось нерегулярно; в VII году наблюдался заметный рост числа учеников, но они отказывались получать премии на церемониях, «выражая тем самым нечто вроде оскорбительного презрения ко всему, что связано с Республикой». Тем не менее «Декада», располагавшая протоколами и отчётами о закрытии центральных школ в VI году, цитировала речи, произнесённые в Руане Делейстром и Дюкастелем, преподавателем законодательства, и добавляла: «Ничто не может быть более трогательным, ничто не сулит большего счастья для будущего». И четыре года спустя она упоминала среди членов Общества взаимного стимулирования в Руане Обера и Герсана, преподавателей центральной школы.
В «Декаде» также читаем письма Робине, профессора в Авранше, о принципах Ньютона, свете и цветах; а также — профессора изящной словесности из Орна, который указывает на случай плагиата у Корнеля по отношению к Малербу. В Кане профессор естественной истории занимается метеорологией, минералогией, ботаникой и зоологией; преподаватель древних языков «по возможности избегает метафизических методов» и обращается непосредственно к авторам — к Гомеру (Илиада, I), Горацию (Оды) и Тациту (Жизнь Агриколы). На уроках математики изучают уравнения, применение алгебры к арифметике и геометрии, статику. В физике и химии, а также в общей грамматике программы не уступают ни по широте, ни по практической направленности. Программа по законодательству заслуживает того, чтобы быть приведённой полностью:
1° Основы естественного права, выведенные из изучения природы человека и его способностей, и основанные на его интересе и неудержимом стремлении к счастью.
2° Применение этих принципов к устройству политического тела, к публичному праву внутреннему и внешнему, то есть к гражданскому и уголовному праву, политической экономии и праву народов.
Однако в этом регионе особенно заслуживает внимания Центральная школа департамента Эр. 20 прериаля VII года «Декада» отмечает, что движение, приданное народному просвещению министром внутренних дел, охватывает даже те департаменты, которые до сих пор проявляли наименьшее рвение, и сообщает об открытии школы в Эре, для которой были собраны «бюсты Брута, Гильома Телля, Руссо и Вольтера. Церемония проходила под звон колоколов и грохот пушек». В IX году преподаватели этой школы из собственных жалований выделяют средства на содержание шести учеников, чьи стипендии были отменены. В X году школа постепенно укрепляется и добивается успехов: она организует экскурсии во время каникул для награждённых и похвально упомянутых учеников. Фургон везёт багаж и палатки для лагерной стоянки; делают привал на общем участке; ставят палатки. Небольшой отряд, шедший до того как рота солдат, расходится вокруг лагеря: натуралисты — в сапогах, с инструментами и мешками; геометры — со своими приборами для съёмки местности; географы — с нужными им инструментами для составления точных планов и топографических карт; историки расспрашивают жителей деревень о происхождении мест, о произошедших событиях, о выдающихся людях, родившихся или живших там, — а затем каждый по-своему обрабатывает собранный исторический материал. «Нам бы хотелось, — справедливо говорил Женгене, — чтобы это остроумное начинание было более известно и было бы принято в других центральных школах».
Можно судить, справедливо ли утверждение — после того как мы сделали этот обзор, в котором мы сознательно опустили Париж и близлежащие школы, — что в большинстве так называемых классов древних языков преподавались лишь начатки латинского языка; что преподавание общей грамматики, истории, законодательства и изящной словесности было почти нулевым; что если бы центральные школы просуществовали дольше, они, возможно, воспитали бы поколения, превосходно владеющие линейным черчением, но весьма сомнительно, чтобы они породили много учёных и людей литературы.
Некоторые сведения об учебных заведениях Парижской академии, краткий обзор Императорского университета позволят нам точнее понять, какого уровня благополучия достигло новое образование, с какой энергией оно защищалось, как постепенно устанавливались связи между всеми, кто его осуществлял, и, наконец, что оно не уступало тому обучению, которое впоследствии его заменило.
Центральные школы департамента Сены были открыты 8 прериаля IV года: Гара, член жюри народного образования вместе с Лагранжем и Лапласом, выступил красноречиво и по делу. На церемонии открытия 1 брюмера V года речи произносили Жубер, Депарсьё, Фонтан, Ленуар-Ларош. Церемония вручения наград состоялась 27 термидора: из пяти школ действовали две — Пантеон и Четырёх наций. Председатель департамента (накануне переворота фрюктидора) восхвалял традиционные дисциплины и их достопочтенную мать — Парижский университет, «дочь королей». Бужолен зачитал отчёт о школьной работе и методах преподавания; Ментель и Селис объявили имена награждённых. 29 и 30 термидора проходил экзамен учеников департамента Сена и Марна, который дал «наиболее удовлетворительные и даже поразительные результаты». Два месяца спустя Ментель в своих «Рассуждениях о начальных и центральных школах, чуждых различным религиозным культам», требовал, чтобы образование было направлено прежде всего на науку, нравственные обязанности и поведение; чтобы государственные преподаватели стали своего рода «офицерами морали» и даже в сельской местности исполняли некоторые благотворительные функции, ранее поручавшиеся священникам. К 1 брюмера к двум школам, открытым в IV году, добавилась третья — на улице Антуан. На церемонии вручения наград 27 термидора VI года речь произнёс Жубер, председатель департамента. Миллен представил отчёт о курсе обучения. В качестве премий за успехи в общей грамматике вручались произведения Локка, Кондильяка, Дюмарсе, Кур де Жеблена, де Бросса, Харриса; по законодательству и морали — «Политика» Аристотеля в переводе Шампани, Цицерон, Монтескьё, Беккариа, Руссо, Филанжери, Гольбах, Сен-Ламбер, Смит. Во всех трёх школах Парижа занятия по всем трём секциям с самого начала проходили «при большом стечении слушателей». Журнал Декада, который и предоставляет нам эти сведения, напоминает, что конец VI года представил собой картину, достойную века, усовершенствовавшего человеческий разум и подготовившего величайшее счастье для народов.
Франсуа (де Нёфшато), министр внутренних дел, учредил Совет народного просвещения, уполномоченный рассматривать учебники — как печатные, так и рукописные, тетради, взгляды преподавателей, и постоянно занятый вопросами совершенствования республиканского воспитания. В состав этого Совета, столь же разумно подобранного, как и все те, что мы видели впоследствии, входили Паллиссо и Домерг, Дону, Гара, Жакмон, Лебретон, а позднее — Дестют де Траси, Лагранж и Дарсе.
«Декада» напоминает, что в VII году был учреждён конкурс между всеми классами всех школ и что друзья литературы могли порадоваться результатам, которые в целом показали публичные экзамены в конце предыдущего учебного года. 30 мессидора она публикует Оду на латинском языке, сочинённую учеником школы Пантеон, и утверждает, что изучение древних языков не столь пренебрегаемо, как можно было бы подумать. Торжественная церемония вручения наград проходит в присутствии жюри народного образования, в которое входят Лагранж, Лаплас и Шенье. Дюамель, профессор общей грамматики в Пантеоне, говорит о «духе, характере и результатах усовершенствованного народного образования». Новый учебный год ознаменовывается речью Лекутёля, в которой он восхваляет Бодена, «умершего оттого, что не смог справиться с внезапной радостью при вести о прибытии Бонапарта», и речью Мерò, прославляющего Депарсьё.
После 18 брюмера быстро становится ясно, что центральные школы, как и все прочие учреждения Революции, оказались под угрозой и вот-вот будут уничтожены.
В номере «Декады» от 20 мессидора VIII года один из преподавателей обратился к правительству с просьбой изменить и усовершенствовать эти учреждения, но не уничтожать их: «Центральные школы, — говорил он, — философская и во многих отношениях достойная XVIII века институция; однако в ней недостаёт стройности и единства. Закон определил, что в них следует преподавать, но не указал, как следует преподавать. Не уничтожая ни одной науки, не смещая ни одного преподавателя, следовало бы выработать план обучения, сочетающий достоинства старой и новой системы. Можно было бы поручить шести преподавателям, наряду с латинским языком, обучать: одному — мифологии, второму — древней истории, третьему — новой истории, четвёртому — естественной морали, пятому — изящной словесности, шестому — общей грамматике. В первых трёх или четырёх курсах следовало бы отказаться от варварской практики тем и ограничиться, как в случае с английским, итальянским и немецким языками, переводом и разбором авторов. Французский язык следовало бы изучать не по сухим и отталкивающим грамматикам, а по «Провинциалкам» Паскаля, «Похвальным речам» Боссюэ, «Мирам» Фонтенеля, избранным сочинениям Вольтера, Руссо, Буало, Расина. Молодой человек, выходя из центральной школы, не обладал бы всеми возможными знаниями, но имел бы подлинную науку — способность учиться самому».
«Следовало бы, — говорил он также, — поощрять учёбу, предоставив центральным школам некоторые преимущества, аналогичные тем, которыми пользовались колледжи — например, освобождение от воинской повинности. С одной стороны, призывная система отняла у нас немало молодых людей, которые могли бы принести республике гораздо больше пользы в области науки, чем на военном поприще. С другой стороны, стремление уподобиться римлянам и грекам, у которых никто не был освобождён от военной службы, но которые отличаются от нас по законам, численности населения, размерам территории и по устройству торговли, стало во многом источником наших крупнейших отклонений со времён Революции. Математическим наукам уделяется слишком много внимания; следовало бы заняться философскими науками, основав большую школу, где преподавались бы литература, общественная и частная мораль, потому что философские и литературные науки в мирное время — это то же, чем являются математические науки во время войны: они составляют славу великой нации. И если ими будут пренебрегать так же, как это было до сих пор, то без всякого преувеличения можно предсказать, что через несколько лет у нас не останется ни литераторов, ни философов, ни хороших писателей».
Один из преподавателей, продолжая преподавательскую деятельность, следил бы за учениками и обеспечивал соблюдение правил, установленных правительством. Название «центральные школы» могло бы быть заменено на «центральные колледжи»; но не следовало бы, как того хотел Шампань, сокращать их число.
Что касается греческого языка, то было бы достаточно обучать юношей его основам, чтобы они могли использовать корни слов и находить этимологии множества французских слов; в некоторых городах могли бы быть учреждены специальные кафедры для тех, кто хотел бы углублённо изучать этот язык.
Другое письмо добивается той же цели, но иными средствами: «Все учёные страны объединяются, чтобы требовать восстановления колледжей… На изучение латыни уйдёт шесть лет, затем — два года философии. В первый год будут рассуждать по-латыни об ens per se, об универсалии со стороны вещи и прочем, что придаст уму большую точность; на второй год займутся физикой, узнают, что кислоты состоят из множества маленьких шпаг, а щёлочи — из множества маленьких ножен, и что при смешении кислоты с щёлочью шпаги входят в ножны, как всем известно, и в результате получается нейтральная соль; после всех этих замечательных вещей последние пятнадцать дней учебного года займутся математикой». (20 термидора.)
На церемонии вручения наград в VIII году Лакруа, член Института и профессор в Школе Четырёх Наций, отвечал тем, кто нападал на центральные школы: «Если обратиться, — говорил он, — к анналам философии и литературы, то можно обнаружить в них зародыши всего прекрасного и великого, что было сделано во времена Революции. Основы нынешней системы народного образования были обозначены задолго до этого теми, кто принёс наибольшую честь своему веку. Монтень, Бэкон, Локк, Кондильяк, Д’Аламбер, Вольтер, Руссо пролили свет на вопросы воспитания молодёжи, который был отвергнут тогда людьми, чья посредственность обрекла их на забвение, и которые в защиту рутины приводили те же доводы, которые сегодня повторяют, чтобы её воскресить». Он кратко очертил прогресс, которого достигло образование со времён Ренессанса, улучшения, внесённые в колледжи незадолго до Революции, и показал, сколь много ещё оставалось пороков в этих учреждениях, насколько более предпочтителен был порядок, установленный законом от 3 брюмера: «С полным основанием, — говорил он, — мы отошли от плана старых колледжей. Двигая вперёд преподавание физических и математических наук наряду с изучением словесности, за которой следует обучение моральным и политическим наукам, объединяя изучение наук, лежащих в основе химических и механических искусств, с рисованием — основой стольких ремёсел и прекрасным средством развития в нас чувства прекрасного, — мы лишь следуем за прогрессом просвещения. Эти школы реализуют то, чего так долго ждали от прежних учреждений: они дают целостное образование, все части которого полезны и могут при необходимости быть объединены или разделены. Именно в этом и состоит суть настоящей образовательной системы. Форма преподавания, подразделения курсов — всё это второстепенные регламентные детали, которые зависят больше от людей, чем от самой идеи».
Там, где школы не показали никаких успехов, — добавлял он, — причиной тому отнюдь не являются основные положения закона, а скорее неуверенность, вызванная постоянными проектами реформ, особенно последними, что нанесло им ощутимый удар, отразившийся на ходе занятий в этом году. Тем, кто считает, что таких школ слишком мало, он отвечает, что города, в которых раньше были колледжи, вправе за свой счёт учредить дополнительные школы. Тем, кто считает, что они не связаны напрямую с начальными школами, он говорит: дети, умеющие читать, писать и считать, вполне способны изучать рисование, латинский язык, начиная с склонений и спряжений, математику и естественную историю — при условии, что преподаватель, как это обычно и бывает, соразмеряет курс с уровнем понимания и подготовки учеников. А тем, кто жалуется, что курсы являются лишь устными лекциями, он отвечает, что они, не зная этих курсов, отождествляют их с теми, что до Революции открывались для светской публики в качестве дополнения к пробелам традиционного образования; или же они требуют классов, а не курсов, забывая, что прежнее обучение также включало два курса, подразделённых на классы, и что в центральных школах разные предметы преподавания, каждый со своей целью, по необходимости были названы курсами.
Лакруа отлично показал поставленную цель, тесную связь этих школ с Институтом и с философскими идеалами времени. Он отвечал на возражения их противников, не отрицая при этом возможности внести в систему полезные усовершенствования.
Женгене, обозревая это сочинение (30 нивоза IX года), писал: «Если и можно выдвинуть ещё какие-либо возражения, на них можно дать и другие ответы. Мы уже говорили, что располагаем необходимыми средствами: многие профессора снабдили нас ими через свою переписку. Но кажется, что в последнее время усилия их противников ослабли, что проекты, ранее объявленные как подлежащие скорому осуществлению, отложены. Если мир и не заключён, то, по крайней мере, установлено перемирие; и мы считаем своим долгом сохранить эти боеприпасы в резерве — на случай, если боевые действия возобновятся».
10 брюмера письмо из Осера выступало против предполагаемого упразднения кафедр морали и законодательства, утверждая, что «правительство слишком просвещённое и слишком привержено принципам, чтобы нанести столь смертельный удар народному образованию». В следующем номере публикуется «Новая система народного образования» Шапталя. 20 фримера Дюма, профессор изящной словесности, защищает центральные школы против доклада, представленного в Генеральный совет департамента Сена, и даже против доклада самого Шапталя и предложенного им плана. 10 жерминаля «Декада» публикует циркуляр Шапталя: «Одной центральной школы на департамент, — говорил он, — недостаточно для народного образования. Вот уже десять лет, как со всех сторон требуют восстановления тех процветающих колледжей, где многочисленная молодёжь получала лёгкое и достаточное образование». Шапталь одновременно запрашивал информацию об образовательных учреждениях, существовавших до Революции, и мнение окружных советов о преимуществах этих учебных заведений. «Мы не знаем, — писала «Декада», — действительно ли вот уже десять лет отовсюду требуют восстановления тех процветающих колледжей… но мы прекрасно знаем — и министр знает это, несомненно, лучше нас, — что образование в колледжах было вовсе не лёгким, поскольку на то, чтобы изучить только латынь, уходило восемь или девять лет, и вовсе не достаточным, потому что кроме латыни там ничему не учили… Вернуться попросту к тем колледжам, о которых Мольер с иронией сказал — Vivent les collèges d’où l’on sort si savant! («Да здравствуют колледжи, из которых выходят столь учёными!»), — значило бы оказать довольно слабую услугу подрастающему поколению».
Био, профессор в Уазе, сообщил в «Декаде» о выходе двух сочинений Лакруа — «Дифференциальное и интегральное исчисление» и «Начала геометрии», по поводу которых он писал, что Лакруа считал метод, используемый метафизиками, подлинным синтетическим методом: «Если метафизика достигла стольких успехов в руках Локка и Кондильяка, то не потому, что они использовали анализ, а потому что почувствовали необходимость искать в природе основания для новой теории». Будучи профессором Коллеж де Франс, он 30 флореаля IX года упоминал «Применение алгебры к геометрии» Пюиссана, профессора в Ажене: «Удивительно, — добавлял он, — видеть, как эти бедные школы, о которых говорят столько дурного, дают жизнь множеству прекрасных элементарных трудов, которые иностранцы часто спешат перевести и усвоить». И в тот же день «Декада», говоря об отчётах префектов, из которых черпают столько доводов против центральных школ, задавалась вопросом, как могли люди, едва прибывшие в края, которые чаще всего были им совершенно незнакомы, составлять о них статистическую картину!
20 термидора Декада упоминает книгу Перро «Начала естественного законодательства». Приводя выдержку из этого труда, Ж.-Б. Сэй замечает, что это ещё одно превосходное сочинение, вышедшее из тех самых центральных школ, о которых некоторые люди с показной охотой говорят дурное. В следующем номере без оговорок принимается точка зрения Дестюта де Траси: с некоторыми незначительными улучшениями центральные школы вполне соответствовали бы цели, которую законодатель должен был ставить, учреждая их.
На торжественной церемонии вручения наград профессора выбирают Шенье для произнесения речи: «Те, кто склонен опасаться, — пишет редактор Декады, — что философия и свобода могут пострадать от отката в общественном мнении, могли бы успокоиться, увидев, какой эффект произвело философское и республиканское красноречие на эту аудиторию, состоявшую из людей обоего пола, всех возрастов и всех сословий». Шенье выступил в наступательном духе: «Что значат, — говорил он, — эти пылкие желания небольшой группы людей восстановить колледжи? Чего они жалеют? Древних языков? Но греческий едва ли преподавался, латинский изучался в течение шести лет чистой рутины, риторика признавалась неудовлетворительной самим Ролленом… Те два года философии, в течение которых один и тот же преподаватель должен был передать множество разнородных знаний? Эти латинские тетради по логике, сама логика — бесплодная в своих поисках, готическая по форме, варварская по языку? Эта туманная метафизика, этот несваримый курс физики и математики, эти три года теологии? Внутренний режим (настоящая тюрьма для пленённой юности)?» Он призывал в свидетели Вольтера и Монтескьё, Руссо и Д’Аламбера, Дюмарсе и Кондильяка, Гельвеция и Кондорсе, Ла Шалоте, чей проект во многом напоминал устройство центральных школ. Он возмущался тем, что кто-то осмеливается выступать против бесплатного образования и утверждать в качестве принципа, что, якобы, ради самого блага общества невежество должно навсегда оставаться уделом большинства! И он утверждал, что именно более широкое и более равномерное распространение просвещения составляет превосходство XVIII века над предшествующими эпохами.
В следующем номере Декада публиковала аргументированный анализ учебного плана, принятого профессорами департамента Уаза, одобренного Дестютом де Траси и министром внутренних дел.
В начале X года Декада проводит обзор центральных школ и сообщает о положении каждой из них — данные, которыми мы пользовались. Она сообщает также о переписке между центральными школами и в целом по вопросам народного просвещения, которую профессора Сены и Уазы намереваются централизовать. Они подчёркивают, что, вдохновляясь законом от 3 брюмера IV года, хотят укрепить связь с Институтом: «Вы — писали они, — отцы народного образования… Вы — очаг света, позвольте нам испросить от вас несколько лучей для нашей переписки; она не должна быть вам чужда, ведь разве вы не главы образования?».
10 флореаля X года «Декада», после того как в предыдущих номерах выразила пожелание, чтобы школы последовали примеру, поданному школой в Эре своим учебным походом на каникулах, и воспроизвела прокламацию, в которой Консулы призывали французов «соединить с просвещением, которое нас озаряет, добродетели, которых требует религия, благодаря которой Европа обязана своей цивилизацией», — но затем напомнила, что Вашингтон в своём завещании не признаёт никакой позитивной (конкретной) религии, — объявила об амнистии эмигрантам, и о принятии в Трибунате закона о народном образовании 80 голосами против 9. Это стало означать неминуемую или уже скорую смерть всех центральных школ.
Тем не менее среди профессоров Парижской академии мы встречаем имена тех людей, подобных которым и сегодня хотели бы видеть в лицеях: Лагарп и Фонтан, Женгене и Рёдерер, Кабанис и Ларомигьер, Геруло и Бине, Дону и Соссюр, Кювье и Депарсьё, Бриссон, Бужолен и Селис, Ментель и Сен-Анж, Дьёдонне-Тьебо из Берлинской академии, Лабей — переводчик Эйлера, Жанти из Луаре, писавший об «О влиянии Ферма на своё столетие», Буанвилье из Уазы, ставший членом Института, Дюамель — бывший соратник Сийеса и Кондорсе, Боден, Био и Лакруа, Антуан Леблан — автор Манко-Капак, Друидов, стихотворного перевода Лукреция, Перро, Шенье, Либес и Жерюзé и др. Преподавателями становились те, чьи научные труды обещали из них превосходных наставников. Именно благодаря такому способу отбора, где интересы учеников ставились выше претензий преподавателей, центральные школы пользовались бесспорным успехом в Парижской академии.
Если мы откроем Альманах Императорского университета за 1811 и 1812 годы, то найдём среди его сотрудников некоторых из тех, кого только что упомянули: Фонтана, Кювье, Геруло, Жубера, Ампера, Лепрево д’Ирэ, Изарна, Лакруа и Био, Ларомигьера, Дюма, Лабея, Дюамеля, Либеса и Бине (Париж), Лапорта (Осер), Лаво (Версаль), Мазюра (Анже), Жениссé (Безансон), ван Хультема (Брюссель), Лакоста (Клермон), Корнеля Сен-Марка (Мулен), Берриа Сен-При, Дюбуа-Фонтанеля (Гренобль), Рэймона (Шамбери), Кабанту, Гюффруа-Воґель (Клермон), Бутеншон (Майнц), Монжена (Мец), Карне, Дюма (Монпелье), Теденá (Горное училище), Метивье (Пуатье), Менги (Ренн), Аррашара (Руан), Пико-Лапейруза (Тулуза) и многих других. Почти все они занимали впоследствии должности, значительно превосходившие те, которые они занимали прежде.
Программы, которым теперь следовали, представляют собой шаг назад по сравнению с программами центральных школ. Больше нет кафедры морали и законодательства, нет даже — во всех лицеях Парижа — преподавателя истории. Преподаватель всеобщей грамматики заменён преподавателем философии. Но известно, что первоначальный план не предусматривал философского обучения, и там, где оно было организовано, оно, по-видимому, оставалось абсолютно факультативным. Кузен поступает в Нормальную школу, не изучая философии. М. де Ремюза, случайно оказавшись во втором классе в классе Феркока, увлекается кондильякизмом. Минье и Тьер покидают лицей в Марселе, так и не изучив философии. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Целью было возрождение изучения латинской словесности, рассматриваемой наряду с греческой словесностью, как источник всякого доброго образования. Поэтому латинская речь занимает почётное место на общем конкурсе: за ней следуют французская речь, латинские стихи, перевод с латинского, перевод с греческого. Во втором классе гуманитарных наук целых три года изучаются перевод с латинского, латинская тематика, латинские стихи, перевод с греческого. Лишь затем следуют философия, физические науки, специальные и элементарные математики. Впрочем, приоритет латинскому языку отдавался не только ради учеников. В 1810 году, «чтобы торжественно ознаменовать священный союз, основанный на спокойствии будущих поколений, и восстановить употребление латинского языка… который, быть может, уместно использовать, когда наши законы и наше оружие распространяются далеко», преподаватели риторики были приглашены произнести, в первый четверг июня, латинскую речь по случаю брака Его Величества Императора и Короля с Её Императорским и Королевским Высочеством эрцгерцогиней Марией-Луизой. Все преподаватели, чьи речи были переданы великому магистру, «выступили достойно своих благородных функций»; несколько из них «проявили настоящий талант». Люс де Лансиваль получил приз, и Наполеон, должно быть, счёл, что хвалы были розданы ему щедро. Но он был ещё сдержаннее, чем Фонтан, утверждавший в 1812 году, что «герои Плутарха внушают меньше восхищения, чем этот единственный и поразительный человек, с которым уже невозможно ни одно сравнение». Среди преподавателей всеобщей грамматики были Тьебо, Ларомигьер, Дюамель, Перро, Дону, Бенони-Дебрюн, Буржуа, Лонё, Монжин, Эшер, Годфруа, Эбби, Фонтен, Гатель, Драпарно, Эстарак, Барадер, Доб, Фабр, Рузьес, Вандеркан, Сент-Марк Корнель, Аррашар, Жерюге и др., чьи способности и знания нам были известны. Судя по тому, что мы знали о других школах, преподаватели всеобщей грамматики казались способными справляться с возложенными на них обязанностями. В 1811 и 1812 годах мы встречаем следующих преподавателей философии:
Могра (Императорский лицей).
Феркок (лицей Наполеон).
Дефонтен, затем Кардайак (лицей Бонапарт).
Мийон (лицей Шарлемань).
Маккар (Реймс).
М. де Фария, затем Дено (Марсель).
Флотт (Амьен).
Эрон (Анже).
Топен (Экс).
Бувье (Шато-Гонтье).
Сартр (Лаваль).
Лемерсье (Ле-Ман).
Демуа (Безансон) и Ординер.
Дезез и Тукас де Пуайен (Бордо).
Бюсса (Анси).
де Вальривьер (Лимож).
Ландри (Майен).
Монжин (Мец).
Бас (Монпелье).
Дрегель и Жакмен (Нанси).
де Шанпо и Руссо (Орлеан).
де Беллиссенс и Бернадо (Пуатье).
Лебар (Наполеонвиль).
Каро (логика, Ванн).
Кардайак (Монтобан).
де Лапорт-Лаланн и Бреан (Руан).
Ларок и Сорен (Тулуза).
Биондо (Бурж).
Ландрвиль (Брюссель), Жаккар (Турне).
Тирар де Лон-Шан (Кан).
Карон (Версаль).
Лайнез (Авранш).
Дезо (Кагор).
Пажес (Ош).
Офовр (Клермон).
Жиральдон, затем Авит (Сен-Флур).
Коломбо (Дижон).
де Летуаль (Дуэ).
Леброс (Гренобль).
Суарес (Шамбери).
Астье (Льеж).
Хойзер (логика, Кёльн).
Жирар (Родез).
Вердье (Перпиньян).
Рейналь (Ним).
Элисагарай (Пау).
Моль (Руан).
Пуаррье (Нант).
Оллитро (логика, Кемпер).
Сотье (Страсбург).
Гуржу (Лион).
Рейнальд (Альби).
Жиро де ла Ну (Блуа).
В 1812 году не присуждается премия по философии в Амьене, в Авиньоне (где вручается премия за сочинение), в Безансоне и в Бордо, в Бурже и в Брюсселе, в Кане, в Кагоре, в Клермоне, в Дижоне и в Дуэ, в Лиможе, в Лионе, в Монпелье, в Мулене, в Нанси, в Нанте, в Ниме, в лицеях Шарлемань и Бонапарт, в По, в Пуатье, в Ренне, в Руане, в Страсбурге, в Тулузе. Только лицеи Анже (одна премия), Гренобля (то же), Марселя (то же), Майнца (то же), Меца (две), Наполеонвиля (две), Орлеана (две), Императорский лицей (две) и лицей Наполеон (две), а также лицеи в Реймсе (две) и Родезе (одна) — то есть всего одиннадцать лицеев из шестидесяти — имели достаточно учащихся по философии, чтобы распределять между ними премии, или хотя бы одну! Какое разочарование — сказали бы защитники центральных школ, — что в 1814 году не удалось составить статистические таблицы, аналогичные тем, что были в VIII году Республики! Они бы, несомненно, дали нам основания для сурового суда над Императорским университетом.
А что же преподаватели? Оставим в стороне Виктора Десеза (если речь действительно идёт об авторе «Физиологических и философских исследований о чувствительности»), Монжена, о котором мы уже говорили, Каро, от которого у нас есть «Элементарный курс философии», Кардайяка, к которому мы ещё вернёмся, и даже Феркока, которого мы готовы ценить вслед за месье де Ремюза. Это — преподаватели, которых можно считать достойными. Что до остальных, у нас нет никаких средств судить об их уровне, а порой мы вынуждены относиться к ним довольно критически. Дефонтен совершенно неизвестен, Могра оставил объёмистые сочинения, чтение которых не приносит никакой пользы. Мийон, ставший впоследствии профессором в Парижском факультете, стал настоящей загадкой для тех, кто пытался написать его биографию. Заметим, кроме того, что Флотт — секретарь факультета словесности, профессор философии как в факультете, так и в лицее; Ординер — ректор, декан факультета словесности и профессор философии; Десез — ректор и декан; Тукас де Пуайен — заместитель Десеза на факультете и преподаватель в лицее; Блондо — декан, профессор философии на факультете словесности и в лицее; Тирар де Лон-Шан — декан, профессор на факультете и в лицее; Дезо и Офовр — профессора на факультете и в лицее; Коломбо — профессор и секретарь факультета, преподаватель в лицее; де Летуаль, Леброс, де Вальривьер — и в лицее, и в факультете; Гуржу — декан, профессор на факультете и в лицее; Бас — также и там и там; Дрегель — ректор, декан и профессор на факультете; Жакмен — секретарь и заместитель на факультете, преподаватель в лицее; Рейналь — тоже в факультете и в лицее. Де Шанпо — ректор, декан и профессор факультета; Руссо, его заместитель, — преподаватель в лицее; Элисагарай — ректор, декан, профессор на факультете и директор лицея; де Беллиссенс — ректор и профессор философии на факультете; Моль — в лицее и на факультете; де Лапорт-Лаланн — ректор, декан и профессор на факультете; его заместитель Бреан — преподаватель в лицее (возможно, капеллан); Сотье, о котором у нас есть сведения, показывающие, как университет иногда набирал своих членов, — и в лицее, и на факультете; Ларок — декан и заместитель профессора на факультете, исполняющий обязанности в лицее. Идея заключалась в разделении среднего и высшего образования, но, возложив эти функции на одних и тех же людей, удалось, по-видимому, по крайней мере в философии, добиться того, что у учителей не стало учеников, а они сами оказались неспособны должным образом исполнять свои обязанности.
К нормальным и центральным школам следует добавить и специальные школы. Конвент преобразовал Сад растений в Музей естественной истории. Даубентон, Фуркруа, Броньяр, Жюссьё, Ламарк, Жоффруа Сент-Илер, Аюи, а позднее Кювье были назначены преподавателями. Он также учредил Школу живых восточных языков, «полезность которой была признана как для политики, так и для торговли»; в ней преподавались арабский, турецкий, крымско-татарский, персидский и малайский языки. Аналогичным образом были основаны медицинские школы в Париже, Монпелье и Страсбурге. Студенты парижской школы основали Медицинское общество состязания (émulation), которое, по примеру Кабаниса и по совету Дидро, поставило своей целью объединение медицины и философии. В мемуарах этого общества содержатся труды Биша, Пинеля — о моральном лечении душевнобольных, Ришерана — о степени достоверности метафизики, Бюте — о симпатиях, Русселя — о связях медицины с физическими и моральными науками. Дюма, профессор в Монпелье, в «Введении в философскую, экспериментальную и медицинскую науку о живом человеке» отмечает благотворное влияние, которое могли бы оказать на науку о человеке сравнительная физиология и идеология. Моро ссылается на Кондорсе. Кабанис собирает вокруг себя лучших студентов Парижского факультета — Ришерана и Алибера, которые благодаря своим трудам, в которых философия далеко не отсутствует, становятся вровень с учителями. Туре собирается ознакомить общественность с «философией, мудрой смелостью и величественной простотой учения Гиппократа».
Политехническая школа, основанная в III году Республики, имела в числе преподавателей самых выдающихся учёных: Лагранжа, Прони, Монжа, Бертолле, Фуркруа, Шапталя, Воклена и Гитона де Морво. Она должна была готовить гражданских и военных инженеров, преподавать общие принципы наук. Преподаватели связывали своё обучение с философскими доктринами, преобладавшими в политических собраниях, в нормальных и центральных школах, в Институте и которые предполагалось преподавать в специальной школе моральных наук, создание которой неоднократно предлагалось. «Я начал, — говорил Прони, — с того, что собрал и классифицировал абстрактные идеи, которые можно считать основами науки… Операции разума, результатом которых являются эти идеи, должны уже быть выполнены у тех, кто хочет заниматься изучением механики — и то же можно сказать о любой другой науке… В целом я не упускал случая сблизить геометрические спекуляции с предписаниями искусства мышления и рассуждения, и особенно часто настаивал на тех возможностях, которые предоставляет духу и гению хорошо устроенный язык».
Именно в Политехнической школе Андриё начинает, после упразднения второй секции Института и центральных школ, курс всеобщей грамматики, призванный продолжить традицию, прерванную в других местах, и от которого Дестют де Траси ожидал наилучших результатов. Именно здесь впоследствии Огюст Конт, земляк Драпарно, вновь обретёт научные и философские доктрины XVIII века, которые в значительной степени поспособствуют рождению позитивной философии.
В педагогике, как и в философии, именно идеологи проложили пути, по которым мы пытаемся идти. В деле высшего образования Талейран и Кондорсе, Дону, Лаканаль и, — как это верно отметил месье Лиар, — особенно Кабанис остаются нашими вдохновителями. Мы сохранили Музей естественной истории и Школу восточных языков, медицинские школы и Политехническую школу. Административная школа 1848 года, а также Школа политических наук — более поздняя и более удачная — лишь частично воплотили чаяния идеологов. Благодаря новой организации, которую получило высшее образование, мы всё ближе подошли к тому идеалу, который они ставили перед собой: литература и история, науки и философия — всё это теперь имеет своих преподавателей и своих учеников.
Среднее образование, эволюционируя медленнее, ещё не решило тех проблем, которые уже ставили перед собой наши отцы. Все нововведения, предпринимаемые в течение последних двадцати лет, были предвосхищены или реализованы в школьных учреждениях Революции. Уже тогда стремились преподавать литературу и науки, современные и древние языки, политическую экономию и прикладное право; рекомендовали экскурсии во время каникул, физические упражнения и ручной труд, даже выбор директоров из числа и по воле самих преподавателей. Более того, часто удавалось воплотить в жизнь то, что было предложено теоретически.
В то же время наша эпоха смогла сделать то, что, несмотря на все усилия, не удалось осуществить людям Революции. Если некоторые из них имели достаточно чёткое представление о том, каким должно быть начальное образование, и если по этой причине стоит по-прежнему обращаться к ним в этих вопросах, то у них не было ни ресурсов, ни — особенно — опытных и образованных преподавателей, чьи советы и труды сделали возможным и плодотворным народное образование.

— III —
Институт; учёные общества
Шамфор подготовил для Мирабо проект декрета и речь с предложением упразднить старые Академии. Их предполагалось заменить Национальной академией с философским, литературным и научным отделениями, которую должна была дополнить Академия изящных искусств. Талейран задумал Институт, одна из секций которого включала бы философские науки, словесность и изящные искусства, а другая объединяла бы математические и физические науки, а также ремесла. Кондорсе мечтал о Национальном обществе наук и искусств, которому поручалось бы собирать, поощрять, применять и распространять полезные открытия. Оно должно было состоять из четырёх классов, охватывающих математические и физические науки, моральные и политические науки, медицину, механические искусства, сельское хозяйство, мореплавание, наконец — грамматику, искусства, литературу и филологию. 3 брюмера IV года (25 октября 1795 года) Конвент принял, по докладу Дону, знаменитый закон, организующий систему народного образования. Национальному институту поручалось совершенствование наук и искусств, наблюдение за научными и литературными трудами, имеющими своей целью общее благо и славу Республики. Объединяя представителей всех отраслей человеческого знания, собирая наиболее выдающихся деятелей в области наук и искусств, он становился, по сути, живой Энциклопедией, способной своими трудами реализовать тот прогресс, который предвозвестили Декарт и его ученики, Тюрго, Кондильяк и Кондорсе. Создание второго класса, равно как и обязанность всех членов Института трудиться над совершенствованием наук и искусств, было прямым результатом влияния философии XVIII века. Вольтер и Кондильяк, Тюрго, Гельвеций, Руссо, Кондорсе и их ещё живые последователи хотели дать наукам о морали развитие, равное развитию математических, физических и естественных наук. Привлечение их представителей к сотрудничеству с теми, кто олицетворял более ранние научные направления, означало обеспечение успеха великого начинания.
4 апреля 1796 года Институт провёл своё первое заседание в присутствии пятерых директоров. Дону прославил идею Конвента создать класс моральных и политических наук: «Республика призывает нас, — сказал он, — чтобы собрать и связать все отрасли просвещения, раздвинуть границы познания и сделать его начала менее тёмными и более доступными, стимулировать усилия талантов и вознаграждать их успехи, собирать и провозглашать открытия, принимать, передавать и распространять весь свет мысли, все сокровища гения».
Принесла ли вторая секция Института, за семь лет своего существования, славу философии, или, чтобы выразиться точнее, создала ли она труды, которые по своему количеству и значению соответствовали бы той цели, которую ставили перед собой её основатели, и тому представлению, которое обычно складывается о философской школе? М. де Токвиль это отрицает — в нескольких строках, где, как справедливо замечает Жюль Симон, он накопил немало несправедливостей и ошибок. Жюль Симон, в свою очередь, превосходно показал, что программа, намеченная основателями Института, была выполнена на высоком уровне философами и экономистами и, по меньшей мере, достойно — другими секциями. Следуя за ним, мы особо подчеркнём те труды, которые Институт либо породил, либо вдохновил в той области, что представляет для нас наибольший интерес.
Секция анализа ощущений и идей включала в число своих действительных членов Вольнея, Гара, Женгене, Лебретона, Кабаниса, Делейра, Тулонжона; среди ассоциированных — Дестюта де Траси, Десеза, Ларомигьера, Жакмона, Сикара, Прево из Женевы, Кафарелли дю Фалга, Дежерандо. Секция морали включала в число своих действительных членов Бернаден де Сен-Пьера, Луи-Себастьяна Мерсье, епископа Грегуара, Ла Ревейера-Лепо, Лаканаля и Нежона; среди ассоциированных были Лабен, Руссель, Вилетерк, Сент-Жан Кревкёр, Ферлю, Рикар и Годен. Третья секция объединила таких деятелей, как Дону, Камбасерес, Мерлен, Пасторе, Гарран-Кулон и Боден; ассоциированные — Леґран де Лалё, Уар, Рамон, Реймонт, Биго де Преаменё, Масса, Грувель и Шампань. Четвёртая — Сийес и Дюпон де Немур, Лакюэ и Талейран, Редерер и Крезе-Латуш, Лебрен и Галлуа, Форбонне и Рум, Гарнье, Дювийар и Дьяньер. Пятая секция включала, среди своих действительных или ассоциированных членов, Пьера-Шарля Левека, де Лиля де Саля и Рейналя, Бушо и Дасье, Леґрана д’Осси и Пуарье, Анкетиля и Коха, Гюдена и Ж.-Ж. Гарнье, Гайяра и Папона, Готье де Сибера и Сеннебье. Шестая — Буаша и Мантеля, Рейнхарда и Флёрио, Госслена и Бугeнвиля, Бошана и Бартелеми, Лескалье, Кокбер де Монбре, Бургуана, Вердена де ла Кренна и Мишо д’Арсона. Сколько выдающихся имён, сколько людей подлинной ценности — наряду с несколькими персонами, выбор которых, возможно, был продиктован обстоятельствами!
Что касается трудов, мы упомянем лишь те, которые представляют непосредственный интерес для нашей темы. На публичном заседании 15 жерминаля IV года Кабанис изложил план и цель своих «Размышлений о связи физического и морального начал». Лебретон зачитал Очерк о жизни и трудах Рейналя, «который был современником Вольтера, Руссо, Гельвеция, Дидро, Д’Аламбера, Кондильяка и многих других выдающихся писателей, пусть даже они и принадлежали ко второму ряду». 7 плювиоза, термидора и фрюктидора Кабанис представил три первых мемуара своего большого труда. 22 вентоза Анкетиль упомянул их и высказался о тех основаниях, на которых должны быть выстроены великие здания морали, социальной науки и политической экономии. 2 вентоза Левек зачитал «Рассуждения о человеке, наблюдаемом в дикой, пастушеской и цивилизованной жизни». Считая, подобно Кондильяку, что в человеке заложены лишь чувствительность и потребность, он полагал, что природа сама внушит ему интонации желания, страха, радости, боли, и что несколько жестов, обогащающих язык и возникающих из новых нужд, будут вполне достаточны для общения между людьми, как только они объединятся. Но при этом он делает совершенствование отличительной чертой человеческой природы. 12 прериаля он представил Рассуждения о тех препятствиях, которые древние философы чинили прогрессу здравой философии. Это рассуждение небезынтересно: «В древности, — говорит он вполне резонно, — знали лишь крохотный уголок земли, и все же составляли космографии; не знали даже состава той земли, на которой жили, не знали даже формирования первого слоя, её покрывавшего, и все же составляли космогонии. Пифагор был тем из философов, кто больше всего способствовал заблуждению человеческого разума… Сократ заслужил титул философа, ограничившись поиском нравственных истин… С Платоном всё было захвачено метафизическим жаргоном… Аристотель, обладая живым, точным и широким умом, имел несчастье заниматься физикой посредством метафизики, вместо того чтобы опираться на наблюдения — хотя однажды он и наблюдал, создав шедевр, по-прежнему уважаемый — Историю животных».
2 флореаля и 2 мессидора Дестют де Траси зачитал начало своего «Мемуара о способности мыслить». Ларомигьер представил мемуар о значении слова анализ ощущений, а также другой — о значении слова идея. Боден в своём мемуаре о клубах ввёл философское осмысление. Грегуар на публичном заседании 7 жерминаля провозглашал врождённое право всех людей на свободу так же, как и на счастье, и утверждал, что методическое сомнение расчистило дорогу от предрассудков, притупило меч религиозной нетерпимости, погасило костры инквизиции и освободило негров. Он утверждал, что невозможно представить себе мораль, не будучи республиканцем, и надеялся, что национальный суверенитет, вернувшись к своему истоку, восстановит социальное здание в различных странах обоих полушарий, и что «республика литераторов породит республики». Бонапарт, упраздняя вторую секцию Института, несомненно, вспомнил о выступлении Грегуара.
Рёдерер, наряду с Политическими мемуарами о составе общественной силы в республиканском государстве, О национальном большинстве, О погребальных учреждениях, пригодных для республики, представлял и другие труды — О двух основных элементах любви, О двух элементах человеческой общительности: подражании и привычке. Камбасерес занимался социальной наукой. Дюпон де Немур излагал достаточно расплывчатый и довольно странный пантеизм, прежде чем перейти к вопросам, касающимся негров и Политических кривых. Делиль де Саль представлял Критический обзор философов, размышлявших о счастье, где он цитировал и критиковал Платона, Цицерона, Плутарха, Мопертюи, Гельвеция; затем — Философские мысли о разуме, в которых он называл Руссо «Ньютоном морали» и предлагал три предмета для изучения: Бога, человека и природу. Прежде чем объединить эти мемуары в сборнике Афоризмы о счастье, Делиль де Саль зачитал Похвалу Лафонтену. С весьма забавным неведением хронологии — довольно комичным для человека, претендующего на универсальную учёность, он утверждал, что Лафонтен якобы опроверг знаменитый пирронизм Беркли. Затем он начал любопытный Мемуар о философии свободного человека и ещё один, Об Институте и академиях. В литературной секции выступал Сикар с докладом о методе обучения глухонемых, а также прозвучал мемуар Бито́бе, «сочинённый в робеспьеровской тюрьме», о Политике Аристотеля.
Десять месяцев, в течение которых функционировал Институт, были весьма плодотворны. Второй год оказался не менее насыщенным. Кабанис исследовал влияние возрастов на идеи и моральные чувства, влияние пола на характер этих идей и чувств, а также влияние темпераментов на их формирование. Дестют де Траси продолжал свои исследования о способности мыслить. Делиль де Саль, называвший Бруккера «библиотекой философов», произнёс похвалу Байи; Лебретон — Делера, библиотекаря инфанта, воспитанного Кондильяком, друга Руссо, автора Анализа Бэкона, статьи Фанатизм в Энциклопедии, романсов, положенных на музыку Руссо, и неизданного стихотворного перевода Лукреция. Ла Ревейер-Лепо, не будучи теофилантом, однако веря в Бога, зачитал Размышления о культе и гражданских обрядах. Боден занимался вопросами закона. Талейран представил два мемуара: об экономических отношениях между Соединёнными Штатами и Англией и о выгодах, которые можно извлечь из новых колоний. Подобно Кондильяку, Талейран осуждает «систематический дух» и восхваляет анализ: «Путешествие по Америке, — говорит он, — есть своего рода живой и практический анализ происхождения народов и государств; отправляясь от наиболее сложного устройства, мы постепенно приходим к наиболее простым элементам: с каждым днём исчезают из виду некоторые из тех изобретений, которые были вызваны к жизни нашими растущими нуждами, и, кажется, мы движемся вспять в истории прогресса человеческого разума». Эти строки словно отдают голосами Руссо и Кондорсе. В другом месте Талейран утверждает, подобно Гельвецию, Вольнею или Сен-Ламберу, что интерес управляет волей. Сикар рецензирует Грамматику Харриса, переведённую на французский Тюро. Шампань предлагает перевод Политики Аристотеля, Камю совершенствует свой перевод Естественной истории и занимается трактатом О достойных удивления вещах, услышанных (De mirabilibus auscultis). Первая секция во второй раз предлагает в качестве конкурсной темы — определить влияние знаков на формирование идей; вторая — исследование наиболее пригодных институтов для основания народной морали; четвёртая — продлевает обсуждение вопроса о государственных займах.
В VI году вторая секция Института рассматривает остроумные эссе о пасиграфии — системе универсального языка, основанной главным образом на единообразии знаков, — а также систему лексикологии, направленную на исправление идей через совершенствование языка. Она составляет серию вопросов для Института Египта и открывает конкурс на тему: какими средствами можно восстановить приличие и торжественность похорон. Она присуждает награды Мюло, Амори Дювалю и, своим примером, поддержкой и без обращения к религиозным идеям, ей удаётся положить конец скандальной практике, принявшей беспрецедентные масштабы. Тем временем душеприказчики Мабли сообщают о выходе нового исправленного и дополненного издания Кондильяка, включающего ранее неопубликованное сочинение Язык вычислений (La Langue des Calculs). Институт вручает премию, учреждённую секцией анализа ощущений. Её получает Дежерандо; Ланселен и Прево удостаиваются упоминания. Было прислано десять мемуаров, и Биран собрал заметки по данному вопросу. В конце VI года выходит первый том Мемуаров второй секции. Помимо философских работ Рёдерера, Дюпона де Немура, Камбасереса, Пьера-Шарля Левека, Грегуара, Делиля де Саля, Очерка о Рейнале Лебретона, в него вошли Общие рассуждения об изучении человека и о связи его физической организации с интеллектуальными и моральными способностями, Физиологическая история ощущений Кабаниса. Дестют де Траси представлен работой о Способности мыслить, Ларомигьер — рассуждением О значении слова «анализ ощущений» и выдержкой из мемуара О значении слова «идея».
Для серьёзного читателя Кабанис представлялся как самый значительный философ секции, Дестют де Траси — как самый проницательный и наиболее способный к обсуждению идеологических вопросов, Ларомигьер — как самый ясный и наиболее способный сделать свои доктрины доступными для всех.
В первом триместре VII года Рёдерер выступал с речью О тех институтах, которые могут заложить основы морали в народе, Тулонжон — О личной свободе, Делиль де Саль — О свободе голосования, Грегуар — О работорговле и рабстве негров. Вилетерк, опираясь на Локка, Гоббса и Кондорсе, предлагал предоставить отцам и матерям равные права (с некоторыми отличиями, обусловленными разными обязанностями) в вопросах воспитания детей. Мерсье утверждал, что если красоту создаёт душа и жизнь, то именно выражение жизни — моральной, чувственной и внутренней — и составляет суть прекрасного.
Дону, секретарь секции во втором триместре, сообщает о мемуарах Делиля де Саля о Платоне — «князе философов», — и о мемуарах Мерсье, содержащих моральные и политико-моральные размышления. Тюре и Гаюи, Гара, Лебретон, Мерсье и Алле присутствовали при операции по восстановлению зрения у слепорождённого двадцатичетырёхлетнего мужчины. Гара и Лебретон засвидетельствовали, что у пациента было некоторое представление о цветах: яркий свет представлялся ему как слабый рассвет, недостаточный для различения предметов. Поставленный под углом к источнику света, он распознал алый цвет жилета Гара и назвал розовым тот оттенок красного, который имел цвет катушки. Один из членов Института, профессор центральной школы в Лионе, сочинил Гимн Вечному, где — чтобы показать, что большинство членов отнюдь не были враждебны вере в Бога — мы отметим стихи, которые можно сопоставить с тем, что мы уже говорили о Дюпоне де Немуре, Делиле де Сале и Ла Ревейере.
В двух последних триместрах Рёдерер занимался пасиграфией как письмом и как языком, критиковал теорию Домерга о предложении, предпочитая ей номенклатуру Кондильяка, и работал над составлением Катехизиса морали, ссылаясь с похвалой на Гольбаха, Сен-Ламберa и Вольнея. Мерсье выступал против Локка, ссылаясь на «великое неписаное право», и открыто и энергично отстаивал идею врождённых идей. Секция объявила конкурс на тему привычки и вновь поставила вопрос о границах и объёме власти отца семейства. Второй том Мемуаров секции вышел во фрюктидоре. Наряду с трудами Левека, Бодена, Талейрана, которые в ряде мест затрагивают философию, он включает мемуары Кабаниса о возрасте, поле и темпераменте. После появления этого тома — вскоре вслед за публикацией в Декаде важного письма Кабаниса о совершенствовании человеческой природы — сам Кабанис всё более выделялся как наиболее значительный, если не как глава, то как философ среди всех, кто входил во вторую секцию.
Боден внезапно скончался — от радости, узнав о высадке Бонапарта. Дестют де Траси новыми доводами подтвердил, что именно ощущению сопротивления мы обязаны знанием о существовании тел, и опроверг гипотезы Мальбранша и Беркли об «идеальной» природе бытия. Для Делиля де Саля наиболее совершенной республикой является та, что имела бы счастье вручить великому человеку задачу управления конституцией, способной обеспечить внутренний покой. Нерон Форбонне предвидел в учреждениях Консульства зарю прекрасного дня для политической экономии. Шампань сожалел, что Боден умер, не дожив до того, чтобы увидеть: «герой, чьё имя он призывал в последние мгновения, исполнил все его надежды!». Женгене подготовил замечательный отчёт о моральном конкурсе, проанализировал работы, не заслуживавшие награды, и предложил заменить исходную тему на новую: Является ли соперничество хорошим средством воспитания? Дону исследовал, в чём состоит общее волеизъявление. Тулонжон сводил естественное право к свободному распоряжению собой и своей собственностью. Бернарен де Сен-Пьер занимался диетическим режимом и морскими наблюдениями, необходимыми при дальних плаваниях. Но наиболее интересными мемуарами, если не по содержанию, то по выражению духа времени, были труды Мерсье, выступавшего против «софистической» ошибки Локка, стремившегося уничтожить идею врождённых понятий. В отчёте Левека указывается лишь, что, по мнению Мерсье, наше существо осознаёт себя само, наша мысль — это вспышка вечного бытия, контакт с божеством, проблеск первого начала, одна из бесконечных форм постижения первичной истины, постижения истины — известной или неизвестной. Но у нас имеются и более точные сведения. Мерсье, который в Лицее оспаривал астрономическую систему Ньютона, за десять дней до выступления заявил о своём намерении низложить Локка и даже Кондильяка в пользу учения о врождённых идеях. 7 вантоза в Институте собралось множество слушателей. Мерсье восхвалял Платона и Сократа, Цицерона, Пифагора и даже Прокла, нападал на скучного и нечитабельного Локка, на Энциклопедию, на Кондильяка и на сам Институт, становящийся, по его словам, «предметом насмешек всей Европы» за то, что тот отвергает идеи врождённые. В заключение он пообещал в течение десяти дней с такой же очевидностью доказать, что мы познаём внешние объекты и что приобретаем идеи интуитивно, то есть через внутреннее чувство. На заседании 17 числа народу было ещё больше, чем 7-го. Мерсье утверждал, что мысль — это вспышка вечной силы, апеллировал к религиозному чувству, заявлял, что существование Творца проявляется в нас через интуицию, что мышление свидетельствует о финальных причинах, что душа предшествует телу, и что система врождённых идей и интуиции через внутреннее чувство поддерживается Декартом и Мальбраншем, Бонне и «Премудростью, которая под именем Канта вызывает восхищение всей Германии». Таким образом, Мерсье, среди почитателей Локка и Кондильяка, смог с исключительной резкостью обрушиться на них. Он, задолго до Виктора Кузена, восхвалял Платона, Прокла и Канта — и ни один из коллег, чьи убеждения он задевал, не прервал его. Именно это, как нам кажется, даёт нам основание поставить под сомнение знаменитую анекдоту, приписывающую выдающимся членам Института необычайную нетерпимость.
Упомянем также, в течение VIII года, мемуары Дежерандо и Дестюта де Траси о пасиграфии, а также Мерлена — о необходимости универсального и единообразного кодекса для Республики. «Этот кодекс, — говорил он, — станет самым прекрасным плодом почётного и прочного мира, который обещают гений и фортуна нашего героя, мужество генералов, доблесть граждан, вооружённых за наше дело, поля Маренго и обет, который мы все даём — быть друзьями всех людей, всех народов, всех государей, если только они не захотят быть нашими врагами». В IX году Кабанис рассматривал влияние болезней на формирование идей и на моральные аффекты; Дону — классификацию библиотеки; Тулонжон — понятие духа; Дежерандо — философию Канта; Бушо — систему Гоббса и мораль Цицерона. Вторая секция присудила премию за работу об эмуляции (соперничестве) Фёйе и отметила ещё четыре мемуара, один из которых — на немецком языке. Третий том её Мемуаров содержит, помимо исследования Левека «О некоторых значениях слова «природа»», также и «Историческое сообщение» Бугенвиля о североамериканских «дикарях», три мемуара Дестюта де Траси: «О чувстве сопротивления», «О гипотезах Мальбранша и Беркли», «О проектах пасиграфии». Дестют де Траси, готовившийся к изданию своих «Элементов идеологии», обещал довести до конца идеологическое исследование человека, дополнив физиологическое исследование, начатое Кабанисом. Оба могли считаться мастерами французской философии.
Остаётся упомянуть, в завершение этого краткого обзора истории второй секции, мемуары Мерсье: «О философии Канта», «О сравнении философии Канта с философией Фихте»; мемуары Дестюта де Траси — «О философии Канта»; Дежерандо — «О дикаре из Аверона»; Делиля де Саля — «О Боге»; Левека — «О моральной симпатии», что свидетельствует о влиянии Кабаниса; Бушо — «О Сенеке» и «Об Эпиктете», в котором он оспаривает учение о врождённых идеях, и т.д. Следует также напомнить о конкурсах: на тему привычки, где Биран был сначала отмечен, а затем удостоен премии; и на тему разложения мышления, итоги по которому были подведены уже после реорганизации Института. Наконец, Дестют де Траси представил часть своей «Генеральной грамматики». Что касается двух последних томов секции, то первый, опубликованный в XI году, открывался восторженной хвалой 18 брюмера — «дня, навсегда памятного в летописях Франции, в анналах Института, который дал правительству первого консула — Бонапарта, второго — Камбасереса и призвал к себе третьего — Шарля-Франсуа Лебрена». Пятый том вышел в XII году — уже после закрытия центральных школ и самой второй секции — в то время как Наполеон, расправившись с Трибунатом, стал пожизненным консулом. Идеология более не в чести, и почти все печатаемые мемуары касаются либо древней истории, либо истории Франции до Нового времени.
В итоге, вторая секция, просуществовавшая всего около семи лет, вызвала значительное философское движение. «Размышления о связи физического и морального» Кабаниса, «Идеология» Дестюта де Траси, исследования о знаках у Дежерандо и Прево, труды Бирана о привычке и о разложении мышления — всё это более чем достаточно подтверждает её значимость. Многочисленные мемуары о Канте показывают, что интерес к зарубежной философской мысли был весьма живым и устойчивым.
Мы уже видели, когда цитировали Бито́бе, а до него — Био, Лакруа, Шенье, Пинеля, Ламарка, Дюпюи, что три секции Института «представляли собой живую Энциклопедию» и каждая отводила место философским исследованиям, дополнявшим их позитивные труды. Это справедливо даже по отношению к тем, кто вскоре стал врагом философии. Если Гара, на публичном заседании 15 нивоза VI года, хвалил Бонапарта за его спокойные наклонности, разнообразные познания и наблюдательность, добавляя, что он будет, завершив свои дела, считаться «философом, который на мгновение возглавил армии», — то Бонапарт ответил так, чтобы показать, насколько высоко он ценит эту похвалу: «Истинные завоевания, — сказал он, — единственные, о которых не приходится сожалеть, — это завоевания над невежеством. Самое почётное и полезное занятие — способствовать расширению человеческого знания. Подлинная сила Французской республики должна отныне состоять в том, чтобы не допускать существования ни одной новой идеи, которая не принадлежала бы ей». И не только Бонапарт, который впоследствии будет везде преследовать идеологию, но и Кювье, в своих «Похвальных речах» не устававший насмехаться над философией, мыслит в духе Дестюта де Траси и Кабаниса: «Именно в тот момент, когда гремит буря, — говорит он в VIII году, — именно тогда, когда само слово «учёный» считается преступлением в глазах некоторых врагов Франции, именно когда против науки и философии организована крестовая кампания — Национальный институт, с непоколебимой стойкостью, посвящает себя распространению образования, совершенствованию наук и распространению философии».
Не следует, впрочем, думать, что с упразднением второй секции философия полностью исчезла из Института. Секция истории и древней литературы присуждает премию за Разложение мышления. На её заседаниях читаются мемуары Дюпона де Немура О нравственной свободе, где он утверждает в 1813 году, что «без свободы не существует морали»; мемуары Дежерандо Об истории интеллектуальных методов. На заседании 21 декабря 1808 года Андриё произносит похвалу Фенелону, чтобы перейти к похвале Кабанису; а Дестют де Траси восхваляет и философию, и друга, которого он потерял; де Сегюр сам говорит об идеологии — и не слишком плохо отзывается о ней. Философия продолжала сохранять значительное место в реформированном Институте даже после 1808 года — в отчётах Дежерандо, Сюара и Шенье, в знаменитом мемуаре Дону «О судьбе».
Наконец, в 1833 году Академия моральных и политических наук возрождает вторую секцию. Дестют де Траси и Ларомигьер, Дроз и Дежерандо, Сийес, Лаканаль и Талейран, Рёдерер и Гара, Дону и Бруссе, Дюнуайе и Шарль Конт представляли там идеологию. Самые интересные и уместные биографические очерки Минье на протяжении почти двадцати лет были посвящены именно идеологам.
Национальный институт являлся венцом всех учреждений, посвящённых народному просвещению и утверждённых Конвентом. Это были не только профессора центральных школ — это были и преподаватели всех специальных школ, которые могли видеть в членах Института «вождей образования». Помимо самого Института, но работая, как и он, над развитием наук, искусств и литературы (неотделимых от развития философии), формируется множество учёных обществ, среди которых мы упомянем лишь самые важные. Институт Египта был едва ли менее знаменит, чем Институт Франции — тем более что последний предоставил ему свои лучшие кадры. Институт Лигурии включал секцию, посвящённую искусству рассуждения и анализу операций рассудка.
В Париже Медицинское эмуляционное общество, о котором мы уже говорили, ставит своей целью соединить медицину с философией. В Республиканском лицее, позднее ставшем Афинеем, Лагарп нападает на Туссена, Гельвеция, Дидро, Руссо, «Систему природы», но говорит с похвалой о Фонтенеле, Бюффоне, Монтескьё, Д’Аламбере и Кондильяке. Рёдерер преподаёт там политическую экономию, Мерсье критикует Кондильяка и Локка, Гара читает курс по истории Египта, Дежерандо ведёт курс моральной философии и разбирает ощущения; Леруа зачитывает различные диссертации об физическом воспитании детей, об ощущениях и привычках. Моро де ла Сарт говорит о характерах, разновидностях человеческого рода, об упадке, которому он подвержен. Женгенé, Сикар, Био, Демаймё читают лекции или выступают с сообщениями. Лагарп и Сю, Демуатье и Туро преподают в Лицее для иностранцев. Общество наблюдателей за человеком ставит целью подчеркнуть важность внимательного изучения физических, интеллектуальных и нравственных способностей, определить, что уже сделано, а что ещё предстоит, и наметить границу между достоверным и гипотетическим знанием. Среди его членов — Демаймё, автор системы пасиграфии, Кювье, Дежерандо, Пинель, Порталис, Моро де ла Сарт, Жоффре, Патрен и капитан Боден. Последнему, отправляющемуся в Новую Голландию, Кювье пишет Рассуждения о методах наблюдения за физическим человеком, а Дежерандо — О наблюдении за дикарями; Моро де ла Сарт перечисляет предметы, которые могли бы войти в коллекцию музея, проект которого разработан Обществом. В качестве премии учреждается бронзовая медаль и шестьсот франков за лучшее сочинение на тему: «Определить посредством ежедневного наблюдения за одним или несколькими младенцами порядок, в котором развиваются физические, интеллектуальные и нравственные способности, и выяснить, в какой степени это развитие поддерживается или, напротив, тормозится влиянием окружающих предметов и — в ещё большей степени — влиянием лиц, с которыми ребёнок взаимодействует». Пинель сообщает наблюдения над психически больными и их классификацию по различным типам; Патрен — о нравах и обычаях сибирских русских и казанских татар; Лёблон — о молодом китайце, находившемся в Париже. Порталис представляет отрывки из своего Философского духа. Читается мемуар о новом и лёгком способе научить врождённо глухонемых произношению. Массьё, знаменитый ученик Сикара, выражает с помощью жестов своё детство, которое он предварительно изложил в письменной форме. Лицей искусств устраивает торжественную панихиду в память об illustrious и несчастном Лавуазье. В Республиканском портике Ларош, друг Гельвеция и переводчик Горация, преподносит бюст этого философа. Школа и полиматическое общество располагает преподавателями, специально занимающимися совершенствованием, передачей знаний и анализом разума в применении к искусству учения и преподавания. Сикар читает в Филотехническом обществе мемуар о механизме речи. Филоматическое общество принимает только те мемуары, которые содержат факты, наблюдения или интересные и новые идеи. Общество поощрения национальной промышленности насчитывает среди своих членов не одного идеолога, таких как Дежерандо или Ж.-Б. Сэй, и не уклоняется от рассмотрения философских вопросов.
В Обществе наук и искусств Дуэ поднимают тосты в честь Бонапарта, Институтов Франции и Египта, философов, прославивших XVIII век, Кондорсе, Байи, Малзерба, Лавуазье и других жертв «вандализма»; в качестве конкурсной темы предлагается: Сравнение между XVIII веком и веком Людовика XIV с точки зрения науки и искусства. Общество сельского хозяйства, наук и искусств в Шалоне изучает способы искоренения нищенства. В Нанси существует Общество здравоохранения и Общество эмуляции, в котором состоит сын знаменитого эллиниста Швейггейзера. Там изучают Книгу Иова и восхваляют Гесснера. Общество сельского хозяйства, наук и искусств Нижнего Рейна предлагает следующую тему для премии: Каковы средства распространения знания и употребления французского языка среди жителей всех классов в департаментах Республики, где разговорным языком является немецкий?. Ноэль, бывший помощник комиссара по народному образованию, министр в Венеции и Голландии, трибун и будущий генеральный инспектор Университета, основывает в Кольмаре, где он префект, Общество эмуляции, главной целью которого является распространение просвещения, содействие развитию промышленности, поощрение достоинств, популяризация богатств, нужд и ресурсов всех частей департамента. Пфессель, автор немецких поэм, и Франсуа, профессор математики в Центральной школе, являются вице-президентом и секретарём этого общества. Декада, чтобы показать пользу данного общества, напоминает, что его вице-президент ещё в IV году разработал план промышленной географии, включавший таблицу сырьевых материалов, используемых национальной промышленностью, и проект кабинета естественной истории, в котором хранились бы образцы всех видов сырья рядом с образцами различных промышленных изделий страны.
В Гренобле существовал Лицей наук и искусств, который за пять лет создал сто двадцать мемуаров, речей, диссертаций и отдельных сочинений. В него входили профессора Центральной школы — Гатель, Берриа Сен-При, Дюбуа-Фонтанель. На одном из его публичных заседаний присутствовали епископ Гренобля и знаменитый лионский врач Пти, а также Бонно, ученик Руссо, племянник Кондильяка и Мабли. На конкурс по вопросу о совершенствовании физического и нравственного воспитания детей было подано тринадцать мемуаров. Победивший мемуар сопровождался эпиграфом, заимствованным у Бэкона и часто повторявшимся в то время: Необходимо пересоздать разум. В Марселе — свой Лицей наук и искусств; в Монпелье — своё Общество, где состоят Карне и Драпарно; в Тулоне — Свободное общество эмуляции. Академия Гарда публикует перевод Трелиса фрагмента Платона, найденного среди развалин Агриджента, и предлагает в качестве конкурсной темы — Похвала Малзербу. Общество наук и искусств Монтобана награждает мемуар на тему О наилучшем виде женского воспитания, способного сделать мужчин счастливыми в обществе. В Афинее департамента Жерс Видо пишет о дружбе и её влиянии на действия и счастье человека. В Бурже существуют Общество сельского хозяйства, торговли и искусств, а также Лицей эмуляции. В то время как для Фуше восстанавливают Министерство общей полиции, Декада сообщает о мемуарах Лицея Йонны и о протоколах публичных заседаний Афинея Пуатье, которые, по её словам, «вселяют утешение и надежду на защиту от возвращения времён невежества и одурения». Наконец, напомним об Обществе эмуляции в Руане, упомянутом в связи с центральными школами, и о Лицее наук, литературы и искусств в Алансоне, среди корреспондентов которого — Дюпюи и Вольней.

— IV —
Газеты; «Философская декада»
Школа, желавшая добиться торжества своих идей в политике, в воспитании, в морали и законодательстве, в политической экономии и литературе, должна была стремиться к их распространению через периодику, количество которой значительно возросло после созыва Генеральных штатов. Не останавливаясь подробно на чисто политических изданиях, таких как Journal de Paris, в котором писали Лаланд, Рёдерер, Гара, Вольней, Кондорсе, или Moniteur, где публиковались статьи Дестюта де Траси и Фонтана, мы упомянем ряд других изданий, характер которых кажется нам более целиком идеологическим. Кондорсе, Сийес и Дюамель основали Journal d’instruction sociale (Журнал общественного просвещения). Journal des Savants (Журнал учёных) вновь начал выходить с участием Камю, Ланглеса, Сильвестра де Саси, Дону и др.; Clef du cabinet des souverains (Ключ к кабинетам монархов) Панкука редактировали Дону, Гара, Фонтан, Руссель. Саррет, по приглашению Талейрана, основал Le Conservateur, в который последний поставлял иностранные новости; Гара писал статьи по внешней политике; Дону — по общей политике и философии. Шенье и Бужолен писали о литературе, Кабанис — о зарубежной литературе. Сийес обещал сотрудничество, но в итоге остался в стороне от издания. Другой Conservateur, выпущенный в VIII году Франсуа (де Нёшато), стал одним из самых любопытных сборников революционной эпохи. Однако, как нам кажется, наиболее интересными в нём являются материалы, касающиеся философии Канта. Наконец, Дону писал статьи для Annales patriotiques et littéraires (Патриотические и литературные анналы) Мерсье в рубрике «Конвент». Домерг и Туро основали Journal de la langue française (Журнал французского языка) и др.
Но самым ярким органом школы была La Décade. Она начала выходить во флореале II года (апрель-май 1794), в то время как Робеспьер, избавившись от эбертистов и дантонистов, провозглашал через Конвент, что террор и добродетель — лозунги дня. Основанная обществом республиканцев, La Décade стремилась показать, что просвещение и мораль столь же необходимы для сохранения Республики, как мужество — для её завоевания. Цель, которую ставили перед собой авторы, стала особенно очевидной в условиях политической и религиозной реакции, когда само название журнала стало восприниматься как протест против господствующих тенденций: «Шесть лет назад, — писали они 20 фрюктидора VIII года (6 сентября 1800), — этот журнал был основан обществом людей пера, чтобы поставить преграду невежеству, которое грозило уничтожить все памятники гения и искусства. Шамфор, один из учредителей, погиб; другой литератор, главный автор проекта, был брошен в тюрьмы Террора… План журнала был расширен, а исполнение — усовершенствовано… Наше название, — добавляли они, — запрещает нам пренебрегать философскими науками и велит, в меру наших сил, противостоять попыткам некоторых людей обратить человеческий разум вспять — к варварству и предрассудкам, от которых столь многие великие писатели стремились его освободить. Самая благородная из задач теперь — завершить то, что они начали». Истинным основателем журнала был Женгенé, который, выйдя из тюрем Террора, сожалел о том, что у него не было времени использовать богатейшую «жилу» философии, очищенной размышлением и добродетелью. Будучи послом в Турине в течение части VI и VII годов, он был заменён на посту редактора Бужоленом, а в административной части — Ж.-Б. Сэем; затем вернулся в La Décade в термидоре VII года (июль 1799) и вновь стал её руководителем, когда Сэй был назначен в Трибунат. Кто же, кроме Сэя и Женгенé, был среди основателей La Décade? В 1801 году большинство из них входили в состав Института.
В конце X года La Décade была названа «самым печальным из периодических памфлетов, которые мог бы выдумать продажный писатель», «декадским богохульством против языка», «памфлетом против здравого смысла». Редакторам, говорилось далее, приписывали то, что они «превратили язык древних корифеев философии, ещё недавно чаровавший своей магией, в подлый жаргон плебейской метафизики»; утверждалось даже, будто в этой банде молодых вандалов находился автор скандального листка под заголовком «Приключения Иисуса Христа» (les Aventures de J.-C.). Авторы Décade горячо возразили и представили дополнительные пояснения: «Наша ассоциация, — говорили они, — образовалась почти девять лет назад, в начале II года. Нашей целью было как раз противостоять этому вандализму, этому плебейскому тону, этому презрению к языку, к литературным принципам и образцам, тем порокам, которые тогда господствовали — и в которых теперь нас смеет обвинять наш клеветник… Нас было шесть… Пятеро других не пали духом, La Décade выходила без перерывов… Особенно в первые годы это была единственная литературная газета, которая защищала — с любовью и сознанием дела — то, что новоявленные литераторы сегодня будто бы защищают по партийным соображениям, в сущности ничего в этом не понимая… Язык и правила вкуса всегда в ней соблюдались, здравый смысл был для нас нормой… Если французская философия, которая вовсе не есть метафизика, но разоблачила пороки запутанной метафизики, — если она всё же считается «плебейской метафизикой», то мы признаём: это именно наша философия. Мы были столь далеки от того, чтобы быть наёмными писателями, что не раз поддерживали это издание безо всякой материальной выгоды, по меньшей мере для себя — лишь из соображений пользы, которую оно могло принести, и чтобы оправдать поддержку, оказанную нам друзьями литературы, подлинной философии и разумной свободы… Мы — не какое-то общество молодых людей, не «банда вандалов»… Подобные забавы (как Приключения И. Христа) не соответствуют ни нашему возрасту, ни нашему характеру, ни положению или состоянию кого-либо из нас. Если наш обвинитель, скрывающий своё имя, назовёт его, мы назовём свои: среди них нет ни одного, за который порядочный человек должен был бы стыдиться». La Décade больше не возвращалась к этому инциденту, и нам доподлинно не известны имена всех шести её основателей. Однако мы знаем Амори Дюваля (Amaury Duval), которого Сент-Бёв называет бывшим главным редактором, и среди постоянных или случайных сотрудников — Иоахима Лебретона, Селиса, Бужолена, Форьеля (последний публиковал интересные статьи о мадам де Сталь и Виллерсе); Ораса Сэя, преждевременную смерть которого оплакивал Ж.-Б. Сэй; Туро, писавшего об исследованиях Кабаниса и Дестюта де Траси; М.-Ж. Шенье и Андриё, Б. де Сен-Пьера, чьи письма и речи публиковались в журнале; Рёдерера, спорившего о грамматике с Домергом и защищавшего современную философию против Рива‑Роля; Драпарно и Дюпона де Немура, Ришерана и Моро де ла Сарт, Био и Гумбольдта, Салавиля и Рума, Батеншона, Дезрено и Эймара. Кабанис направлял в журнал важное письмо о доктрине совершенствования; Кювье подумывал о том, чтобы сделать разбор книги Виллерса.
La Décade жила довольно трудно. Часто в конце номера читатель встречал сообщение о повышении цены подписки из-за огромного роста цен на сырьё, бумагу, труд и гербовый сбор. В конце 1798 года Директория грозила её закрыть, так как в политических статьях, хоть и деликатно, критиковались некоторые дипломатические действия, имевшие самые печальные последствия. Но ситуация стала ещё сложнее, когда политическая и религиозная реакция, поощряемая Бонапартом, успешно атаковала все те идеи, которые Décade взяла себе в защиту. Мы уже упомянули об оскорблениях, на которые она сочла нужным ответить. В термидоре журнал Observateur des spectacles советует ей сменить название. La Décade возражает: «Мы держимся за это название не из духа оппозиции к нынешним вкусам публики, но потому, что оно известно как во Франции, так и за её пределами, и его замена могла бы создать впечатление, будто взгляды редакции — или сами редакторы — изменились: «Журнал, обладающий какой-никакой репутацией, не может безнаказанно отказаться от своего названия»». Но когда Наполеон упразднил центральные школы, секцию моральных и политических наук и Трибунат; когда он стал видеть в «идеологах» своих злейших врагов, La Décade уже не могла свободно публиковать взгляды своих авторов — и тем более не могла продолжать выполнять ту миссию, которую поставила перед собой.
Пока La Décade существовала, она мужественно защищала философию — такой, какой её понимал XVIII век и какой её представляли себе идеологи. 10 сентября 1796 года она анонсирует поэму «Вогезы» Франсуа (де Нёшато), который, долгое время находясь в заключении и лишённый своих бумаг, продолжал любить свою родину и Республику: «Прекрасный пример, — пишет журнал, — для тех, кто, всю жизнь проповедовав философию… теперь её очерняет, клевещет на неё, приписывая ей все ужасы, осквернившие Революцию, будто Вольтер, Монтескьё, Буффон, Гельвеций, Дидро, Д’Аламбер, Руссо, Рейналь проповедовали преступление, воспевали разбой и возвели убийство в ранг заповеди!». Три месяца спустя, отмечая появление журнала Spectateur du Nord (Северный наблюдатель), La Décade задаётся вопросом: почему верующие утверждают, будто «омерзительная философия XVIII века» проповедует восстание против всякой власти, презрение ко всем обязанностям и забвение всех чувств, будто она обучила и воодушевила чудовищ, опустошивших Францию, будто Робеспьер, Колло, Лебон, Каррье были философами! По поводу брошюры Крюзе-Латуша о философской и религиозной нетерпимости La Décade напоминает, что философия была одной из первых целей ярости революционного правительства: Марата парижские избиратели предпочли Пристли, бюст Гельвеция был разбит якобинцами. Кондорсе, Байи и Лавуазье стали жертвами революционного правительства. В тот же день (20 декабря 1797 года), когда La Décade сообщает, что получила столько стихов в похвалу Бонапарту, что ими можно было бы заполнить весь выпуск, она заявляет: «Революция, созданная философией, должна быть ею же и сохранена». Она вновь обращается к книге Марата, где Локк, Кондильяк, Гельвеций и другие названы невеждами. Рёдерер защищает в ней философию от нападок Рива‑Роля и напоминает, что Робеспьер — которого представляют как главного приспешника современной философии — на деле был её хулителем и врагом философов, считая их не кем иным, как честолюбивыми шарлатанами. La Décade отмечает речь Кювье, в которой тот осуждает крестовый поход, развернувшийся против науки и философии. Она заявляет, что книга О влиянии философии на религию, подписанная «офицером кавалерии», принадлежит человеку, который абсолютно не знает философии и очень плохо понимает Революцию. Она указывает на то, что обвинение в философии и в приверженности тому или иному либеральному принципу или идее — это лишь способ сначала их высмеять, а затем надёжнее запретить, — особенно в тот момент, когда выходит в свет «Атала» и обсуждается закрытие центральных школ. Она публикует речь Шенье в защиту этих школ и в похвалу XVIII веку и его философии. Затем она сообщает о книге Мунье О влиянии, приписываемом философам, франкмасонам и иллюминатам на Французскую революцию: «Хотели, — пишет анонимный редактор, — объединить под общей анафемой и дело просвещения, и дело свободы… Придумали заговоры философов…, хотели возложить на философию ответственность за крайности Революции, тогда как её влияние проявилось лишь в её принципах, — с тем, чтобы сделать её одинаково ненавистной всем правительствам и всем народам… Мунье развенчал все эти теории и вывел из самой нашей истории и сквозь наши споры эту возвышенную связь философии и свободы, столь древнюю, как сама мысль, и столь прочную, как разум». В этом же номере, сообщая о том, что Дежерандо был удостоен премии Берлинской академии и избран корреспондентом академий Женевы и Турина, La Décade добавляет: «Это, по крайней мере, доказывает, что доктрина Локка и Кондильяка ныне объединяет одобрение самых просвещённых научных обществ Европы». Когда Деспаз отправляет аббату Сикару сатиру — литературную, моральную и политическую — в которой он утверждает, что в XVIII веке:
…безмятежный атеизм, провозглашая свои догматы,
Душит угрызения, чтобы ободрить преступления,
La Décade в ответ цитирует стих Вольтера::
Если Бога не существует, его нужно выдумать.
С удовольствием она воспроизводит слова Б. де Сен-Пьера, сказанные в Парижском лицее (16 брюмера X года): «Каждый рассуждает согласно своему положению, своей религии, своей нации — и особенно согласно своему воспитанию, которое даёт первую и последнюю окраску нашему суждению. Один только философ соотносит свой разум с всеобщим разумом Вселенной — так, как мы сверяем часы по солнцу».
Сообщая, что вопрос «Будет ли Наполеон Бонапарт пожизненным консулом?» решён единогласно в департаменте Сена, La Décade замечает, опираясь на каталог последней Лейпцигской ярмарки, что: «Немцы (и их книги тому доказательство) по-прежнему ценят науки, изящные искусства и философию!… Честь германской нации!». В рецензии на «Гений христианства» Женгене возмущается партийным духом, который вдохновил нападки на философию, обвинённую теперь во всех бедах только ради того, чтобы помешать добру, которое она хотела бы принести; обвинённую даже в том, что она губительна для истинных женских прелестей, и что она якобы не менее жестока и кровожадна, чем фанатизм! Существует своего рода мужество, — говорит она в XII году, — публиковать сегодня под заглавием Философия важный трактат по метафизике и грамматике, имея в виду Основы философии Монжена. Действительно, мадам де Жанлис не только превозносит времена Людовика XIV, но и «с упорством работает над тем, чтобы унизить и очернить память всех тех, кто мог принадлежать к тому, что автор называет философской сектой»; Вольтера обвиняют в атеизме, и общество запугивается «возвращением времён невежества и одичания»; Наполеон провозглашён императором по наследству, а Фуше вновь назначен министром полиции, воссозданного после осуждения Моро и его сообщников!
Вот почему Décade столь высоко ценит философов XVIII века. Она ссылается на авторитет Локка, Гельвеция и Кондильяка, чтобы утверждать, что только анализ позволяет нам с уверенностью проникнуть в святилище науки. Она хвалит Сикара за то, что тот применил к искусству обучения чтению истины, открытые Локком и Кондильяком. Чтобы дать тем, кто уже восхищается его трудами, представление о характере Локка, Décade переводит его письмо к Молинё — образец простоты и скромности; мадам де Жанлис отсылается к Гражданскому правлению. Андриё прославляет Локка в стихах; Дегерль восхваляет его в Сент-Сире и ставит рядом с Бэконом, Дюмарсе и Кондильяком. Именно на Локка и Кондильяка опирается Дорш, чтобы привлечь внимание к Канту, или Орас Сэй — чтобы задумать труд об уме человека, или Лакруа и Био — чтобы объяснить прогресс метафизики.
В августе 1797 года Décade сообщает о новом издании сочинений Кондильяка, которое будет включать двадцать два или двадцать три тома, и заявляет, что всегда с интересом наблюдает за появлением новых изданий этого элементарного труда, который до сих пор остаётся наилучшим. Точно так же она упоминает об издании Полного собрания сочинений Гельвеция, содержащем новые материалы, достойные внимания философов, и энергично защищает его от нападок Лагарпа и тех, кто к нему примкнул.
Она строга к Дидро, «который в грубых выражениях пересказывает грязные истории» в Жаке-Фаталисте и Нескромных драгоценностях, хотя и считает Монахиню вечным памятником развращённости монастырей и цитирует Дидро как предшественника Кабаниса, как самого мощного борца, которого можно противопоставить противникам философских принципов. Тем не менее она с радостью сообщает о посмертных сочинениях Д’Аламбера, о переводе Ласалем Бэкона — «этого великого человека, которому философия и науки будут вечно обязаны». Чтобы говорить о Монтескьё, как это делает Лагарп, — по мнению одного из её редакторов, — вовсе не обязательно его читать. Сам Томас, благодаря своему Марку Аврелию и Опытy о похвальных речах, кажется достойным быть поставленным рядом с Монтескьё и Руссо. Что касается Вольтера, Décade почти не вспоминает о нём, кроме уже приведённого стиха. Но чтобы представить весь век — даже в том, что ныне вызывает наибольшие споры, — она говорит о «великом Мабли, который удостоил Робертсона чести быть в числе своих критиков».
Кондорсе — один из философов, к которому авторы Décade испытывают наибольшее уважение и восхищение. Уже в III году она приводит сведения о его смерти; в том же году Женгене объявляет об Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума и не боится поставить прекрасную заключительную страницу этого труда рядом с тем, что древние философы оставили самого возвышенного. Если 30 вантоза VII года редактор раздела «Внутренние дела» говорит с определённым пренебрежением, что доктора «школы усовершенствования человеческого разума» не задумываются о том, что девяносто девять сотых людей вовсе не являются метафизиками и ничуть от этого не страдают, Décade, по поводу этой статьи, которая справедливо возмутила некоторых друзей философии, считает необходимым — в силу своего названия, духа, который всегда ею руководил, постоянства и твёрдости её принципов — объясниться ясно и откровенно:
«Если сторонники усовершенствования человеческого разума и составляют школу, то они никоим образом не претендуют быть докторами. У этой школы был в числе её главных представителей один из самых оплакиваемых жертв варварства 1793 года, память которого не должна быть оскорблена никакими обидными обозначениями. Друзья его памяти, придерживающиеся тех же убеждений, — это в общем достаточно здравомыслящие люди и хорошие республиканцы, чтобы, даже допуская у них ошибки, обращаться к ним с большим уважением… Если девяносто девять сотых людей не являются метафизиками и от этого не страдают, они, возможно, страдали бы ещё меньше, если бы оставшаяся сотая часть — та, что призвана направлять, просвещать, управлять и подчинять хорошим законам остальные девяносто девять — была бы немного лучшими метафизиками; но не в старом смысле этого слова, а в духе новой школы… Люди, обвинённые в том, что они верят в усовершенствование человеческого разума в такой степени, которую они сами считают трудной и дерзкой для определения, — были первыми, кто подумал, сказал и написал, что именно великие учреждения, способные затронуть чувства и сердце, — это то, чем в первую очередь следует заниматься, если хочешь возродить народ. Им больно не только от того, что их голос до сих пор не был услышан, но и оттого, что им приписывают мнение прямо противоположное».
Вслед за этой статьёй Кабанис написал в Décade прекрасное и примечательное письмо, в котором он одновременно защищал философию, идущую от Локка, Кондильяка, Гельвеция, и доктрину усовершенствования. Форьель замечает, анализируя Литературу мадам де Сталь, что она сводит большую часть своих размышлений, идей и наблюдений о прошлом и настоящем состоянии человеческого разума в области знаний к системе бесконечного совершенствования человеческого рода, стремясь развить и подтвердить её. Во втором издании своего труда мадам де Сталь писала, что, говоря так, она вовсе не имела в виду мечтания некоторых мыслителей о неправдоподобном будущем, но имела в виду поступательное развитие цивилизации во всех сословиях и во всех странах. И редактор Décade утверждал, что это мнение, в такой формулировке, было мнением всех просвещённых философов за последние пятьдесят лет — как в соседних нациях, так и у нас. Для Моро де ла Сарта XIX век — это та эпоха, которую обозначил Кондорсе, когда науки, ставшие утешением и провидением человечества, должны посвятить свои благородные усилия уменьшению суммы бедствий и увеличению блага, приносимого цивилизацией. Учение о совершенствовании, по мнению Ж.-Б. Салавиля, было присуще всем философам античности; оно провозглашалось в последние века всеми писателями, друзьями человечества и ревнителями морали. Это есть способность переходить от известного к неизвестному — и именно это приводит его к сомнению в принципе Локка и Кондильяка, которые помещают источник или причину разума в чувственности. Женгене резко упрекает Палиссо за то, что тот называет философию Кондорсе «философизмом». Он напоминает этот набросок шедевра, который сам по себе уже является шедевром, — труд, завершённый под топором палачей, который занял последние мгновения жизни, всецело посвящённой поиску истины, распространению всего, что могло сделать людей более счастливыми, делая их лучше — Эскиз, этот памятник силы ума, который удивляет, широты знаний и взглядов, которые внушают уважение, и доброты души, которая трогает.
Последователи Локка, Кондильяка, Гельвеция и Кондорсе удостаиваются не меньшего признания. Произведения Кабаниса и Дестюта де Траси, Вольнея и Дежерандо, Тюро и Дюпе, Сен-Ламберта и Лапласа, Лакруа, Франсуа (де Нёфшато), мадам де Сталь, Ришерана, Андриё, мадам де Кондорсе и Ж.-Б. Сэя, Шамфора и Бенжамена Констана анализируются с тщанием, чтобы ясно выявить их значимость и оригинальность. Де Траси и Дежерандо, Тюро и особенно Вольней, Кабанис и Гара часто и восторженно цитируются.
Все учреждения, которые связаны с философскими доктринами XVIII века или служат успешным средством их распространения и пробуждения симпатии к ним, горячо хвалятся. Décade сообщает об открытии Нормальной школы, «венце огромного здания и вершине системы образования». Она указывает на читаемые там курсы, особенно на курс Гара. Женгене, по случаю перевода Прево Опыта Адама Смита, с удовольствием цитирует переводчика, который мстит за наши Нормальные школы той холодности и несправедливости, от которых этому прекрасному учреждению пришлось страдать почти в равной мере. Газета проявляет не меньший интерес к центральным школам. Каждый год она публикует отчёт об открытии или начале занятий в школах департамента Сены и в ряде других департаментов; она отмечает публичные экзамены, завершающие учебный год, работы преподавателей и учеников, обсуждения, вызванные организацией и существованием этих школ. Она сообщает о путешествиях во время каникул и анонсирует конкурсы на преподавательские должности. Она с оживлением спорит с теми, кто требует восстановления колледжей, и с радостью отмечает, что в наших департаментах есть таланты, способные формировать умы молодёжи, и что не стоит терять надежду на успехи народного образования. Она отстаивает требования преподавателей, настаивает перед правительством на выплате задержанных жалований и указывает, что в то время, как рассматривается этот вопрос, жалование представителей народа было увеличено почти до двенадцати тысяч франков в год. В более общем плане Décade интересуется всем, что касается народного образования: она сообщает об открытии курсов Политехнической школы и требует, чтобы для моральных наук было сделано то же самое, что и для физических, чтобы была основана школа, которая стала бы питомником, откуда будут черпать профессоров, администраторов, послов. В 1796 году она публикует результаты экзамена, на котором были приняты 113 кандидатов из 304, и утверждает, что образование во Франции было не столь запущено, как это обычно думают; она приводит выдержки из журнала, публикуемого школой. Важные статьи посвящены народному образованию в период Учредительного собрания, Законодательного собрания и Конвента. Сообщается о создании Совета народного образования, указываются и иногда анализируются публичные лекции, читаемые в бывшем Лицее, в Республиканском Лицее и в Коллеж де Франс.
Décade публикует общий список членов Института и Обзоры трудов каждого из классов; она сообщает о публичных заседаниях и о награждённых работах. Точно так же она знакомит читателей с работами Каирского института и Берлинской академии; с созданием и иногда с исследованиями многочисленных обществ, возникших тогда во всех частях Франции и желавших, по примеру Института, трудиться на благо прогресса наук и литературы. Появление газет Египетская декада, Цизальпинская декада, Консерватор, Ключ от кабинета и др., преследующих ту же цель, что и её собственные редакторы, по её мнению, тоже должно быть отмечено для читателей.
Если у Décade и есть предпочтения в философии, политике, литературе, она при этом не является ни исключающей, ни нетерпимой. Всегда готовые бороться с фанатизмом, её редакторы рассматривают атеизм как своего рода религию, которую они сами не исповедуют, но для которой требуют свободы. С удовлетворением они отмечают, что были сняты надписи, в последние годы нанесённые на фронтоны храмов: «Это действительно было скандально для католиков — читать над входом в место, где они совершают свои таинства, такие слова, как „Разуму“, „Гению“, „Миру“ и т.д. С тех пор как храмы снова стали церквями, эти надписи оказались совершенно неуместными». Она помещает любопытное письмо, написанное из Филадельфии Роммом, агентом французского правительства в Сан-Доминго: «Я хотел проверить, — пишет он, — правда ли, что грубые народы Африки не имеют никакого представления ни о Верховном Существе, ни о духовности и бессмертии души, и, наконец, правда ли, что они поклоняются животным и фетишам. Я был не столько удивлён, сколько очарован тем, что у этих несчастных земледельцев (мандугу в Гаити) я нашёл самые ясные представления о Боге, творце и хранителе вселенной, о душе, соединённой с человеческим телом при жизни и переходящей через смерть к бессмертию, о добрых душах, становящихся тогда ангелами, и о злых, превращающихся в демонов». Так же как они считают 21 января событием большого политического значения, они считают его прискорбным для философии и человечности и задаются вопросом, не лучше ли было бы праздновать рождение — рождение Республики в первый вандемьер — нежели смерть. Речь Бонапарта к солдатам Итальянской армии кажется им возвышенной, и они публикуют некоторые латинские, французские, итальянские, испанские стихи, присланные в его честь, так же как и считают, что до 18 брюмера Республика склонялась к своей гибели. Но при этом они энергично защищают центральные школы и все учреждения Конвента. Они жалуются на то, что в Париже полно эмигрантов, которые добиваются своего вычёркивания (из списков), и с бесстыдством рассчитывают на успех. Им кажется странным, что Journal de Paris обвиняет членов Института в неуважении к правительству за то, что они обратились к главе государства «как к столь же любимым, сколь и уважаемым собратьям», и напоминают в этой связи доклад Люсьена Бонапарта, на основании которого в VIII году был запрещён Друг Законов (l’Ami des Lois) за то, что тот осыпал насмешками и сарказмом собрание людей, прославляющих Республику своим умом и ежедневно расширяющих границы человеческих знаний. Наконец, хотя они восхищаются Сийесом и следят за ним с явным интересом до 18 брюмера, они считают, что после того, как он получил в качестве национального вознаграждения поместье Крон (доходом в двадцать пять тысяч франков), такие формы наград подают опасный пример, дискредитируют бескорыстие и возводят в добродетель богатство; что они могут превратиться в привычку и в злоупотребление. Не скажешь ли, что они предвидели, как Наполеон воспользуется этим приёмом — приёмом, которому сумели противостоять лишь немногие из тех, к кому он его применял?
Так, «Декада» публикует выдержку и анализ Курса логики Пинглена, который, оспаривая взгляды Локка и Кондильяка, «приобрёл, размышляя, право иметь собственное мнение». Именно она сохранила для нас лекции Мерсье против Локка и Кондильяка; она же считает методичными, обширными, основанными на новых фактах, на личных наблюдениях, опровержения, которые делает Лебувье де Мортье Сикару и Кондильяку. И наконец, это она говорит об ouvrage Доба, в котором она указывает на нападки на Локка, Бонне и Кондильяка, и что этот труд окажет реальную услугу.
Ни одна французская газета — и это одна из причин успеха «Декады» во Франции и за рубежом — никогда не давала своим читателям столь широких, разнообразных и точных сведений о философском, научном и литературном движении. Мы это показали на примере Франции; для иностранных стран нам будет достаточно нескольких строк. Что касается Англии, с которой почти постоянно велась война в тот период, и Америки, отношения с которой обострились с приходом Адамса к президентству, она сообщает всё, что может заинтересовать литераторов, политиков, философов.
Она публикует письмо из Неаполя о манускриптах Геркуланума, испанские и итальянские стихи, в частности фрагмент поэмы Gli Animali parlanti («Говорящие животные»). Она держит своих читателей в курсе трудов Вольта, напоминает, по случаю смерти Беккариа, что его трактат был переведён на все языки и что его имя ещё долго будет в почёте у всех друзей человечества. По поводу публикации Сочинений В. Альфьери она помещает письмо Бонафиде. После попытки связать Робеспьера со святым Фомой Аквинским — вместо того чтобы видеть в нём ученика Макиавелли — она сообщает о переводе сочинений итальянского философа, выполненном Гюро. Именно в «Декаду» Мелендес Вальдес адресует свои Поэмы как дань уважения Франции — произведение, в котором впервые философия заговорила в Испании языком поэзии.
Но особенно тщательно «Декада» информировала о Германии. Благодаря сведениям, которые она нам предоставила, мы знаем, что Кант был очень внимательно изучен во Франции идеологами задолго до мадам де Сталь и Виктора Кузена. Точно так же она излагает доктрину Галля в тот день, когда сообщает об открытии Кювье новых окаменелостей; она знакомит своих читателей с каталогом Лейпцигской ярмарки и лекциями в Йене, с учением Сведенборга, с Мемуарами Берлинской академии, с запретом философских сочинений в Вене, включая саму Декаду, с письмом Гумбольдта к Фуркруа, с деятельностью Геттингенской академии и т.д. Она сообщает и даже анализирует переводы на французский, испанский и итальянский языки Вертера; Полного театра Коцебу, выполненного Вейссом и Жоффре; Вильгельма Мейстера, Германа и Доротеи Гёте; Театра Шиллера и Лаокоона Лессинга в переводе ван дер Бурга. Она публикует переводы Клопштока (Цюрихское озеро), Рабенера (Средства узнавать по внешним признакам тайные чувства), Коцебу (Жизнь моего отца), Гердера (Мудрый судья), Виланда (Оберон и Агатон), а также подражания Виланду и Гёте, биографическое сообщение и защиту Виланда, анекдоты о жизни Гёте, которые Ж.-Б. Сэй перевёл из Monthly Magazine. Она упоминает Переписку Лессинга с Глеймом, которая не может не представлять интереса, и может в 1804 году (ан XII) заявить: «Мы в общих чертах знакомы с немецкой литературой». Это «в общих чертах» покажется, без сомнения, слишком скромным тем, кто, как и мы, с удовольствием заглядывал в пыльную и несправедливо забытую коллекцию томов Декады.
Наконец, она уделяет внимание Копенгагенской академии и литературе России.
Декада даёт нам не только ценные сведения об идеологах, о философском, научном и литературном движении, в котором они участвовали, о влиянии философов XVIII века; она помогает понять философию, которая последует за ними. Прочитайте, например, письмо, которое г-н Литтре ей адресует, и поместите его в тот контекст, где оно возникло, — и вы гораздо легче поймёте историко-философское творчество нашего современника. Посмотрите, как часто Декада упоминает доктора Бурдена и вспомните, что она глубоко уважает Кабаниса и всех, кто идёт по его пути: вы увидите, что доктрины Сен-Симона и О. Конта, которые ссылались на этого учёного, имя которого мало что говорило большинству современников, восходят к идеологам и либо развивают, либо воспроизводят, либо дополняют, либо искажают их учение. И, наконец, прочитайте рецензию на Жизнь законодателя христиан без лакун и без чудес (20 жерминаля XI года), «которую ни одна газета не осмелилась упомянуть». В ней идёт речь об одиссее Иисуса и о том, что в ней есть слишком человеческого: «Именно обаянием красноречия и прекрасной внешности, добротой, добродетелью без преувеличений, но неизменно стойкой, контрастом своей доктрины с жестоким законодательством Моисея законодатель христиан пленил Иудею». Не кажется ли вам, что вы уже читаете рецензию на Жизнь Иисуса Ренана?
Продолжение: Глава II. Первое поколение идеологов
