Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Версия на украинском и английском языках
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
Эту книгу я обещал рассмотреть ещё во время обзора на «Мы — это наш мозг» (Дик Свааб), поскольку там ссылаются на Вааля, и в момент когда я писал этот обзор, как раз услышал о том, что Ваааль умер в возрасте 75 лет. Говоря об этой книге, я не могу не упомянуть один факт. Купил я ее, насколько помнится, в декабре 2021 года, в киевском сетевом магазине литературы (а может даже в январе 2022-го, уже не помню). Книга на русском языке, от издательства «Альпина», отпечатанная в Москве. Тогда эта серия только разгонялась, и я планировал купить еще несколько книг серии, связанных с ботаникой и теорией эволюции. В марте 2022 года я спускался с ней в подземку киевского метро во время воздушных тревог, и как раз в метро прочитал первые страниц 80 этой книги, а потом отвлекся на какие-то другие вещи. Может многие даже в Украине уже забыли об этом, но еще в 2021 году, как видно, можно было без проблем приобретать и читать актуальную литературу на русском, и не в букинистке или через руки, а в крупных сетевых магазинах. У меня есть еще несколько русскоязычных книг, купленных в преддверье крупной войны, но Вааль запомнился ярче всех.
Первые тезисы из этой книги: (1) Эмпатия доступна многим животным, и чем меньше у них детенышей, тем более заботливы эти животные. (2) Бонобо оказываются самым человекообразным видом обезьян и книга в основном о них, и что характерно, этот вид обезьян самый «мирный» относительно остальных, и в нем царит матриархат. В каком-то смысле это можно рассматривать как усиление тезиса Энгельса, который в последние времена считается ошибочным. (3) Шимпанзе очень агрессивный вид, с жестким патриархатом, и они очень изощрены в «политике». Вааль даже написал книгу о «Политика у шимпанзе» о их интригах внутри стаи.
Одной из целей Вааля является доказать, что моральные нормы и главным образом эмпатия у людей не связана с религией, и скорее врождены. По его мнению это лучше, чем другой атеистический вариант ответа, что никакой морали нет вообще. Книга в основном будет об этом. Ну и бахну цитатку: «Мы живем в период, когда наше родство с человекообразными обезьянами находит все большее понимание и все серьезнее принимается обществом. Правда, человечество не устает выискивать различия между нами и утверждать собственное превосходство, но немногие из заявленных отличий остаются в силе больше 10-ти лет. Если объективно, не увлекаясь техническими достижениями нескольких последних тысячелетий, взглянуть на собственный биологический вид, то мы увидим существо из плоти и крови с мозгом, который, хотя и превосходит мозг шимпанзе втрое, не содержит никаких новых частей. Даже размер хваленой префронтальной коры головного мозга оказывается достаточно типичным для приматов. Никто не сомневается в превосходстве человеческого интеллекта, но у нас нет никаких основополагающих желаний или потребностей, которых не нашлось бы у наших ближайших родичей. Обезьяны, в точности как люди, стремятся к власти, наслаждаются сексом, жаждут безопасности и симпатии, убивают за землю, ценят доверие и сотрудничество. Да, у нас есть компьютеры и самолеты, но психологически мы по-прежнему устроены так же, как общественные приматы».
Интересная история от Вааля, если вкратце, рассказывает о том, как обезьяны (и собаки) получавшие в награду за выполнение некоторых задач огурцы (или что-то иное для собак) — устраивали забастовку, когда видели, что их сородичам дают за те же усилия какую-то награду получше. Это качество у животных назвали «неприятием неравенства». Но еще больше меня заинтересовал подход Вааля к этической философии. Он упоминает самый популярный подход, где мы сначала строим концепцию, а потом стараемся жить, согласно ее постулатам. Это мол происходит «сверху вниз», от каких-то «высоких» уровней. Как я уже писал выше, Вааль сторонник врожденной морали, и поэтому для него очевидно, что все происходит «снизу вверх», из естественной организации вида. Никто не придумывает мораль, она уже дана нам по факту существования. Но вот тот момент, который меня и заинтересовал:
«Представьте, какую когнитивную нагрузку нам бы приходилось нести, если бы каждое принимаемое решение нужно было проверять при помощи «спущенной сверху» логики. Я твердо верю в утверждение Дэвида Юма о том, что разум — раб страстей. Начинали мы с нравственных ощущений и интуиции, и именно в этом мы ближе всего к другим приматам. Человек не откапывал мораль, извлекая ее из рациональных рефлексий; напротив, он получил мощный толчок снизу, из своего неизбывного социально-животного прошлого».
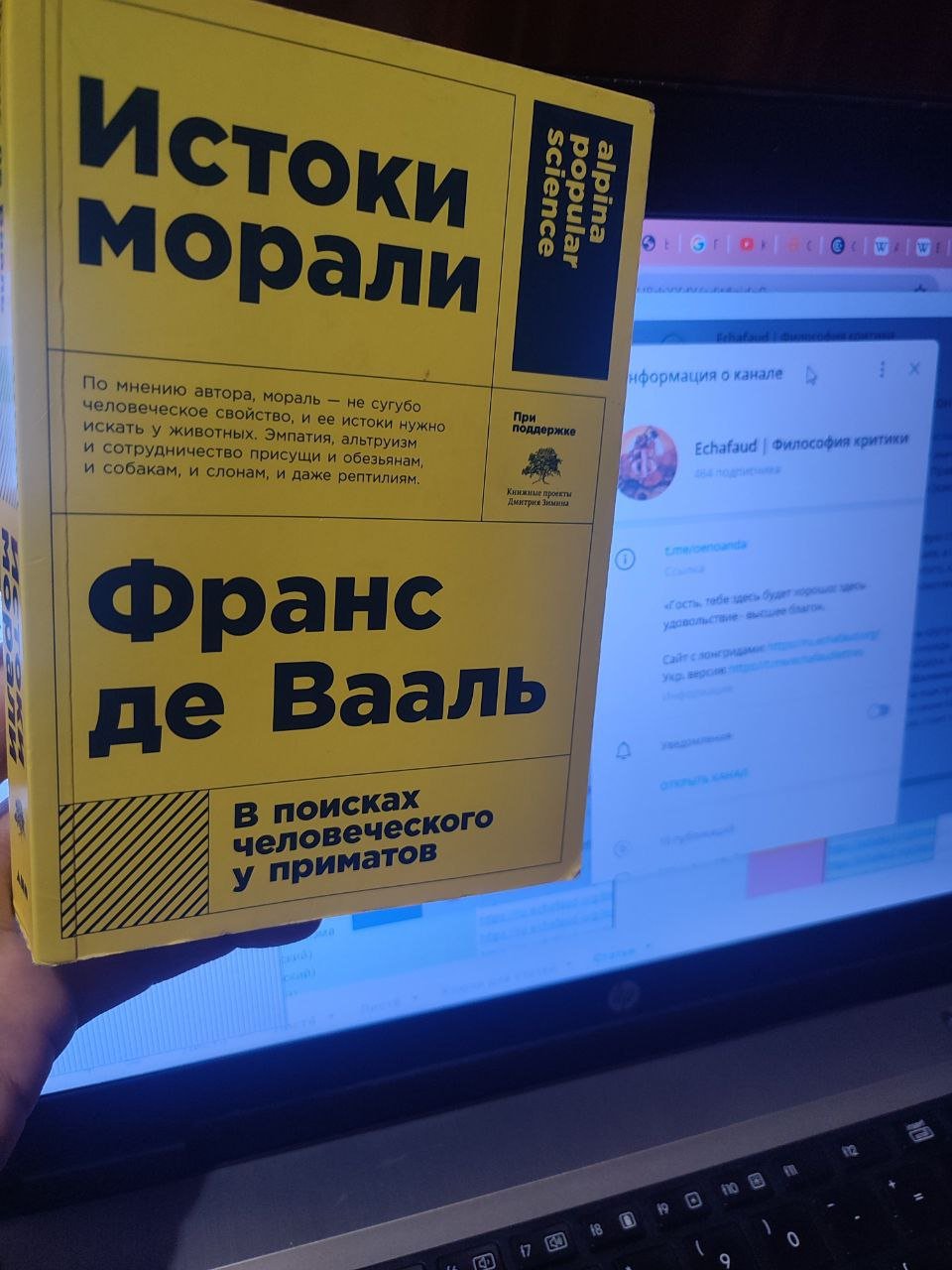
При всем при этом, что удивительно, Вааль критикует Докинза и прочих активных атеистов, за то, что они ведут себя как снобы, и отказывают верующим в разуме. Это было бы еще ладно, если бы не дальнейшие рассуждения о том, что не случайно все общества на свете религиозны (аргумент Эпикура о том, что боги существуют, ведь все на свете верят в каких-то богов. Вааль не говорит про Эпикура, да и в богов вроде как не верит, но аргумент такой же, и этим он хочет «остудить» пыл атеистов). Отчасти это понятно, снобское поведение не способствует просвещению верующих. Но остается ощущение, что Вааль имеет виду нечто большее. Себя он позиционирует как агностика (под стать Юму), а против черно-белой борьбы атеистов и верующих выступает сторонником «градации оттенков серого». Касательно христианства, он не может не признать, что мы все выросли со значительной долей его влияния, даже если с детства не верим в Бога. Его влияние рассыпано везде, в искусстве и т.д. И согласиться здесь можно, но его принципиальная умеренность местами звучит как очень странная защита мракобесия. Но меня больше заинтересовало другое, следующая цитата про обезьян:
«У других приматов, разумеется, подобных проблем нет, но и они пытаются сформировать общество подобного типа. В их поведении несложно различить стремление к тем самым ценностям, которые свойственны и нам. К примеру, известны случаи, когда сами шимпанзе буквально тащили упирающихся самцов навстречу друг другу, чтобы примирить их после ожесточенной схватки, и одновременно вырывали оружие из их лап. Более того, высокоранговые самцы регулярно выступают в роли беспристрастных арбитров, разрешая споры в сообществе. Для меня эти намеки на заботу об общественных интересах служат знаком того, что строительные кирпичики нравственности старше человечества, и что необязательно привлекать Бога, чтобы объяснить, как человек оказался там, где оказался. С другой стороны, что произошло бы с обществом, если бы мы полностью исключили религию? Откровенно говоря, трудно представить, как наука и натуралистическое мировоззрение могли бы заполнить образовавшуюся пустоты и вдохновить человека на добро».
Он не только агностик, но и глубоко переживает наследие нацизма и социал-дарвинизма. Вааль считает, что ученые — в сущности те же приматы, и поэтому давать «науке» право судить о морали, т.е. устанавливать меры «добра» и «зла» — строго запрещено. Иначе обязательно повторится история с Гитлером, а ученые быстро попутают берега и начнут злоупотреблять влиянием. Поэтому он даже высказывает такую фразу: «Я глубоко скептически отношусь к нравственной чистоте науки и считаю, что ее роль не должна выходить за рамки обязанностей служанки морали. … (и где-то через пол страницы) … Даже если наука сможет помочь нам разобраться в том, как функционирует мораль, это не означает, что она станет нравственным лидером; точно так же смешно было бы ожидать, что тот, кто знает вкус яйца, сам такое яйцо снес». Вааль ссылается на известного современного атеиста Сэма Харриса, в очень негативном ключе. Однако ознакомление с его взглядами делает его несколько более интересным представителем современной идеологии. По-видимому это утилитарист с упором на достижения науки. Я согласен, что демонстративный атеизм в XXI-м веке выглядит рудиментарным зашкваром (хотя большая часть планеты всё еще верят в традиционные религии, и это вроде как до сих пор актуально). И что если эта тема и важна, то все же глупо делать ее центральной. Но Харрис выходит и на другие пространства идей, в том числе социо-политическое пространство. И здесь он (как впрочем и Свааб) оказывается типичным современным левым соц-демом. Нападки на Докинза и Харриса не делают чести Ваалю.
Если вам покажется, что поиски эмпатии у животных очень напоминают идеи анархиста Кропоткина, то вам не просто «не кажется». Вааль прекрасно это понимает, и в юности сам спрашивал у других крупных биологов своего времени (Гамильтон и Триверс), почему их идеи так похожи на Кропоткина. А те и не скрывали, что и сами в курсе; как не скрывали они и собственных левых политических взглядов. Вааль прямо сравнивает Гексли (как плохого популяризатора идей Дарвина) и Кропоткина (как хорошего популяризатора). Но все же между ним и Кропоткиным есть разница, которая еще не совсем была видна у того же биолога Триверса. Он не перегибает в использовании примеров альтруизма. Для Вааля примеры из жизни насекомых совсем не равноценны примерам из жизни млекопитающих. Не все примеры жертвенности в природе — это про альтруистическое поведение как пример именно морали. Проводя такое различие, Вааль стал куда менее наивным, чем Кропоткин. Это, скажем так, «Кропоткин v2.0». Но я бы даже расширил это сравнение, и добавил еще одного любимого левыми философа — Руссо. И Вааль очень характерно для типичного руссоиста заявляет:
«Возможно только два варианта отношения к человеку: можно считать, что он изначально хорош, но способен и на зло, а можно наоборот — что он изначально плох, но способен и на добро. Я принадлежу к первому лагерю».
В биологии и поныне, а раньше еще больше, господствовала позиция №2, которую сам Вааль в одном месте уже называл «гоббсовской», что выдает в нем типовое, и местами левое образование (так, например, он ссылался среди прочих и на Хабермаса из франкфуртской школы). Но в свою очередь я не совсем понимаю, в чем проблема видеть третью позицию? А именно позицию последователей традиции Локка, где человек изначально «никакой», и способен как на добро, так и на зло, в зависимости от того, каким он станет по мере своего развития (тут даже можно допустить и генетическое влияние на это развитие). В общем, прочитал уже почти половину книги, и могу сказать, что интересных примеров, доказывающих социальность животных здесь всё же много. И они убедительны. Но выводы автора, которые в значительной степени являются сплавом Руссо, Кропоткина и стихийного левого интеллектуала — не убедительны от слова совсем, и даже оставляют тень на хорошей части его работы. Одной из идей-фикс автора является уязвление «новых атеистов», что выглядит как навязчивая личная обида. Но самое хреновое, что он пошлый моралист в самом примитивном смысле этого слова.
Буквально, он кривляется, называя все хорошие явления социальности «ошибкой» с точки зрения его индивидуалистических коллег. Он гордится тем, что весь такой «ошибочный» и кичится свой моралью сверх любых адекватных рамок. Ему крайне важно доказать, что мы врождено этичны, и что наши предки скорее бонобо, чем шимпанзе. И он старается натянуть это везде, где можно. И даже прямо признает, что если его выводы (как и выводы его коллег) столь этичны только потому, что сейчас в обществе есть мода на это, и если истина на самом деле в другом, то это все в любом случае стоило того, потому что веря в «гуманных» предков-обезьян мы сможем чувствовать себя лучше, не такими индивидуалистическими мразями. Читая эту книгу, на добрую половину, а то и больше, создаётся ощущение, что ты читаешь политическую агитацию, а не исследование про биологию. Не скажу, что это не интересно, и что здесь нет хороших примеров и т.д., но все таки остаётся очень неприятный след.
Из интересных моментов: обезьяны большую часть времени сдерживают свою силу (в драках они могли бы ломать друг другу кости без проблем, ибо они очень сильные, но не делают этого, если хорошо знакомы друг с другом или живут не в дикой среде). Иными словами, осознанный контроль доминирует у них над инстинктами. И это касается далеко не только обезьян. Слоны ещё умнее и хитрее, чем принято о них думать. Они отлично решают сложные головоломки по добыче пищи, где нужна обязательная кооперация. Обезьяны ещё и мастера передачи информации «языком тела», и в книге есть эпичная сцена, где 15 обезьян напали на одного нарушителя порядка, но не сразу, а предварительно сговорившись, и сделав это неожиданно и единомоментно, по сигналу инициатора. И ещё там был интересный эксперимент, где выбор цвета бумажки (как в философском эксперименте с двумя таблетками) определял, получит награду выбравший, или одновременно и он, и его родич. Второй мог только наблюдать за выбором первого. В 2 из 3 случаев обезьяна выбирает «социальную» таблетку, и реже «эгоистичную». Но зачем тогда вообще выбирать эгоизм, если ты ничего не теряешь? По-видимому, это делается для того, чтобы подчеркнуть свое наличие власти. Каждый раз, если после выбора в пользу эгоизма, его собрат-наблюдатель открыто сообщает о своем недовольстве, тогда такая реакция только увеличивает количество выбора в пользу эгоизма. Мол, «лучше веди себя прилично, и относись с уважением, и тогда я, так уж и быть, поделюсь халявой».
Вааль прямо называет себя романтиком. Он анти-рационалист, стоит на позиции приоритета эмоций и страстей. В каком-то смысле его можно было бы даже считать базированным с точки зрения эпикуреизма, но все таки в очень ограниченном, «романтическом» смысле. Он говорит и о сверхличностном уровне этики, про коллективную память и мышление на уровне сообщества.
«Мысль о том, что человечество могло взять моральную эволюцию в собственные руки и добиться того, чтобы среди представителей нашего биологического вида было больше особей, готовых подчиняться общим правилам, вызывает глубочайший интерес».
Цитата выше говорит о том, как тысячи лет наши предки могли заниматься условно говоря селекцией, уничтожая преступников. При этом любая надуманная, неестественная этика, которую создал бы философ в кабинете, в глазах Вааля априори вредна, как и любая искусственная религия. Из философов этики он особенно рекомендует Филиппа Китчера и его книгу «Этический проект», где в общем-то основная идея заключается в скепсисе. В принципе я и до этого писал, что Вааль типичный руссоист, поэтому вера в природу человека и ее достаточность, чтобы стать основой для здоровой этики — не должны выглядеть удивительными. Просто отмечаю дополнительные акцентировки от самого Вааля. «Золотое правило», гласящее «Относись к другим так же, как хотел бы, чтобы относились к тебе» — объявлено ограниченным, поскольку предполагает, что все люди одинаковы, однако если я скормлю вегану свиную сосиску, желая, чтобы со мной сделали тоже самое, то он явно не будет рад. Таких примеров может быть много. На основании этого Вааль вообще отбрасывает «Золотое правило», как почти неприменимую фигню. Забавно, что здесь среди примеров фигурирует Жан Вальжан из романа «Отверженные».
После этого Вааль сразу нападает на утилитаризм. Он не нов, не научен, его взял на щит весь такой плохой атеист Сэм Харрис. «Недостатки утилитаризма давно известны» и т.д. Недостатки на уровне первого правила. Например, если один человек мешает целой сотни, например, своим внешним видом, и вызывает дискомфорт, то убийство этого человека будет страданием для одного и благом для сотни. Итого в сумме 99 очков счастья. В ход идут также примеры на уровне «Матрицы», что если сделать счастливыми людей, лишенных свободы, то это, с точки зрения утилитаризма, оправдывает создание такого лагеря (а в общем-то, какие у него аргументы против, кроме того, что мы априорно считаем, что настоящее лучше виртуального?). Хуже всего, говорит Вааль, что утилитаризм универсален, т.е. максимально обобщен. Для утилитаризма нет ценности в семье, коллективных идентичностях. Приведу цитату:
«Семья на первом месте» — это не утилитарный лозунг. Напротив, утилитаризм требует, чтобы мы подчинили благо своей семьи всеобщему, то есть большему благу. Я лично никак не могу этого принять.
Если бы Жан Вальжан был утилитаристом, то он не должен был воровать хлеб для своих племянников, а должен был отдать этот хлеб первому попавшемуся на глаза бедняку, ведь ценность племянника = ценность рандомного бедняка. В самом радикальном смысле утилитаризма он приводит пример Питера Сингера, идеолога борцов за права животных, который ставит знак равенства не только между людьми, но еще и между животными. А это уже запредельный уровень пофигизма. Но что предлагает руссоист Вааль? Просто отказаться от любых этик, и дать волю своей инстинктивной природе, которая и так нормально отлажена веками эволюции. Все мы от рождения эмпатичны и добры, и стихийно сложим систему правил сожительства, без всяких надуманных схем. Правда какую-то схему он страницами ранее все таки назвал. Вместо компаса эпикурейцев/утилитаристов, которые ищут удовольствий и избегают страданий, Вааль предлагает свой компас: искать помощи другим и избегать нанесения вреда другим. Только вот в сухом остатке это тупейшее морализаторство о том, что индивидуализм должен (потому что я так хочу) уступить коллективизму. Трогательных примеров того, как обезьяны и слоны переживают утрату близких, осмысливают феномен смерти и т.п. вещей в книге много, всего не перечислить. Но одна история мне достаточно приглянулась, чтобы перенести ее сюда:
Мы однажды проверили, как относятся к необратимости смерти шимпанзе в Арнеме — показали им их бывших друзей и соперников. Создателям замечательного фильма «Семейство шимпанзе», как никому прежде удалось продемонстрировать личности и ум этих обезьян. Телефильм с огромным успехом прошёл по всему миру. Я уехал из Нидерландов прежде, чем он был снят, и в первый раз смотрел его со слезами на глазах — с такими любовью и вниманием показаны в нём все мои давние друзья и знакомцы. В фильме альфа-самцом колонии был Никки, но в последующие годы два других самца составили коалицию против него. Должно быть, Никки был настороже и жил постоянном напряжении, поэтому однажды утром, услышав позади себя вопли и уханье, он со всех ног кинулся из дома наружу прямо ко рву, окружающему остров. Годом раньше Никки удалось однажды пересечь этот ров по льду. Возможно, он думал, что сможет повторить этот фокус, однако на этот раз у него ничего не получилось: Никки утонул. Газеты назвали это «самоубийством», но скорее всего он стал жертвой приступа паники с фатальным исходом.
Со смертью Никки на смену дружбе пришло соперничество. Новым альфа-самцом стал Данди, но дух Никки продолжал витать над колонией, подтверждением чему стала реакция её членов на фильм «Семейство шимпанзе». Однажды вечером, через два с лишним года после съёмок фильма, зимовочный зал превратился в кинотеатр. Свет приглушили, и на одной из стен появились первые кадры фильма. Обезьяны смотрели в полном молчании, у некоторых шерсть встала дыбом. Когда на экране молодые самцы с очевидными намерениями окружили самку, в зале раздалось несколько гневных восклицаний; осталось, правда, неясно, узнали ли шимпанзе действующих лиц этой сцены. Но всякая неясность пропала, когда на сцене во всём блеске своей славы появился Никки. Данди ощерился и с воплем кинулся к тому самцу, который в своё время поддержал его против Никки; перепуганный альфа-самец буквально плюхнулся ему на колени. Самцы обнялись с широкими взволнованными улыбками. Воскрешение Никки оживило и давнее их партнёрство.
Я уже ближе к концу книги, но здесь внезапно проявился очередной приступ мракобесия от Вааля (иногда это иначе не назвать, в одном месте из начала книги, он, например, всерьез сказанул, что эмоции связаны с сердцем, а не с мозгом). Речь идет о религии, и косвенно поднялся вопрос о роли воображения и фантазии. Вааль привел ряд наблюдений, где обезьяны вполне способны превращать неживые предметы в живые, играться в куклы и т.д. (кстати, в том числе в дочки-матери игрался и подросток мужского пола). И после разнообразных примеров таких фантазий, в том числе и довольно сложных, он внезапно выдает: «Настаивать вслед за неоатеистами, что смысл имеет лишь эмпирическая реальность, а факты сильнее веры, — значит отказывать человечеству в надеждах и мечтах». К чему тут неоатеисты, зачем это сказано, почему обязательно ученый должен отказываться от мечты, если не верит в духов? Не зря выше он называл себя романтиком. Такой подход действительно вызывает в памяти брюзжание Шлегеля про эпикурейцев.
В самом конце книги Вааль приводит воображаемый диалог между высокодуховной обезьяной бонобо и глупым человечишкой атеистом. Устами бонобо говорит, по сути, сам Вааль, банально издеваясь над атеистом. Мне кажется это идеальное окончание для такой книги, которое вскрывает всю ее суть 🙂 В конфликте религия/атеизм, который проходит через всю книгу, Вааль стоит на стороне религии, хотя и не показывает этого слишком уж явно, стараясь выглядеть в этом конфликте «нейтральным» скептиком. Не вышло. Некоторые его мотивы я могу понять и даже принять. Он явно недоволен генетическим детерминизмом, и пытается сказать, что если в нас и есть многие врожденные паттерны, то это не детерминанта, а скорее направляющая. Это про повышение вероятностей того или иного варианта развития, а не про какие-то жесткие рамки. Но это почти единственное, с чем я согласен в его книге. Также я могу согласиться и с тем, что не стоит создавать искусственную пропасть между человеком и животными, рисуя «волшебные» обоснования для нашего превосходства. Во всем остальном Вааль занимается грубым морализаторством и пропагандой коллективизма. Некоторые его высказывания являются нарочным издевательством и передергиваниями, чтобы вызывать у своих оппонентов чувство совести и стыда, и привести их к своей точке зрения на роль альтруизма и эгоизма.
Почему, при всем этом недоверии к генетическим детерминистам, он сам же настаивает, что мы врожденные коммунисты, и поэтому можем строить анархо-коммуны опираясь только на свою изначальную альтруистичность — остается не ясным. Из его книги я сделал другой вывод. Да, социальность это не особенность человека, да, она связана с эволюцией и имеет следы даже на уровне физиологии мозга. Да, когда мы поступаем эмпатично, то возможно это делается и на инстинкте. Но точно также можно сказать и про эгоизм. В конечном итоге имеет смысл только задаваться вопросом: к чему мы более предрасположены? Какова вероятность, при прочих равных, что человек будет поступать «хорошо»? Возможно, что мы действительно более социальны, чем эгоистичны. Но в книге Вааля вопрос стоит не так. В этой книге он настаивает, что эгоизм — тотальное зло, которого вообще не должно быть в нашей природе. Даже если он сам с этим не согласен, в книге все акценты расставлены именно так. И поэтому она — не более чем дешевая пропаганда от политически-левого биолога. Для современных анархо-коммунистов рекомендую, может пойти на замену, или в дополнение к работам Кропоткина.
Здесь возникает еще один интересный вопрос. Почему такой автор стал главным положительным примером для современного ученого в книге Дика Свааба? Может они не так уж далеко друг от друга по взглядам? Свааб, очевидно, тоже левый, и очень переживает о том, как науку могут использовать режимы на манер сталинского и гитлеровского. Но согласен-ли Свааб с линией аргументации Вааля? По-видимому да, ведь он привел Вааля в пример именно по вопросу эмпатии. Но Свааб наверняка интерпретирует всё это с точки зрения детерминизма. Мол да, мы обречены быть добрыми (и левыми) от природы. Вааль ведь и сам говорит именно это. Но его общий подход к литературе, написанной в духе Свааба, оказывается скорее критичным. Есть-ли у них скрытое противоречие, или нет — без понятия. Позабавило то, что они оба довольно много цитируют Спинозу. Видимо, национальная особенность нидерландцев 🙂
