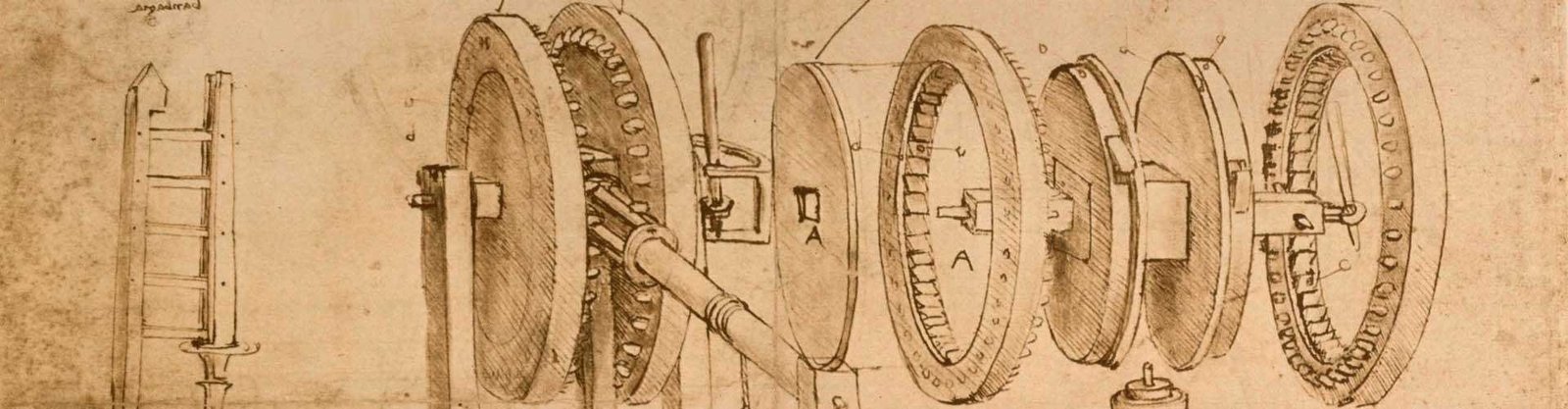
Автор текста: Ill-Advised
Оригинал на английском языке (1, 2).
Полидор Вергилий. «Об изобретателях вещей». Под редакцией и переводом Брайана П. Копенгейвера.
Библиотека I Tatti Renaissance, том 6. Издательство Гарвардского университета, 2002.
0674007891. xxx + 721 стр.
Остальные авторские статьи-обзоры можно прочитать здесь
Это явный признак того, что старческое слабоумие подкрадывается ко мне всё быстрее. Обычно я читаю тома серии I Tatti Renaissance Library в порядке их выхода, за некоторыми исключениями (например, я пропускаю «Платоновское богословие» Фичино, потому что чтение её потребовало бы столько же усилий, сколько чтение учебника по математике; к тому же его рассуждения — если судить по первой книге, которая единственная мною прочитана [на момент написания этой статьи], — насквозь полны логических дыр, необоснованных религиозных аксиом и тотального благодушного самообмана, так что я просто не могу заставить себя тратить столько сил на такую книгу). Как бы то ни было, после того как я прочитал «Малые эпосы» Веджио, я стал размышлять, что идёт дальше, и тут вспомнил ту прекрасную толстую книгу Полидора — Об открытиях (On Discovery, в русских переводах принято «Об изобретателях вещей») — и стал гадать, когда же наконец дойду до неё. После некоторых поисков я обнаружил, что книга находится в стопке уже прочитанных томов ITRL, а не в стопке «ещё не читанных»; что меня весьма удивило, потому что я был уверен, что её ещё не читал. Но её порядковый номер в серии — шестой, тогда как у Веджио — пятнадцатый; почему же я не прочёл «Об изобретателях» раньше? Впрочем, я решил, что ничего другого не остаётся, кроме как начать читать «Об изобретателях» сейчас, прежде чем переходить к более поздним томам из стопки непрочитанного.
Я продвинулся почти до середины книги, прежде чем один фрагмент внезапно показался подозрительно знакомым. Тут меня осенило, что ведь я веду Excel-файл со списком всех своих книг, где отмечаю также те, которые уже прочитал. И действительно, заглянув туда, я увидел, что Полидор уже помечен как прочитанный. Значит, я действительно читал его — но потом настолько об этом забыл, что смог дочитать почти половину книги во второй раз, прежде чем осознал, что читаю её не впервые, а повторно. Совершенно позорная старческая забывчивость.
Об этой книге
В этой книге Полидор (гуманист XV–XVI веков) описывает происхождение множества открытий и обычаев — почти из всех сфер жизни, таких как техника, общество, культура и т. д. Лишь религиозная тематика освещена здесь не столь подробно, потому что данный том содержит только книги I–III сочинения «Об изобретателях вещей» (De inventoribus rerum), тогда как происхождение различных христианских практик и подобных вещей рассматривается в остальной части труда (в книгах IV–VIII, не включённых в этот том).
Книга разделена на ряд довольно коротких глав, каждая из которых посвящена одному конкретному предмету: богам, языкам, брачным обычаям, религиям, письмам, грамматике, поэзии, метрике, трагедии, комедии, сатире, истории, риторике, музыке, философии, астрологии, астрономии, геометрии, медицине, магии, гаданию, законам, управлению государством, календарю, книгам, искусству письма, памяти, военному делу, оружию, верховой езде, спорту и играм, перемириям и договорам, триумфам, венкам, благовониям, металлам, огню, монетам, кольцам и украшениям, стеклу, статуям, ладану, живописи, керамике, земледелию, охоте, тканям и одежде, архитектуре и строительству, городам, лабиринтам, пирамидам, обелискам, театру, плотницкому делу, мореплаванию, торговле, проституции и т. д.
Должен сказать, что я также восхищаюсь редактором/переводчиком за ту тщательную работу, которую он проделал; хотя меня не интересует текстологическая критика, я не могу не впечатлиться критическим аппаратом этой книги: видно, что он сверил текст по девяти ранним изданиям! В книге также огромное количество интересных примечаний (около ста страниц) к самому тексту, а также точные ссылки на все места из античных авторов, на которые Полидор часто ссылается лишь вскользь. Есть и довольно обширное введение — почти на тридцать страниц. У меня, впрочем, есть маленькая претензия к примечаниям: в верхних колонтитулах страниц не указано, к какой книге относятся примечания на данной странице; поэтому, когда вы видите, например, что это примечания к 13-й главе, вы не знаете — 13-й главы первой, второй или третьей книги, — и приходится листать туда-сюда, чтобы найти нужное место.
Методология Полидора
Подход Полидора обычно сводится, в большей или меньшей степени, к пересказу того, что разные древние авторы говорили о данном предмете. Среди языческих авторов его любимым авторитетом является Плиний, но он часто обращается и к другим энциклопедическим писателям, таким как Диоген Лаэртский и Диодор Сицилийский; что же касается иудейской и христианской истории, то он главным образом ссылается на Иосифа Флавия и Евсевия. Иногда эти различные авторитеты противоречат друг другу, и тогда Полидор обычно разрешает конфликт, утверждая, что если разные источники приписывают открытие разным людям, это, вероятно, означает, что каждый из этих людей действительно первым сделал это открытие среди своего народа, тогда как в других местах кто-то мог открыть то же самое независимо, и, возможно, даже раньше. Он очень охотно называет каждого изобретателя по имени, даже в тех случаях, когда для нас теперь очевидно, что пытаться приписать их конкретному изобретателю просто нелепо — например, в случае земледелия. Иногда, разумеется, источники подводят его, и тогда ему приходится с сожалением признавать, что имя открывателя утрачено в туманах времени 🙂
Он также чрезвычайно озабочен вопросом первенства — ему важно знать, кто был первым, что сделал то или иное открытие, даже если в других местах то же самое было открыто независимо. Этот дух соревнования «у кого длиннее» особенно прискорбен, если учесть, что он отнюдь не беспристрастный наблюдатель — совершенно очевидно, что он болеет за иудео-христианскую сторону, а не за греко-римскую 🙂 Его задача значительно упрощается благодаря хронологии, установленной Евсевием. Евсевий пытался расположить различные события светской и библейской истории на общей временной шкале (стр. 493–502), в ходе чего, например, помещал Авраама в 2016 г. до н. э., Моисея — в 1592 г. до н. э., Троянскую войну — в 1191–1182 гг. до н. э. и т. д. Полидор следует хронологии Евсевия, и для многих открытий ему достаточно просто найти самое раннее упоминание этого предмета в Библии, определить, как оно вписывается в хронологию Евсевия, и заключить (не слишком скрывая своего злорадного восторга), что это произошло на столько-то веков раньше, чем, скажем, Троянская война, царствование Сатурна и т. п., а значит — задолго до любого упоминания об этом открытии у языческих античных авторов (см. также с. xix).
(Кстати, Полидор и Евсевий считают, что если древний автор приписывает изобретение какому-нибудь языческому богу или полубогу, то это на самом деле означает, что изобретение совершил обычный человеческий царь или правитель, которого позднее стали почитать как божество (это называется эвгемеризм, с. xix). Некоторым из этих предполагаемых правителей даже были отведены места в хронологии Евсевия — например, Зевс — в XX веке до н. э., Аполлон — в XIV и т. д. Конечно, история действительно знает множество случаев, когда правители добивались обожествления — при жизни и/или после смерти (фараоны, римские императоры и т. п.); но утверждать, будто почти все языческие боги произошли из обожествлённых человеческих правителей (и что даже можно определить век их правления), — по-моему, является неприемлемым и глупым обобщением.)
Почти все открытия, которые он упоминает, не заходят дальше поздней античности; немногие исключения — книгопечатание (2.7.8–9) и огнестрельное оружие (2.11.5–7, 3.18.3–4). Время от времени он нехотя признаёт, что и в его дни продолжают совершаться интересные открытия (3.18), но тут же, как правило, возвращается к древним темам. Иногда он даже проявляет некоторое неодобрение самих открытий в целом, намекая, что они приносят больше вреда, чем пользы. Так, он нередко сетует на изобретения, связанные с кораблестроением и мореплаванием, поскольку они заставляют людей рисковать жизнью в дальних плаваниях, а иногда и гибнуть, ради морской торговли (3.6.1, 3.15); при этом он, похоже, ни разу не задумывается о том, сколько благ тоже приносит заморская торговля. Впрочем, я и сам не тот человек, который безоговорочно радуется любому новому открытию, но его консерватизм явно чрезмерен и неразумен. Вот один из редких случаев, когда он признаёт, что прогресс не прекращается, — и даже здесь он вынужден подкрепить это цитатой из древнего автора: «никакое искусство не остаётся неподвижным, как говорит Квинтилиан, сохраняясь в том виде, в каком оно было в момент своего изобретения» (3.2.9).
Деньги, деньги, деньги
Есть интересное рассуждение (2.3.12–13) о росте римского богатства: «Когда царствовал Сервий Туллий, по свидетельству Плиния в книге 33, высший имущественный ценз составлял 110 000 ассов, что соответствует 1100 золотым монетам. И это, как говорит Плиний, относилось к первому классу — столь скудными были тогда ресурсы римлян; впоследствии они стали огромными, когда сенаторский ценз составил 1200 сестерциев, согласно Светонию. […] следует признать, что каждый сестерций (sestertium) стоил двадцать пять золотых монет […]. Из этого расчёта мы заключаем, что сенаторский ценз был на уровне 30 000 золотых монет, а всаднический — 12 500». Золотые монеты, о которых говорит Полидор, — это «наши дукаты или золотые короны» (об этом сказано ранее в том же параграфе); согласно Википедии, один дукат содержит 3,4909 грамма золота, что делает сенаторский ценз эквивалентным 104,7 килограмма золота, что на момент написания текста соответствует 2,2 миллиона долларов или 1,7 миллиона евро.
В 3.5.11 он упоминает, что знаменитое пиршество Клеопатры, включавшее выпивание жемчужины, стоило «десять миллионов сестерциев (sesterces) (100 × 100 000 сестерциев, что составляет 250 наших золотых монет)». Я не совсем понимаю, как всё это согласуется между собой; все словари говорят, что один sestertium равен 1000 sesterces; следовательно, если, как сказано в предыдущей цитате, один sestertium равен 25 золотым монетам, то 1000 sesterces также равны 25 золотым монетам, а десять миллионов sesterces равны 250 000 золотых монет — достаточно, чтобы сделать сенаторами восемь человек и ещё почти хватит на одного всадника 🙂 Это кажется несколько чрезмерным даже для пира Клеопатры. Но всего лишь 250 золотых монет за весь пир выглядят, напротив, нереально скромно; если умножить это на 3,4909, получим 872 грамма золота, что сегодня примерно 19 000 долларов — насколько я знаю, сейчас в США на эти деньги едва ли можно устроить свадьбу среднего класса, не говоря уже о царском пире.
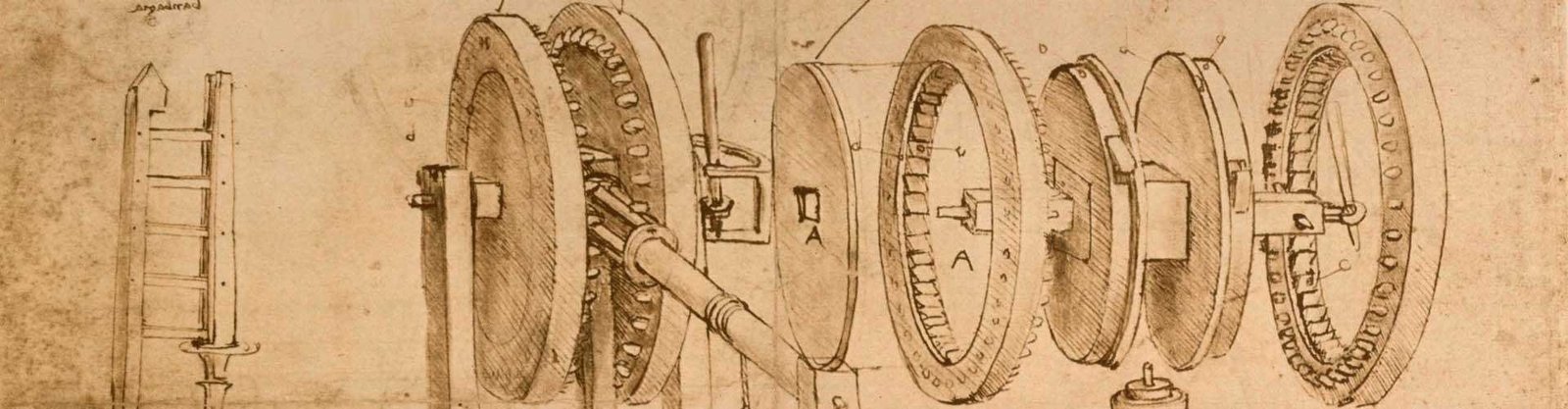
Различные детали
Как и следовало ожидать от книги, обильно цитирующей Геродота, Плиния и подобных авторов, она полна причудливых антропологических курьёзов. См., например, 1.4.6 о брачных обычаях: «Вавилоняне и ассирийцы покупали своих жён на публичных торгах […] Другие вступали в связь с кровными родственниками, особенно с матерями и сёстрами, и даже женились на них […] У насамонов и авгилов […] существовал обычай: когда кто-либо из них брал жену, невеста должна была провести первую ночь со всеми гостями свадьбы — в честь Венеры, а после этого сохраняла целомудрие навеки». В 1.4.7 упоминается ius primae noctis — право первой ночи; сказано, что его некогда практиковали шотландцы, но «поскольку этот обычай был, без сомнения, самым позорным из всего, что запомнило христианство, король Малькольм III, их величайший правитель, упразднил его около 1090 года». Оказывается, слово «оргия» имеет куда более благопристойное происхождение, чем можно было подумать: у греков orgia означали «экстатические мистерии или посвящения […] или богослужение и жертвоприношение, или даже нерелигиозные таинства» (примечание переводчика к 1.5.6).
В 1.6.8 Полидор упоминает израильского царя по имени Зоробавель — теперь я понимаю, откуда Кроули взял свой комичный титул «Великий Зоробавель» (см. мой мой пост о Ragged Edge of Science де Кампа). О развитии алфавита (1.6.12): «Букву Q добавили, потому что показалось, будто она создаёт звук более „жирный“, чем C». Да что же эти тупые фонемы о себе возомнили? Пора бы их отдать на растерзание грязным, корыстным, тревожащим самооценку когтям диетической индустрии :-)) А вот что бывает, когда педанты начинают лирически восхвалять свои мастурбационные занятия: «Для молодых это необходимость, для старых — наслаждение; это сладкий хранитель тайн, и одно из всех искусств, где дела больше, чем показухи. Так говорит Квинтилиан» (1.7.4; «это» — изучение грамматики). Математический символ набла (∇, вектор градиента) происходит от названия лирообразного инструмента треугольной формы, упомянутого здесь в 1.15.7. Астрологические нелепости некоего Юлия Фирмика (1.17.1): «У кого гороскоп в четвёртой части Меркурия, тот будет счётным писцом; гороскоп в созвездии Коня делает возничим». К счастью, Полидор над ним посмеивается.
Печально: глава 1.18, посвящённая геометрии, ни словом не упоминает Евклида. О первом (греческом) враче в Риме (Архагат, 535 год от основания города): «Сначала он был специалистом по ранам, а позднее стал прозываем „палачом“ из-за своей жестокости в резании и прижигании» (1.20.7). В итоге он и другие греческие врачи были изгнаны из Италии. Врачи, оказывается, позаимствовали идею кровопускания — внимание! — у бегемотов (1.21.7): «Когда его постоянное обжорство приводит к простуде, он выходит на берег и ищет свежие порезы на тростнике, и, найдя самый острый стебель, прижимается к нему телом и ранит себе вену на ноге. Так, пуская кровь, он облегчает своё нездоровое тело». В том же абзаце сообщается, что клизму они придумали, наблюдая за ибисами.
А вот почему день когда-то состоял из двенадцати часов (2.5.1): «Гермес Трисмегист в Египте однажды заметил, что некое священное животное, посвящённое Серапису, мочится двенадцать раз в день — всегда через равные промежутки времени; отсюда он заключил, что день следует делить на двенадцать часов». Мне бы достать того, что курили эти люди 🙂 Из 2.9.2: «Многие люди отличались великолепной памятью. Так, царь Кир Персидский знал поимённо всех воинов своей армии». Это напоминает мне одну русскую шутку, и наводит на мысль, что, может, персидская армия была не такой уж громадной. Очарования Луперкалий, когда вполне здравомыслящие люди бегали голыми (2.14.2): «Не будет лишним упомянуть, что Марк Антоний, обнаженный и намасленный для этих празднеств, возложил диадему на голову Цезаря, как сообщает Аппиан во второй книге Гражданских войн». Целая глава (2.17) посвящена венкам — оказывается, греки и римляне носили массу самых разных венков, иногда в награду за определённое деяние, иногда просто как праздничное украшение. «Так изобилие венков продолжалось до тех пор, пока греки не стали употреблять их на пирах и симпосиях […] подавая их в чашах для питья в забаву» (2.17.7). В следующем абзаце рассказывается занятный эпизод о Клеопатре и Маркe Антонии [в оригинале Anthony: с добавленной h], который «опасался доброжелательности царицы и не ел ничего, пока не попробует кто-то другой». Однажды Клеопатра пригласила его «выпить венки» с нею, но вовремя остановила, объяснив, что отравила его венок, чтобы показать, как легко могла бы его отравить, «если бы только могла жить без тебя».
Из 2.19.1: «На вопрос, почему золото бледное, Диоген дал остроумный ответ, согласно Лаэртскому: «Потому что так много людей подстерегают его» 🙂 Кстати, это напоминает отзыв на Amazon о книге Лоуренса Джеймса Rise and Fall of the British Empire: «Теперь я понимаю, почему Британская империя была розовой на карте: она краснела от стыда». Забавные клеветы на пиво: «оно усиливает мочеиспускание, раздражает почки и нервы, закупоривает оболочки (особенно те, что покрывают мозг), вызывает метеоризм, производит гнилую жидкость и порождает слоновую болезнь. Кто купается в таком напитке, выходит бодрым и готовым к делу. Так говорит Диоскорид. Однако пиво оказывает меньшее действие на тех, кто пьёт его с детства» (3.3.11). Но, пожалуй, это также пример чрезмерной доверчивости Полидора к античным авторитетам. Он ведь жил в Англии много лет — наверняка имел случай наблюдать массу завсегдатаев пивных и прекрасно знал, что ни у одного из них нет слоновьей болезни. И всё же повторяет эти нелепости. О боже: «По-гречески нечто очищающее называется smegma» (3.6.3).
Глава 3.10 кишит восхитительно безумными погребальными обычаями. «Когда родители, родственники или соседи достигали старости, им перерезали горло и съедали их, полагая, что лучше самим поужинать ими, чем отдать их червям. Тибарены вешали на виселицу тех стариков, которых особенно любили» (3.10.11). «Гирканцы бросали полумертвых людей на съедение птицам и собакам. […] Ассирийцы консервировали тела в мёде и покрывали воском. Набатеяне считали трупы навозом и хоронили своих царей в навозных ямах» (3.10.14). [Последние, заметим, имели выдающегося подражателя в XX веке — Мао Цзэдуна: «Я подам пример. Все мы должны быть сожжены после смерти, обращены в прах и употреблены как удобрение»]. «Бактрийцы отдавали стариков на съедение собакам, специально выращенным для этой цели» (3.10.15). «Когда собирались большие толпы родственников, они разрывали трупы зубами, ели их вместе с мясом животных, а затем обвивали их черепа золотом и пользовались ими как чашами — по Плинию, книга 4, это считалось последним актом сыновней почтительности. […] Гипербореи полагали лучшим способом погребения вот что: когда человек уставал от жизни, он должен был поесть, помазать себя маслами, а потом отправиться на определённую скалу и броситься в морскую бездну» (3.10.16). В 3.10.19 он описывает обычаи, связанные с римским обожествлением недавно умершего императора.
Из Геродота, 3.11.13: слепой царь «услышал из города Букуса (Bucus) прорицание, что зрение ему вернётся, если он омоет глаза мочой женщины, довольной одним своим мужем и не знающей других мужчин». После неудачных попыток с женой и несколькими другими женщинами он наконец нашёл одну, чья моча действительно исцелила его: «Он сжёг всех женщин, чью мочу испытывал, кроме той, что вернула ему зрение — и на ней женился». Кхм. Разве оракул не говорил только о замужних женщинах? Если так, то что он сделал с её мужем? Впрочем, Фрейд был бы в восторге от такого счастливого конца: «Избавившись от болезни, он воздвиг пару каменных столбов, похожих на вертела, у Храма Солнца, каждый — сто локтей высотой и восемь — в основании». Глава 3.17 содержит несколько любопытных, хотя и немного жутких анекдотов, связанных с проституцией: киприоты «отправляли своих незамужних девушек зарабатывать на приданое, торгуя собой на берегу моря и принося Венере дары в обмен на остатки своей целомудренности» (3.17.2). «Когда богатства страны иссякли, у вавилонян также существовал обычай, что всякий бедняк, не имеющий средств к жизни, заставлял своих дочерей зарабатывать телом. Кроме того, однажды в жизни каждая женщина становилась общей собственностью народа. Они сидели у храма Венеры с венками на головах […] и не могли вернуться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросит им денег в колени и не вступит с ними в сношение. […] Красивые женщины освобождались быстро, но не так уродливые, которым часто приходилось ждать год или два. Таков был закон, цель которого, согласно Геродоту в первой книге, было сохранение чести богини Венеры». (3.17.3.)
Некоторые вещи, как оказалось, были открыты позднее, чем я думал: стремена не были известны в древнем Риме (3.18.5; см. также примечание переводчика, с. 683: в Центральной Азии они появились раньше, но в Европу пришли лишь в раннем средневековье). Сёдел не знали «до ранней империи», железные подковы «не были распространены до конца империи» (прим. к 2.12.2, с. 634). Не знаю, как понимать странную фразу из примечаний переводчика (с. 586): «Около трети текста еврейской Библии — это поэзия, но её структура пока не объяснена». Отличное имя для города философов: «Эраст и Кориск были философами-платониками, жившими в Скепсисе» (прим. к 2.6.4, с. 627). Интересное примечание о триумфах и овациях (с. 640): «Условием для получения триумфа было убить пять тысяч врагов в одной битве» и т. д.
Прим. к 2.19.8 (стр. 645): «Считается, что Анахарсис, скифский князь, посетил Афины в конце VI в. до н. э. Как идеальный образец мудрого и благородного дикаря, ему приписывали различные изобретения, но и его критика технологий — особенно мореплавания — стала легендарной». Удивительно: скифский князь — и вдруг благородный дикарь?! Разве они не славились тем, что скальпировали врагов, приносили в жертву рабов и наложниц при погребении царей — и прочими ужасами, какие Геродот мог собрать о них? Впрочем, может, я и не должен удивляться: ведь и европейцы, столкнувшись с индейцами Америки, видели в них то кровожадных чудовищ, то благородных дикарей. О торговле у Гомера — см. примечания к 2.20.2 (с. 645) и к 3.16.1 (с. 680).
Заключение
Итак, если вы решите прочитать эту книгу, то имейте в виду, с чем вы столкнётесь, чтобы потом не разочароваться. Вы получите множество любопытных (а порой и причудливых, даже совершенно странных) сведений — мелких фактов о том, как происхождение или изобретение того или иного явления объяснялось и приписывалось различными древними авторами. Однако вы не получите следующего: представления о том, что миру может быть больше пяти тысяч лет; что до времён Авраама могло существовать что-то, кроме библейской истории (Адам и Ева, Каин и Авель, Ной и потоп и т. д.), и что, следовательно, многие вещи могли быть известны другим народам задолго до того, как евреи впервые о них упомянули; вам не скажут, что многие «открытия» на деле вовсе не являются событиями, которые можно приписать какому-то одному человеку в определённый момент времени, а представляют собой результат длительного постепенного процесса; что происхождение множества техник и общественных практик невозможно установить удовлетворительным образом просто путём тщательного сопоставления свидетельств античных авторов — и так далее.
Разумеется, было бы неразумно ожидать всего этого от автора XV–XVI века, такого как Полидор. В его эпоху знание древней истории за пределами того, о чём сообщали классические писатели и Библия, было поверхностным или вовсе отсутствовало; археология ещё не существовала, как и сама идея о том, что исторические явления развиваются через длительные процессы, а не совершаются единичными деяниями великих личностей. Так что если вы действительно хотите узнать об истоках того или иного предмета, читайте современные книги; но как «кабинет курьёзов» трактат Об изобретателях вполне удался. Короткие главы делают книгу увлекательной для изучения: можно почти наугад открыть любую страницу, и вы непременно найдёте там что-нибудь занимательное.
- Я определённо думаю, что мне всё же стоит когда-нибудь прочесть Геродота и Плиния — Полидор часто упоминает любопытные анекдоты из их сочинений, так почему бы не обратиться прямо к первоисточнику?
- Как я уже упоминал выше, это издание ITRL содержит лишь первые три (из восьми) книги Об изобретателях. Существует и полный перевод всего сочинения — Бено Вайсса и Луиса С. Переса, изданный под названием Beginnings and Discoveries (Nieuwkoop: De Graaf, 1997). Но я не уверен, хочу ли я его читать: насколько я понимаю, книги 4–8 в основном посвящены (христианской) религии. Кроме того, на ABE сейчас имеется только один экземпляр, и стоит он 176 евро. (Неудивительно для этих малоизвестных нидерландских издателей — думаю, мне стоит радоваться, что это не Brill, иначе цена, вероятно, была бы 276 евро :))) Впрочем, хорошо, что он так дорог: по крайней мере, у меня не возникнет соблазна его купить.
