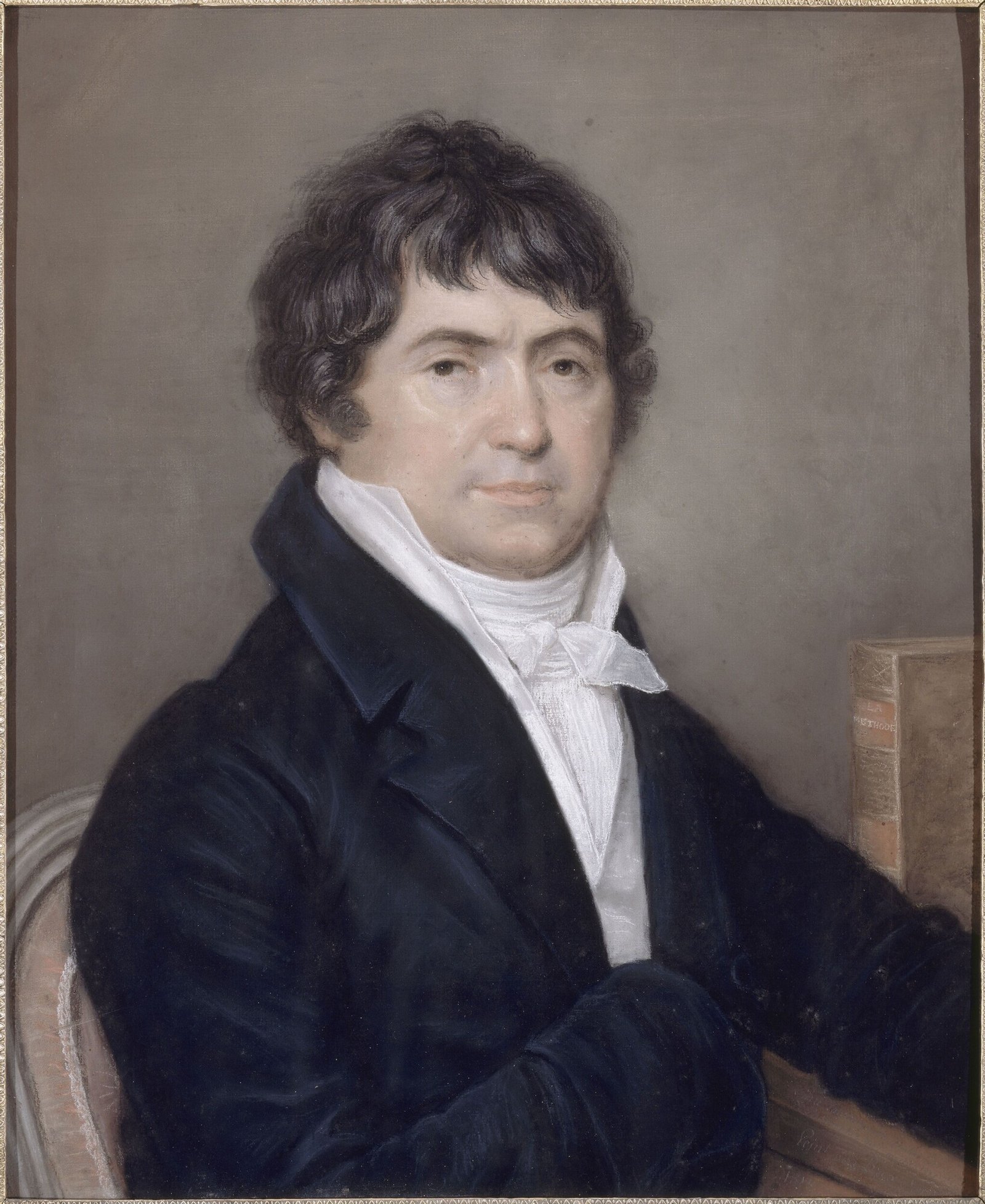
Восьмая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).
Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.
Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.
Люди Революции разрушили старый режим, чтобы заменить его административной и судебной, политической и финансовой, религиозной и университетской организацией, не имеющей ничего общего с прошлым. Но вскоре стало ясно, что нельзя безнаказанно в одночасье изменить учреждения, и что «падение этих великих тел не может происходить иначе, кроме как крайне болезненным путем». Наступила реакция: были восстановлены исполнительная власть, религия, Университет, даже Бурбоны. Некоторые хотели полностью вернуть прежний порядок вещей. И только совсем немногие утверждали, что общественное здание должно быть полностью перестроено по новому плану. И действительно, кто мог ещё, после двадцати лет опыта — одного более разочаровывающего, чем другой — верить в абсолютную ценность конституций, даже самых удовлетворительных с точки зрения разума?
То же самое произошло и в философии. Хотели «воссоздать разум», устранили основные вопросы старой философии, начали — по образцу физических и естественных наук — исследование обширной области, которую надеялись быстро освоить. Надо сказать, начало было удачным, и попытки обещали быть плодотворными для нравственных наук. Но немало поколений израсходует себя, собирая истины в деталях, прежде чем человечество получит ясное представление о целом. А пока нужно жить, и чтобы жить, нужно «по меньшей мере иметь нравственность на время». Старая философия, союзница религии, давала такую мораль: её недостатки были известны, но она была знакома и, худо-бедно, направляла множество поколений. К ней вернулись, как и к другим учреждениям старого порядка. Некоторые возвратились к схоластике и подчинили философию теологии; другие пытались соединить её с новой философией. Кабанис, Тюро, Био, Ампер, Биран, Бенжамен Констан признавали, что с прошлым нельзя порвать абсолютно. Лишь один, или почти один, Дестют де Траси молча протестовал против всякой, даже частичной, философской реставрации, до тех пор, пока Бруссе не вернул старой идеологии сторонников, но при этом исказил её характер, превратив орудие прогресса в оружие борьбы.
Идеологи третьего поколения любили и прошлое, и будущее, не желая приносить одно в жертву другому. Если некоторые из них, как Дежерандо и Ларомигьер, с ранних пор заняли видное место в школе благодаря своим оригинальным исследованиям, то они всё же не последовали за теми, кто считал, что старая философия должна быть полностью отброшена. Когда повсюду обратились к прошлому, они остались верны уже достигнутому и легко показали, что их положения никоим образом не противоречат религиозным убеждениям. Умеренные из обеих партий сочли превосходными те доктрины, в которых для них искусно сочетались прошлое и будущее. Порой даже ультраконсерваторы признавали, что эти идеи не подрывают устоев, и проявляли к ним уважение. Что же до их противников, те радовались успеху некоторых из идей, которые они сами прежде защищали или восхищались ими. Порталис и Сикар, Дежерандо и Прево, а особенно Ларомигьер и его ученики принесли школе новую популярность. Стараясь ни в письме, ни в преподавании не давать повода для критики их религиозных или политических взглядов, они позволили наукам развиваться, не следуя за ними, и тем самым дали возможность молодым школам возобновить и продолжить те исследования, которые и составили успех идеологов. История этого третьего поколения интересна влиянием, которое его представители оказывали на самых разных людей; интересна она и с точки зрения доктрин. Всё более ограничиваясь, эти доктрины представляют собой paupertina philosophia — бедную философию, которая никому не мешает, потому что не затрагивает вопросов, волнующих каждого, но именно потому перестаёт удовлетворять даже тех, кто считает её безупречной.
— I —
Порталис и философский дух; Сикар, его труды по грамматике, о глухонемых, его отношения с идеологами
Порталис (Portalis) был предметом многочисленных исследований, когда занялись «людьми, которые способствовали восстановлению общества после его судорог и бурь». Во время Директории он выступал против «новых высылок эмигрантов», против мер, задуманных в отношении неприсоединившихся священников, утверждая, что «если компас открыл вселенную, то христианство сделало её общительной», и с успехом защищал эмигрантов, потерпевших кораблекрушение в Кале. Осуждённый на депортацию после 18 фрюктидора, он бежал в Швейцарию, затем в Гольштейн, где поселился у графа Ревентлау и сблизился с Штольбергами и Якоби. Именно там, уже почти ослепнув, он продиктовал своему сыну Трактат об употреблении и злоупотреблении философским духом в XVIII веке. Вернувшись во Францию после 18 брюмера, он стал государственным советником, принял активное участие в составлении Гражданского кодекса, в работе над Конкордатом и показал, что органические статьи «примирят, так сказать, Революцию с небом». Он умер в 1807 году. Его труд, изданный лишь в 1828 году, принадлежит, как отметил Сент-Бёв, к «духу возвращения и религиозного пробуждения». Но он остаётся философом, и «его страдания не изменили его принципов». Он вносит коррективы, но сохраняет план Кондорсе: составляет разумную историю человеческого разума начиная с Возрождения, предлагает картину всех добрых идей, всех правильных методов, всех видов прогресса, отличающих и украшающих столетие. Философский дух для него — это «дух свободы, исследования и просвещения: он хочет всё видеть и ничего не предполагать; он проявляется методично и действует с рассудительностью, оценивает каждую вещь согласно её собственным принципам, независимо от мнения и обычая, и не останавливается на следствиях, а восходит к причинам. В каждой области он углубляет взаимосвязи, чтобы открыть результаты, он сочетает, а не разъединяет части, чтобы сформировать целое; наконец, он определяет цель, объём и границы различных человеческих знаний и стремится довести их до высшей степени полезности, достоинства и совершенства». Отличный от философии, ограниченной определённым кругом объектов, он выступает как «результат сравнительных наук», применимый ко всему. Порталис восхваляет Локка, особенно Кондильяка, даже Мабли, Декарта, и — вслед за Дестютом де Траси — преобразует «я мыслю, следовательно, я существую» в «я ощущаю, следовательно, я существую». Не зная, что такое дух, не больше, чем мы знаем, что такое материя, он отбрасывает все системы, касающиеся союза души и тела, о котором мы не можем иметь ни непосредственного восприятия, ни опыта. Кант для него столь же опасен, как и Ламетри: зачем он возрождает изношенные системы, при этом с такой напыщенностью заявляя, будто откроет людям истины, до сих пор сокрытые от их разума, тогда как на деле он лишь порождает плохих рассуждателей, софистов и подрывает все основания человеческой уверенности?
В 1828 году сын Порталиса занимал пост министра, тогда как Кузен и Дамирон пытались покончить «с сенсуализмом», в то время как Даннон, Бруссе, Андриё, Валет защищали идеологов. Для некоторых из последних автор О злоупотреблении философским духом стал союзником. Валет рекомендует читать его труд наряду с Трактатом о системах тем, кого он хочет отвратить от «бесплодных абстракций Кузена». Буйе объединяет его с Дестютом де Траси и вместе с «двумя людьми выдающихся достоинств» провозглашает бесплодность силлогизма. И, по всей видимости, совет Валета был услышан, поскольку в 1834 году появилось третье издание сочинения.
Вместе с Порталисом был депортирован 18 фрюктидора и Сикар, доктринёр, подобно Лаканалю и Ларомигьеру. Но его философская карьера оказалась гораздо более извилистой и куда труднее поддаётся определению. После 9 термидора среди бумаг Кутона нашли книгу, на первой странице которой он написал компрометирующую посвятительную надпись; Лаканаль разорвал её и тем самым спас Сикара, которому впоследствии поручили преподавать в Нормальных школах искусство речи. Его курс был выдающимся и свидетельствовал о симпатии к идеологам. Предположив, будто «все грамматики сгорели в великом пожаре», преподаватель применяет анализ — по примеру Кондильяка и Дюмарсе — чтобы навсегда разрушить здание прежних методов и создать философскую грамматику. Только философия, по его мнению, знает подлинные источники истины и пути, к ней ведущие; она облагораживает, возвышает всё, к чему прикасается: она, если нужно, умеет вычислять движения небесных тел, исследовать причины наших ощущений и мыслей, вести нас по путям честного и истинного; «она не считает себя униженной анализом речевого инструмента, сопоставлением звуков голоса и знаков письменности». Сикар, излагая метод своего обучения глухонемых, напоминает, что «Конвент не желает исключать ни одного человека из числа тех, кому доступно благодеяние просвещения». Но, признавая, что все идеи даются нам через чувства и, следовательно, по поводу внешних объектов — а значит, что не существует врождённых идей — он, подобно Кондильяку, говорит о Боге, об имматериальной и бессмертной душе.
Будучи членом Института с момента его основания, Сикар писал Лаканалю (которого только что обошли в пользу Ла Ревейера-Лепо) письмо, в котором выражал благодарность за оказанную помощь в термидоре. По его просьбе он назначил Ларомигьера помощником преподавателя глухонемых. В Институте он читал мемуар О методе обучения глухонемого, своего рода развернутый и осмысленный экстракт из Гермеса, переведённого Тюро: «Переводчик, — говорил он, — достойно сражался с английским грамматиком, нередко опровергал его и всегда разъяснял». Затем он издаёт Руководство для детства, в котором стремился применить к обучению чтению истины, открытые Локком и Кондильяком. 18 фрюктидора его депортируют как роялиста. Именно тогда он и создаёт свои Элементы общей грамматики. В этом труде по-прежнему встречается восхваление Дюмарсе и Кондильяка, Харриса и Энциклопедии методической, «внесших столько глубины и распространивших столько света» в область грамматики. Однако он уже уделяет значительно больше места религиозным идеям. Впрочем, он не порвал с идеологами. Декада сообщает о его возвращении в VIII году, «после долгой ссылки», а в IX году — о его избрании, или точнее, переизбрании в Институт против Фонтана и Тьебо. Там же говорится, что в X году Сикар зачитал в Филотехническом обществе мемуар О механизмах речи, рассматриваемых независимо от слуха. В нём он, как сообщается, подкрепил свою систему экспериментами с глухонемыми от рождения, присутствовавшими на заседании, которые, не слыша самих себя, произносили различные гласные алфавита и все согласные, относящиеся к артикуляционным позициям голосового инструмента. В том же году он переводит и комментирует книгу Хартли О человеке, его физических и умственных способностях, его обязанностях и надеждах. Предисловие никак не выдает в нём противника идеологов. По его словам, Хартли менее абстрактен и доступнее для широкого круга читателей, чем Локк, от которого он не слишком отличается; он яснее объяснил, как в человеке формируются идеи справедливого и несправедливого; он обогатил доктрину ассоциации учёными рассуждениями и удачно подобранными, яркими примерами, в значительной степени содействуя тем самым прогрессу искусства воспитания. В своих примечаниях Сикар не стал исправлять неточности, касающиеся физической организации человека, и ограничился утверждением, что человек отличается от животных — и в особенности от обезьян — тем, что они не способны к совершенствованию. Также он выделяет утверждение, что мозг есть особое вместилище идей, и указывает на злоупотребление автора словами, не разделяя при этом крайностей материалистов. Между впечатлением и ощущением, утверждает он, как ученик Мальбранша, должен находиться — чтобы одно вызывало другое — всемогущий Творец всего сущего. Отсюда он порицает язык некоторых современных идеологов, которые видят в человеке лишь животное с более тонкой и совершенной организацией, и рассматривают его душу как следствие, а не причину, как способность, а не как принцип. И тот самый человек, которого чуть было не осудили как сторонника террора, говорит об известных жертвах, которые в последние времена шли на смерть, подобно путнику, спешащему достичь, без волнения и даже с радостью, благополучного конца своего пути! Не кажется ли, что перевод Хартли, который, несомненно, не мог не понравиться друзьям Кабаниса, был завершён уже после заключения Конкордата, после появления Гения христианства и после разрыва между Бонапартом и идеологами, которому, возможно, Сикар и обязан тем, что его имя было исключено из списка эмигрантов? Не разрываясь открыто с людьми левого лагеря, он целиком принадлежит правому.
Восхваление Наполеона появляется там, где его менее всего можно было бы ожидать — в примерах или вопросах общей грамматики. Так, великие эпохи французского народа, по мнению Сикара, — это: установление власти франков, каждая из трёх королевских династий, конец монархии, установление Республики и имперская или наполеоновская династия. Поэтому, когда Сикар в 1811 году писал Женгене, напоминая ему о знаках доброжелательности и дружбы, проявленных в самые трудные времена Революции, Женгене парировал: «Он мне это хорошо отплатил впоследствии, этот кривошейный аббат».
Остаётся отметить заслуги Сикара в деле образования глухонемых. В своей теории знаков, в Курсе обучения глухонемого Сикар продолжал дело аббата де Лепе и трудился над подготовкой учителей, способных продолжить его дело. Хотя он, как справедливо заметил Дежерандо, совершенно напрасно смешивал метафизику с грамматикой, он дополнил номенклатуру, объяснив своим ученикам, каким образом грамматические формы отражают взгляды разума и функции идей, как в грамматических знаках воспроизводится живая картина умственных операций и их функций, и настаивал на значении синтаксических правил, чтобы глухонемой смог выражать свою мысль самостоятельно. В этом заключается его подлинная оригинальность.
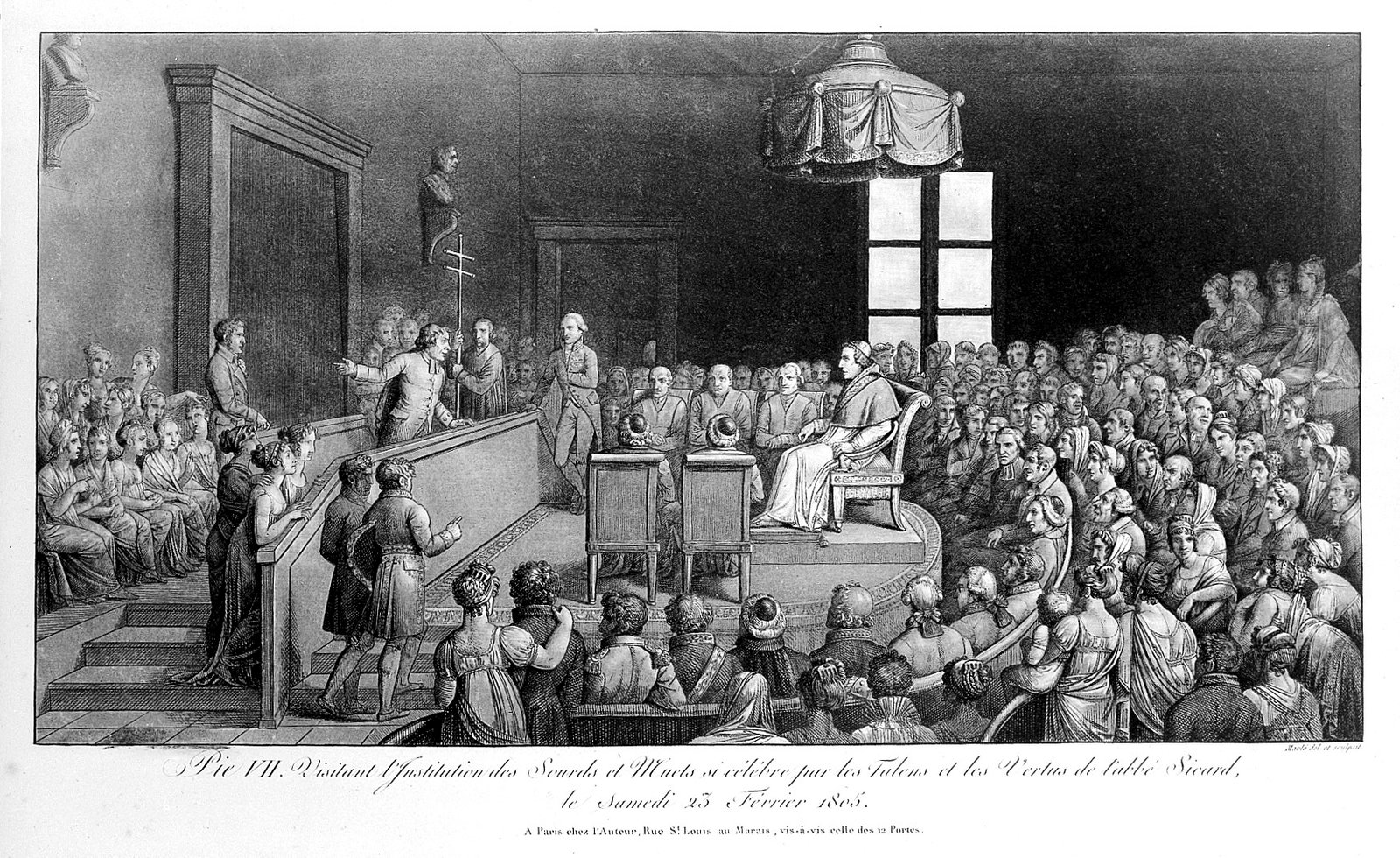
— II —
Дежерандо; его «Мемуары о знаках»; его эклектизм; этнологическая психология; моральная философия; История систем; синкретизм и эклектизм; классификация систем; глухонемые и немые; слепые; Прево, Дюмон, Лесаж, Бонштеттен
«Есть, — говорит Сент-Бёв, — умы по существу мягкие, как, например, у Дежерандо; они проходят через различные эпохи, изменяясь с лёгкостью и даже с талантом; но ни от их трудов, ни от их воспоминаний не следует ожидать какой-либо оригинальности». С таким суждением нельзя согласиться целиком, и мы постараемся показать, что у Дежерандо есть подлинная оригинальность. К тому же можно ясно отметить явные различия между доктринами его ранних трудов и позднейших. Но и в его случае, как в случае Бирана или Ампера, следует спросить себя: не влияние ли идеологов изменило первоначальное направление его мыслей, к которому он вернулся, когда это влияние исчезло?
Дежерандо родился в Лионе в 1772 году, учился в коллегии ораторианцев и проявлял глубокую набожность. В шестнадцать лет он молился Богу, чтобы тот сохранил ему жизнь, которую он просил только для того, чтобы творить добро. В семинарии Сен-Иренея он завершил курс философии. Он собирался отправиться в Сен-Маглуар, чтобы принять сан, как вдруг Учредительное собрание упразднило монашеские конгрегации. Связанный с Камиллом Жорданом, он, по словам Минье, написал вместе с ним серию брошюр в защиту полной свободы совести. Мы не располагаем текстами Дежерандо, но Сент-Бёв сохранил несколько отрывков из сочинений Жордана. Эти брошюры были адресованы католикам, отказавшимся принять гражданскую конституцию духовенства. Оба друга, которых трудно разделить, предстают перед нами не только как спиритуалисты и деисты, как говорит Сент-Бёв, но и как христиане, весьма расположенные к католицизму, а также как политики с роялистскими склонностями. Оба приняли участие в восстании 1793 года. Отряд, в составе которого находился Дежерандо, был разбит войсками Конвента. Дежерандо, получивший пулю в ногу, был спасён их командиром. Город Лион был взят, семья считала его погибшим. Он вступил в один из егерских полков, с которым вошёл в Лион, где его узнали, и ему пришлось бежать в Швейцарию, где он вновь встретился с Жорданом. Вскоре он отправился в Неаполь, где вёл бухгалтерские книги у одного из родственников, а вечерами уединялся для работы в отшельническом приюте у подножия Везувия. После амнистии 4 брюмера IV года он вернулся во Францию и последовал в Париж за Жорданом, назначенным депутатом. Известно, с каким пылом тот защищал религиозные идеи, а также людей, которые ради религии и короля прибегали даже к убийствам. Осуждённый на депортацию, как Порталис и Сикар, Жордан был спасён Дежерандо. Вместе они отправились в Германию. В Эльзасе Дежерандо познакомился с мадемуазель де Ратссамхаузен. Она была умна и кротка, любила Бога, своих родителей, друзей, книги, сельскую местность, прогулки, и особенно — несчастных. Она была также глубоко набожна и восхищалась Бонапартом. Склонная к психологическим размышлениям, в которых искала пути к самосовершенствованию, и она оказала на Дежерандо влияние, способствовавшее тому, что он стал человеком религиозным и глубоко озабоченным нравственным самосовершенствованием.
Именно в Тюбингене, и, по-видимому, по совету той, что должна была стать его женой, Дежерандо изучал немецкий язык и литературу. В феврале 1798 года она поздравляет его с успехами и ставит немецкую литературу выше французской, упоминая наряду с Кантом — Клопштока, Геснера, Галлера, Шиллера, Гёте, Гердера, Фосса, Шлоссера, Рихтера. Таким образом, именно Эльзас в этот период служил переходной зоной между Францией и Германией. В 1798 году, будучи солдатом 6-го егерского полка, Дежерандо принял участие в конкурсе на тему о влиянии знаков. Его мемуар, переписанный невестой и двумя её подругами, был отправлен в Институт в конце декабря. Дежерандо заключил гражданский брак с мадемуазель де Ратссамхаузен, с которой ранее уже венчался по религиозному обряду, и обучал общей грамматике свою жену и её сестру.
По докладу Рёдерера, мемуар Дежерандо был удостоен премии. После поездки в Лион молодожёны переехали в Париж, и Дежерандо сблизился с идеологами и госпожой де Сталь. Именно в её доме в Сен-Уэне он занялся пересмотром своего Мемуара о знаках и превратил его в сочинение объёмом в четыре тома, два из которых вышли в вантозе, а два других — в прериале VIII года. Дежерандо тщательно переработал текст, гораздо глубже изучил язык различных наук и внимательнее рассмотрел разнообразные проекты по созданию философского и универсального языка. Он исключил несколько глав, касающихся различных метафизических систем, и особенно немецкой философии. Автор ссылается на Бэкона, Лейбница и, прежде всего, на Локка, Кондильяка и Кур де Жеблена, но считает, что эти мыслители далеко не исчерпали богатую тему, которую представляет для размышлений связь между знаками и искусством мышления. Подобно другим идеологам, он не является строгим учеником Кондильяка, упрекая того в слишком абсолютных максимах, вроде: «изучение хорошо изложенной науки это всего лишь изучение хорошо устроенного языка; все прочие науки обладали бы той же простотой и достоверностью, что и математика, если бы им был дан такой же строй знаков», и в несовершенных наблюдениях и чрезмерных выводах. Он собирает всё, что может дать наблюдение о нашем прошлом состоянии, прежде чем выдвигать гипотезы о возможном прогрессе; стремится точно определить, какую помощь мы получаем от знаков, прежде чем говорить о том, какую помощь ещё могли бы из них извлечь. В первой части, анализируя факты, он пишет историю того, чем мы были, и исследует, каким образом наш разум использовал знаки, как они повлияли на успехи или изъяны нашего знания. Во второй части он строит теорию и старается определить, до какой степени совершенства могут быть доведены знаки и какие результаты могли бы дать предполагаемые реформы в этой области. Каждая из этих частей делится на два раздела. История возникновения знаков и формирования наших идей сопровождается исследованием тех операций, которые человеческий разум осуществлял над самими знаками и над идеями. Точно так же, как он сначала исследует, каким образом усовершенствование искусства знаков может способствовать нашему продвижению в познании фактов, Дежерандо затем задаётся вопросом, как оно могло бы содействовать и в поисках абстрактных истин.
В сочинении Дежерандо можно найти остроумные идеи, справедливые размышления, изложенные, как отмечала Декада, часто с излишней многословностью, но всё же полезные для психологов и филологов. Впрочем, в нём нет ничего, чего бы уже не встречалось в более сжатой или, напротив, менее разработанной форме у Дестюта де Траси, Гара и Рёдерера. Подлинная оригинальность Дежерандо заключается прежде всего в том, как он отходит от Кондильяка. Он обращается не только к философам XVIII века, но ко всем мыслителям всех времён и, задолго до Кузена, проявляет эклектизм: «Я стремлюсь, — говорит он, — к той заслуге, что легче и, вместе с тем, утешительнее для сердца, сделать истину доступной и популярной. Вместо того чтобы на каждой странице цитировать философов всех веков, я предпочитаю честно признать с самого начала, что им я обязан всем… Я полагаю, что в философии почти всё уже сказано, и что не будет ничтожной славой, даже если ничего не прибавить, собрать рассеянные истины, освободить их от окружающих их заблуждений, расположить их в должном порядке и оказать философии ту же службу, какую трудолюбивые юристы оказали науке права, составив её кодекс и упорядочив все её части в единую светлую систему. Надежда сделать науку об идеях подспорьем для общего счастья, восстановить связь между тем интеллектуальным миром, в котором обитает метафизика, и тем социальным, по которому движутся положительные науки, вот единственная мысль, которая побудила меня к этому исследованию».
Он исходит из признанного всеми философами принципа, что исток всех наших знаний в ощущениях, но различает чувствовать или испытывать изменение (пассивное состояние) и воспринимать или осознавать это изменение (активное состояние). Иначе говоря, именно через внимание, как акт духа, ощущение преобразуется в восприятие. Так же и с суждением: он не сводит его к сравнению двух восприятий или двух идей, но признаёт суждение как первичное чувство, с помощью которого каждый осознаёт своё существование и существование внешних вещей, наряду с суждениями сравнения, с помощью которых мы выносим суждение о сходстве или различии результатов, предоставленных этим первым актом. Исходя из того же принципа, Дежерандо различает идею — как отношение, возникающее на основе восприятия, и образ — как повторное возвращение ощущения. Утверждая взаимозависимость различных мозговых органов, ответственных за ощущения, он сводит механическую связь, определяющую возникновение и возвращение идей, к одновременности, последовательности и аналогии, и называет знаком всякое ощущение, возбуждающее в нас идею. Знаки, по его мнению, не являются необходимыми для формирования наших первых идей, хотя они и необходимы для образования некоторых из них. Против современных метафизиков Дежерандо оправдывает старую логику за то, что она учила — мы сравниваем идеи между собой, чтобы узнать, заключена ли одна в другой; вместе с Д’Аламбером и Кондорсе он признаёт, что разум, несмотря на все свои отклонения, всё же медленно, неощутимо, но неотвратимо движется к своей цели, он верит в совершенствуемость человеческого духа. Он стремится занять позицию между догматизмом, то есть методом абстрактных систем, который плохо начинает, и эмпиризмом или скептицизмом, который не умеет делать выводов; между мистическим экстазом Мальбранша и эпикуреизмом Гельвеция. Он утверждает, что, хотя силлогизмом злоупотребляли, это нисколько не доказывает, что он не нужен. Он защищает термин идеология, несмотря на попытки осмеяния, которым его подвергли. Наконец, он признаёт законность применения анализа, в который входят сократическая индукция, приведение к абсурду у схоластов, метод Локка, Руссо и Смита. Но он признаёт также и синтез, который можно найти в Медитациях Декарта, в трактате Кларка О существовании Бога, в сочинениях Лейбница и Аристотеля, в Психологии Бонне и в Духе законов Монтескьё.
Дежерандо, как член Института, представил там два мемуара о пасиграфии. В первом он утверждает, что пасиграфия основывается на порочной классификации, вызывает ложные ассоциации идей и только усугубляет и без того распространённое злоупотребление языком. Во втором он отрицает возможность её превращения в универсальный язык и указывает на множество преимуществ, которые мы извлекаем или можем извлечь из многообразия языков. Позднее он представил там же мемуар о Канте, в котором, отдавая должное плодотворному и смелому гению философа, а также обширности его знаний, он считает, что его метод, претензии и темнота изложения располагают к неверной оценке всей системы. Мерсье и Виллерс оспаривали выводы Дежерандо, поддержанные Декадой и идеологами.
Его оригинальность проявляется также в мемуаре о дикаре из Аверона, а особенно — в Рассуждениях о методах, которых следует придерживаться при наблюдении за дикими народами, составленных им для капитана Бодена. Уже в своём первом сочинении он жаловался на то, что имеются лишь смутные сведения о церемониях, костюмах и внешних обычаях, о мнениях, идеях и нравственном состоянии диких и варварских народов. Вынужденный быть кратким и точным, Дежерандо составил для Бодена мемуар, который в наши дни был воспроизведён Антропологическим обществом как образцовый.
В IX году Республики Дежерандо преподавал моральную философию в Республиканском лицее. В своей вступительной речи он изложил её цель, характер и историю: она относится к человеку в двойном отношении, ибо, с одной стороны, именно в знании человека она черпает самые надёжные истины, а с другой — направляет свои наиболее полезные результаты к его улучшению. Через своё соотнесение с исследованием человека она соединяется с другими науками и выстраивается с ними в единую систему, в центре которой и находится. Её история делится на четыре основные эпохи: первая — это появление Сократа, который свёл мудрость к искусству познания самого себя; вторая — время формирования школ стоиков и эпикурейцев; третья — та, что с христианством соединила мораль с религиозными идеями; четвёртая начинается с Возрождения и представлена Монтенем, Бэконом, Гоббсом и теми мыслителями — англичанами и французами, — которые то представляли наблюдаемые ими факты, то сводили свои наблюдения в систему, то соотносили их с практикой.
Дежерандо избегал полемики, желая подать пример терпимости, принципы которой он исповедовал. Точно так же он избегал всякой отсылки, способной напомнить о временах национальных бедствий, с такой же тщательностью, с какой другие эти времена разыскивают: «Поскольку мы все страдали, — говорил он, — нам всем подобает забыть. Сегодня быть врагом настоящего и будущего, значит слишком настаивать на воспоминаниях о прошлом».
В трёх последовательных лекциях Дежерандо изложил затем теорию ощущений: он показал, как они образуют единую, внутренне связанную систему; как, соединяясь с общими законами природы и с законами моральных способностей человека, они становятся благодаря этому двойному соединению основанием нашего существования, источником нашего знания и принципом всех наших операций. Изучая отношение ощущений к нашему благополучию, он приписал основополагающий принцип этих двух модификаций (физической и моральной) двум различным степеням чувствительной интенсивности, определил моральные чувства, сопровождающие в нас эти впечатления, и вывел из них объяснение тех эффектов, которые они вызывают; в заключение он обратился с призывом к благотворительности.
Для Берлинской академии, Дежерандо составил мемуар, который разделил премию «с мемуаром одного берлинского еврея». Одновременно он был назначен корреспондентом Женевского общества искусств и Туринской академии. «Это, по крайней мере, — пишет Декада, — доказывает, насколько сегодня доктрина Локка и Кондильяка пользуется признанием со стороны самых просвещённых учёных обществ Европы». Гара, Рёдерер, Ампер, Кабанис, Биран все они благосклонно встретили труд о знаках. Ампер ссылается также и на сочинение О зарождении человеческих знаний, а госпожа де Сталь пишет 23 октября 1802 года Камиллу Жордану: «Я читаю сочинение Дежерандо для Берлина — оно поражает меня своей истинностью и ясностью».
В феврале 1803 года Дежерандо завершил Сравнительную историю философских систем в отношении к принципам человеческого познания. Доктрина совершенствуемости (perfectibilité) привела Кабаниса к тому, что он признал за всеми системами значение, которого им не придавали ни Кондильяк, ни даже Дестют де Траси. Изучение Гиппократа возвратило его к стоицизму. Моральный, религиозный и философский эклектизм, к которому Дежерандо всё более и более склоняется, стал причиной того, что он написал Историю систем с редкой — как для своего времени, так и по сей день — беспристрастностью. Благодаря ему, как и благодаря Кабанису и Форьелю, исторический метод становится более широким и точным. И Дежерандо по праву принадлежит этой школе. Он с похвалой упоминает Кондорсе, Кабаниса, Бирана, Тюро, Дестюта де Траси, хотя и оспаривает у последнего одну «весьма остроумную гипотезу, предназначенную для объяснения происхождения нашего знания». Эпиграф, заимствованный у Квинтилиана мог бы стоять и во главе Наброска Кондорсе. Этот труд частично осуществляет то желание, которое выражал Бэкон, видеть, «ради умножения человеческого знания, осуществлённую универсальную историю наук и искусств». История философии становится новым предметом для размышлений, и та длинная цепь опыта, которую она предоставляет, как бы сама собой рождает важную теорию. Так как всякая философия в некотором смысле вращается вокруг своих первых принципов или первоначальных истин, находящихся в основе всех прочих, то необходимо после исторического изложения систем, созданных философами о началах человеческого познания, перейти к критическому анализу, в котором можно противопоставить их доводы и сопоставить их последствия. Основываясь на подлинных свидетельствах, классифицируют, делят, определяют доктрины и устанавливают признаки философских революций; затем извлекают из этого новый свет по отношению к фундаментальному вопросу.
Дежерандо не стремится ни к чему иному, как только дать общее введение в историю философии, и подготовить для своих преемников регулярную и простую номенклатуру, аналогичную той, что применяется в естественных науках. В семнадцати главах он излагает представления, в большинстве своём до сих пор точные, обо всех школах, даже о тех, которые тогдашняя традиция считала наименее значимыми.
Достаточно привлечь внимание к главе, где он говорит о схоластике: «ничто не выглядит более несправедливо, чем презрение, с которым мы ныне относимся к этой великой дискуссии между реалистами и номиналистами, дискуссии, связанной с самыми прославленными доктринами античности и нового времени и касающейся основополагающего вопроса о происхождении идей. Эта полемика вернула духу независимость, открыла новые пути и подготовила спасительную реформу методов. Вместе с Лейбницем можно сказать: «золото скрыто в этом схоластическом навозе варварства» (aurum latere in stercore illo scholastico barbariei). Если мы сопоставим Дежерандо и Дону, разве не будет справедливо утверждать, что, продолжая дело Д’Аламбера и Кондорсе, они внесли свой вклад в то, чтобы открыть нам Средние века и побудить нас к их изучению, несмотря на то, что о них всё ещё упорно продолжают говорить как о чём-то «неизвестном и презираемом идеологами»? Точно так же, читая страницы, посвящённые шотландской и немецкой философии, мы снова будем склонны повторить sic vos non vobis — «вы трудитесь, но не для себя», — видя, что сегодня ежедневно пишут о Руайе-Колларе и мадам де Сталь.
Отделяя синкретизм, который смешивает в одно целое самые разнородные элементы, от эклектизма, который извлекает из различных учений, путём разумного выбора и вдумчивой критики, всё полезное, что может содержаться в каждом из них, Дежерандо видит в истории средство различить — по устойчивым и достоверным признакам — ложную философию от подлинной. Множественность систем была подготовкой к открытию истины; многие мнения, не являясь истиной в полном объёме, составляли её начало. Их различие объясняется их неполнотой, и каждое имеет свою ценность, поскольку приносит элементы, необходимые для формирования точных понятий. Следуя Лейбницу, нужно отбирать максимы философов, прослеживать их истоки у античных авторов, схоластов, немцев и англичан, извлекать золото из грязи, алмаз — из недр, свет — из тьмы, чтобы создать подлинную философию, perennis quædam philosophia, своего рода вечную философию. Поэтому, завершив историческое изложение, он извлекает из него итоги. Все системы стремятся понять, как познания возникают, как они формируются и обосновываются; он исследует их достоверность, происхождение и реальность. Отсюда — догматизм и скептицизм, эмпиризм и рационализм, наконец, материализм и идеализм, между которыми он выдвигает срединную позицию: утверждать только после сомнения, примирять чувства и разум, признавать реальность объектов, познаваемых как внешними чувствами, так и внутренним ощущением. Если проследить историческую преемственность систем, можно увидеть, что сначала возникает эмпиризм, за которым появляется рационализм. Из борьбы между ними рождается скептицизм, утверждающий, что ни чувства, ни разум не способны дать подлинное знание. Тогда предпринимается попытка их соединения: эмпиризм уступает место философии опыта, рационализм — спекулятивной философии, где разум ставится на первое место, а чувственные истины на второе. Эксперименталисты выводят идеи из чувственных восприятий, тогда как спекулятивные философы признают врождённые идеи; первые предпочитают аналитические методы, вторые синтетические. Споры вновь возникают относительно реальности объектов, к которым мы относим внутренние или внешние ощущения: материалисты полемизируют с идеалистами, среди которых находятся идентисты — не признающие даже самого «я» и замыкающиеся на нескольких абстрактных аксиомах, независимо от всякого бытия; они составляют авангард и своими спорами порождают абсолютный скептицизм. Тогда становится очевидной необходимость определить, что такое наука. Между революциями этих различных систем существует внутренняя связь. Философия опыта исправляет поспешность догматизма скептицизмом благоразумия; она отвергает абсолютный скептицизм авторитетом фактов; она освобождает человеческий дух от оков эмпиризма, возвращает ему вместе с методами и дедукцией способность к обобщению; она возвращает рационализм с расплывчатых пространств, в которых тот блуждал, к точным данным наблюдения; она предлагает идеализму и материализму договор о мире, основанный на двойственном опыте внешних чувств и внутреннего чувства. Неизменная, поскольку ей удалось найти великую формулу равновесия, она как бы держит равновесие между системами.
Дежерандо читают так мало, особенно в его первом издании Сравнительной истории, что из него с лёгкостью можно было бы извлечь немало идей, которые кажутся оригинальными, когда встречаются у его последователей. Де Бональд почерпнул из него доводы, чтобы показать, «что Европа, центр и очаг всех просвещённых знаний, всё ещё ожидает философии»; Биран взял из него аргументы против де Бональда. Этот труд был переведён на несколько языков. Теннеманн восхвалял его; Дугалд Стюарт видел в нём, в этом редком сочетании эрудиции, благородства чувств и философской глубины, поразительное и полное сходство со своими собственными взглядами.
Сначала секретарь Консультативного бюро по делам искусств и торговли, Дежерандо стал затем генеральным секретарём Министерства внутренних дел; потом — мастером прошений, был отправлен в Италию, во Флоренцию и Рим, стал государственным советником в 1811 году и интендантом Каталонии в 1812-м. Таким образом, он всё больше сближался с Наполеоном. Произошли трения с идеологами. В своём Докладе о прогрессе философии Дежерандо хвалил Канта, немецкие работы по истории философии, превозносил Дугалда Стюарта и упоминал о французской школе лишь как о той, что исправила доктрину Кондильяка. Министр, которому в отношении прочих докладов было поручено «устанавливать границы определённым мнениям, противоречащим общественной морали», переложил свою ответственность на Дежерандо, которому пришлось вносить исправления и давать советы людям, чьё превосходство он признавал при множестве случаев: «Они восприняли это как уязвление самолюбия, — говорит мадам Дежерандо, — и последовала буря негодования против того, кто придал форме дружеского совета то, что могло бы стать приказом свыше».
В 1814 году Дежерандо входит в состав Философского общества, заседавшего у Биранa. В 1818 году он преподаёт административное право на юридическом факультете в Париже и публикует четыре тома своих Институтов. Один из основателей Общества начального образования, он предлагает для учителей начальных школ Нормальный курс, в котором разъясняет направление, которое следует придавать физическому, нравственному и интеллектуальному воспитанию. В 1822 году он выпускает значительно дополненное издание Сравнительной истории. Ампер жаловался, что Кузен развивает его идеи, не ссылаясь на него; Биран же говорил, что если Кузен охотится на его угодьях, то делает это с его полного согласия, и что у него, Бирана, есть хорошая доля этой добычи. Издатель Дежерандо, по-видимому, также намекает на то, что Кузен был ему обязан: «Читая, — говорил он, — программы курсов, открытых в последние годы на факультете словесности Парижской академии, можно убедиться, что профессора, как правило, приняли за основу своего преподавания именно ту идею, на которой покоится труд господина Дежерандо». Дамирон и Кузен хотели показать, что во втором издании, как и в последующих работах, Дежерандо отошёл от идеологов. Однако он не отказался ни от одной из своих прежних позиций: он по-прежнему восхваляет Бэкона, Кондорсе и Кабаниса. Но с этого времени он всё больше занят моральными и религиозными идеями, которые ещё в юности привлекли его внимание. Уже в 1820 году он пишет Посетитель бедняка, а в 1824 году выходит его книга Нравственное совершенствование, посвящённая его жене и опубликованная после смерти той, кого он столь нежно любил. В этой книге Дежерандо часто говорит о Провидении и о Боге, но при этом он защищает философию опыта от её противников, которых, впрочем, не называет. Если он и приветствует разумный эклектизм, который заимствует у каждой системы всё ценное и отвергает лишь неполное, он тем самым лишь повторяет то, что уже развивал в своих первых сочинениях. Если он видит в человеке религиозное существо, он продолжает — вслед за Кондорсе — считать его существом способным к совершенствованию и верить, что человек может возвышаться и развиваться путём непрерывного прогресса. Если он христианин, то не в духе тех, кто привязывает себя к поэтической стороне христианства и превращает его, подобно Шатобриану, в нечто вроде суеверия и идолопоклонства. Впрочем, после этой книги, в которой содержатся банальности, повторы и даже напыщенность, но также и весьма интересные вещи, Дежерандо вновь возвращается к изучению идеологии.
В своём Отчёте 1808 года и в Истории 1822 года Дежерандо уже указывал на интерес, который могло бы представлять наблюдение за глухонемыми до начала их обучения. Говоря об одной глухонемой и слепой девушке, он писал: можно было бы составить книгу об истории её разума, и эта история имела бы, по крайней мере по сравнению с вымышленной статуей Кондильяка, то преимущество, что она была бы во всём — положительным опытом. Будучи администратором института для глухонемых, он после смерти Сикара получил поручение представить сравнительную и обоснованную картину различных методов, применявшихся для их воспитания, и предложить возможные пути их прогрессивного усовершенствования. В двух томах он написал свой труд Об обучении глухонемых от рождения. В первой части он излагает принципы и цели преподавания; во второй он пишет историю искусства обучения; в третьей рассматривает достоинства различных систем и указывает на усовершенствования, которым они поддаются. Историческая часть свидетельствует о достоверной эрудиции и остаётся актуальной до сих пор; догматическая часть, одна из самых интересных, и она показывает, насколько полезным было бы изучение психологических вопросов для тех, кто занимается глухонемыми. Однако в этой книге, где Прейер и в наши дни отмечал очень удачные наблюдения относительно приобретения языка ребёнком, мы хотим указать лишь на то, что действительно оригинально и напоминает об идеологе. Вспоминая свой Мемуар для Бодена, Дежерандо сожалеет о том, что для глухонемого не делается того, что уже пытались осуществить для дикарей. Описание их умственного развития, их верований и предрассудков, их языков было бы крайне полезно для изучения философских наук. Необходимо было бы наблюдать их в семьях и в полной свободе, в различных жизненных обстоятельствах и в разном возрасте. Увы, и он сам не предпринял систематического и последовательного исследования того, что сам же называет естественной историей глухонемого, хотя и предоставил некоторые небезынтересные сведения о Джеймсе Митчелле, слепом и глухом, и об одной девушке, глухонемой и слепой, весьма схожей с Лаурой Бриджмен. Более того, будучи губернатором и администратором госпиталя Кенз-Вен (Quinze-Vingts), он пришёл к сравнению положения слепых и глухонемых и сделал некоторые наблюдения относительно моральных и интеллектуальных качеств первых. Как жаль, что он не был сдержан влиянием Дестюта де Траси и Кабаниса! Вместо четырёх томов о Общественном благотворении, которые могли бы написать и другие, он, возможно, оставил бы нам — о дикарях, глухонемых и слепых — труд, который, пожалуй, даже более, чем его История, поставил бы его в ряд мыслителей, о которых помнит потомство. Вместо оригинальных идей, нередко не доведённых до применения и рассеянных более чем в двадцати пяти томах, он мог бы создать подлинное произведение.
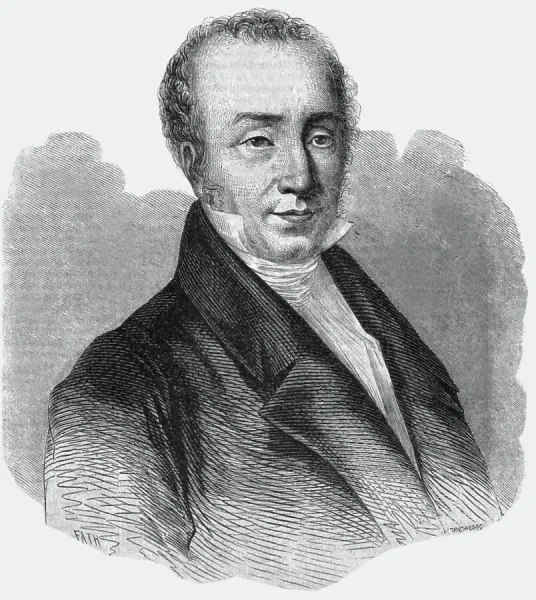
О Прево (Prévost) из Женевы уже не раз шла речь. Переводчик Адама Смита, он дал весьма точную характеристику трёх философских школ — французской, шотландской и немецкой; он восхвалял Гара и Тюро и был отмечен в конкурсе на тему О влиянии знаков. Как корреспондент Института, он в XIII году Республики заимствует эпиграф для своих Философских эссе у автора О зарождении человеческих знаний. Повторяя деление на три школы, он упоминает Дестюта де Траси, чьи принципы, по его признанию, он пока что не может полностью принять, хотя и заимствует у него немало; Бирана, который с научной точностью развил теорию привычки, изложенную Дестютом де Траси; Дежерандо, глубоко проанализировавшего, каким образом способности способствуют формированию наших идей, — но прежде всего Дугалда Стюарта и шотландцев. Четыре года спустя он посвятил Дежерандо перевод Элементов философии человеческого духа Дугалда Стюарта, сопроводив его письмом, из которого видно, насколько тесными были в ту эпоху, как и в XVIII веке, связи между философами Франции, Шотландии и Швейцарии.
К Прево можно было бы приблизить Дюмона, друга Мирабо и переводчика Бентама, который познакомил континентальную Европу с его идеями; Валькнера, который в 1798 году в своём Опусе об истории человеческого рода ссылается на Бэкона, но выступает против Вольтера, Монтескьё, Гельвеция, Ларошфуко и Мандевиля, призывая на помощь Смита и Стюарта, переведённого Прево; Лесажа, чьи небольшие трактаты следуют за Философскими эссе и в которых Поль Жане отметил весьма интересные идеи о конечных причинах.
Но особого упоминания заслуживает Бонштеттен (1745-1833). Он знал Вольтера и Бонне, Бенжамена Констана и мадам де Сталь. Биран его читал и цитировал. В своём сочинении Исследования об воображении (1807) он различает чувства и идеи, упрекая современных авторов в том, что они изолировали факты, которые следовало бы наблюдать в их взаимной связи. Он критикует Канта, часто упоминает Бонне и Лейбница, иногда Пинеля, но мог бы отдать Кабанису должное за немало справедливых, пусть и поверхностных мыслей, которые он включает в своё изложение. Исследования о человеке (1821), где упоминаются Гельвеций и Локк, Бонне и Бэкон, Гердер и Юм, Смит и Лейбниц, Ривароль и Дидро, Кант и Гарве, направлены на развитие теории чувствительности и посвящены вопросам ощущения, связи идей, нравственного чувства, истины, бессмертия души и существования Бога. Идеологи видят в мышлении только идеи; но необходимо включить в него чувство как составную часть, а не как нечто внешнее или добавочное. Тем не менее, аналитический метод остаётся единственным методом изобретения, поскольку наши знания вначале заключены, как семя, в ощущения, крайне сложные и туманные.
— III —
Ларомигьер и Кондильяк; доктрины Ларомигьера до 1811 года; Парадоксы Кондильяка; Лекции; их успех; эклектизм; изменения в лекциях
Для Дестюта де Траси, Вольнея, Кабаниса, Кондорсе, так же как и для Ламарка, Ж.-Б. Сэя, Тюро, Ампера, Лапласа, идеология и науки были союзницами, которые могли добиться результатов лишь действуя сообща. С Ларомигьер же строит философию, за исключением некоторых математических общностей, независимо от наук. Огюст Конт и позитивисты присваивают себе математические, физические и социальные науки; Бруссе и натуралисты создают биологическую философию; Форьель, Огюстен Тьерри и их преемники стремятся выделить философию истории; Шарль Конт, Дюнуайе, а также даже Бастиа продолжают в политической экономии идеологическую традицию, тогда как филологи идут в школу Германии и стараются догнать её на почве позитивного знания — прежде чем пуститься в умозрение.
У преемников Ларомигьера от научного сообщества осталась, строго говоря, лишь одна общая черта, но весьма существенная: метод. Однако человеческие качества Ларомигьера привлекали к его учению всех, кто с ним соприкасался; а достоинства его как писателя делали его сочинение особенно доступным широкой публике. Исключительно ясное и опирающееся почти исключительно на общепринятые понятия, оно было понятно людям светским, которым оно быстро давало навыки размышления и упорядочивания собственных идей. Его литературные достоинства ценили все, кто придаёт большое значение форме, в которую облечена мысль. Забота, с какой автор избегал всего, что напоминало бы полемику, всего, что могло бы пробудить гнев или ненависть, делала его сочинение особенно рекомендованным для отцов семейств, для которых взращивание мягких и добрых чувств представляется главной целью воспитания. То же самое относилось и к преподавателям, которым, особенно в годы религиозной борьбы, книга нравилась ещё по одной причине: излагаемые в ней доктрины находились в согласии с христианством; философия, не становясь служанкой богословия, тем не менее не демонстрировала ни дерзости, ни экспансивности; она никоим образом не стремилась занять место религии. Вот почему, за исключением тех, кто вовсе не желал никакой философии, большинство представителей духовенства находили её безупречной и нисколько не возражали против её присутствия в школьном преподавании даже в самые смутные периоды; последним из «ларомигьеристов» был аббат, бывший учеником Ларомигьера во времена Реставрации. Поэтому, когда духовенство, испуганное дерзостью некоторых преподавателей, начнёт нападать на философское образование, политики, которым придётся рассеивать эти опасения, будут ссылаться на Уроки; и Кузен, и Вильмэн сочтут это сочинение «освящённой книгой»; Июльская монархия, как и Империя, вручит её молодёжи. К этому добавим, что противники эклектизма, не имея возможности преподавать собственные учения, не преминут предложить, в случае если будет установлен официальный курс, выбрать философию Уроков — ясную, изложенную в превосходных выражениях, осторожную и не задевающую ничьих убеждений. Учёные вновь обретут в ней свой метод и не будут враждебны этой школьной философии; они скажут себе, что её изучение полезно, пусть и недостаточно, для тех, кто однажды захочет присоединиться к их исследованиям. А если позже философы, изучившие науки, осознают это методологическое родство, они с лёгкостью покажут, какую пользу это принесло философии, и подчеркнут необходимость более тесного союза между ними: и тогда хвала самому обаятельному и самому популярному, пусть и не самому великому или оригинальному, из идеологов послужит делу — и приведёт к появлению продолжателей, которые, усовершенствовав метод идеологов за счёт научных открытий, создадут для учёных новую идеологию.
Пьер Ларомигьер родился в 1756 году в Левиньяке, в Руэрге. Как и Биран, Лаканаль, Сикар и Дону, он получил образование у Доктринеров, а затем вступил в их конгрегацию. «Нас было там, — говорил он позже, вспоминая свой новициат, — двадцать четыре юноши, которые, проведя восемь лет, набивая головы греческим и латинским, начинали осваивать искусство преподавания. Надо было начинать с самого низшего класса и в течение двух лет быть готовыми в любой момент ответить на любые вопросы, какие бы ни пришло в голову нашим начальникам нам задать. Часто, только соберёшься сесть за суп, раздавался голос: “Профессор шестого класса, поднимитесь на кафедру и изложите нам все трудности, связанные с союзом que, изложите мнение Порт-Рояля, объясните латинскую просодию, процитируйте третью песнь Энеиды, начиная с шестидесятого стиха…”, — и потом следовали бесконечные словопрения и сверхчеловеческие усилия памяти. Через два года молодого преподавателя гуманитарных наук ждали испытания иного рода. Наконец, наступала очередь философии: Nego consequentiam; argumentum in barbara; distinguo — и надо было всё время говорить по-латыни, не допуская ни одного солецизма, иначе вызывал бы насмешки у ornatissimi auditores (самых знатных слушателей). После всего этого нам платили сто экю в год, давали в распоряжение хорошую библиотеку — и мы были счастливы, как каноники».
Постепенно он стал преподавателем пятого, четвёртого, второго классов в Мойсаке и Лаворе, затем третьего класса в коллеже Л’Эскюй в Тулузе. Он принял духовный сан, однажды отслужил мессу, и, как отмечали, довольно неловко. В 1777 году он находится в Тулузе в должности репетитора по философии и, возможно, уже тогда, как и многие его современники, переписывается с Кондильяком, хотя никогда его не видел. Он преподавал философию в Каркассоне, в Тарбе, где у него учился Доб, а также в военной школе Ла-Флеш, после чего в 1784 году вновь вернулся в Тулузу. Письма, адресованные его матери и брату показывают его таким, каким он был всю жизнь: добрым и нежным, преданным и щедрым, всегда готовым помочь тем, кого любит, пусть даже и немного, всегда стремящимся сделать это с тактом, любезностью и жизнерадостным настроем, способным вызвать у тех, кому он помогал, ощущение, будто это они оказали ему услугу, предоставив возможность сделать добро. Впрочем, именно так он сам это и воспринимал. Этот же человек позже оплатит издание Истории французов различных сословий за последние пять столетий и напишет своему другу Алексису Монтею, что нашёл ему издателя.
Почти во всех учебниках фигурирует легенда, долго считавшаяся достоверной, но оттого не ставшая более обоснованной. Согласно ей, философия Кондильяка безраздельно господствовала во Франции вплоть до 1810 года, и только Ларомигьер, наряду с Руайе-Колларом, якобы выступил тогда против господствующей философии, главным образом под влиянием политико-религиозной реакции. Однако среди идеологов мы не находим ни одного подлинного ученика Кондильяка. Если они и ссылаются на него, то лишь в связи с методом. А ведь метод в XVIII веке, это общее достояние не только всех философов, но и всех учёных. Подобно идеологам, Ларомигьер принимает метод, рекомендованный Кондильяком. Но он остаётся учеником Кондильяка в куда большей степени, чем они: в метафизике он полностью его последователь и говорит о Боге, о душе как свободной, духовной и бессмертной сущности то же, что сказал бы Кондильяк — но чего не приняли бы ни Вольней, ни Кабанис, ни Дестют де Траси, ни даже Гара. Именно потому, что он был более кондильякианцем, чем его прославленные друзья, Ларомигьер и смог стать популярным в то время, когда их доктрины повсеместно оспаривались. Более того, тем, кем он был в 1811 году, он оставался и в 1793, и в 1798, и даже в 1784 году. Пока его коллега, аббат Руа, представлял старые доктрины, Ларомигьер преподавал происхождение идей. Он выступал против врождённых идей, как Локк и Кондильяк, утверждая, что все идеи предполагают ощущение, но при этом считал, что они возникают из применения активных способностей нашего ума к различным способам чувствования. Всё ещё ученик Кондильяка, но также последователь Вольтера, Руссо и Монтескьё, он предлагал своим ученикам защищать тезисы, которые раскрывают в нём, наряду с автором Уроков, произведения, почтительно принимаемого даже самыми реакционными политиками и богословами Реставрации, — совсем иного человека: сторонника Революции, трибуна-оппозиционера, а подчас и заговорщика, пусть и менее пылкого, но столь же убеждённого, как Дону или Кабанис в последние годы Консульства. Текст одной из этих ученических диссертаций — Non datur jus proprietatis, quoties tributa ex arbitrio exiguntur («Право собственности не существует там, где налоги взымаются произвольно») — в определённой мере выражает политические стремления поколения, совершившего Революцию. Генеральный прокурор пожаловался на эту атаку против неограниченной до тех пор власти королевской власти. Парламент, тот самый, что осудил Ванини и Кала, подверг этот тезис цензуре, но, по-видимому, не смог воспрепятствовать Ларомигьеру устроить его публичное обсуждение. Созыв Генеральных штатов был им благосклонно воспринят. «Как большинство людей учёных, — писал Дону, — особенно тех, кто тогда преподавал в университетах и духовных конгрегациях, он принял дело общественной свободы с открытостью и даже с неким воодушевлением».
В 1790 году, после упразднения конгрегаций, Ларомигьер начал читать публичный курс лекций по социальной философии, по правам и обязанностям человека и гражданина. Курс этот имел большой успех, предвещавший его будущее признание как профессора на факультете словесности. Во время Террора он жил в уединении и, подобно Дестюту де Траси, Рёдереру и многим другим, искал утешения в философии. Его Проект элементов метафизики, который Жюль Симон назвал шедевром ясности и стиля — одновременно изящного и простого — вышел в свет в 1793 году. Это были первые две книги из задуманного десятитомного труда, который должен был охватывать анализ мышления, ощущений, идей, метафизические учения, происхождение морали, душу, животных, Бога, искусство рассуждения, а также наши ошибки и неведения. Сийес обратил на книгу внимание и дал её прочесть Кондорсе, Кабанису, Дестюту де Траси, и все они признали в авторе одного из своих. В возрасте тридцати восьми лет Ларомигьер, посланный в Париж департаментом Верхняя Гаронна, посещал, подобно Тюро, занятия в Нормальной школе, особенно лекции Вольнея и Гара. Последний, прочитав письменные замечания, направленные ему Ларомигьером, начал свою лекцию словами: «Здесь есть человек, который должен бы стоять на моём месте». По рекомендации Лаканаля, Сикар назначил его помощником преподавателя в Институте глухонемых. Дону уступил ему кафедру всеобщей грамматики. В качестве ассоциированного члена Института, как и Дестют де Траси, Ларомигьер представил там три мемуара, которые, к большому сожалению, так и не были должным образом перечитаны при составлении истории его идей.
27 жерминаля IV года (16 апреля 1796 года) он зачитал мемуар о определении слов, анализе ощущений. «Будучи, — говорил он, — призванным участвовать в ваших трудах, я прежде всего захотел для себя самого прояснить предмет, который нам предложено обдумывать, и задался вопросом: что я должен понимать под этими словами — анализ ощущений». Он совершенно ясно указывает точку зрения, с которой подходит к теме, отождествляя себя с умами обычными, для которых искусство должно уменьшать толщу покрова, скрывающего истину, и придавать ему такую прозрачность, чтобы можно было различить хотя бы основные черты истины, которую он прикрывает. Его размышления касаются лишь поверхности. И в природе, и в искусстве все произведения вычерчиваются при помощи прямой и кривой — этих начал или первоэлементов всех форм. Зерно есть начало или первоэлемент муки, теста и хлеба. Таким образом, принцип это факт, который принимает последовательно различные формы. В природе и в искусствах мы находим явления или процессы, заключённые друг в друге и все — в самом первом, который служит им принципом: семя конопли становится коноплёй, нитью, тканью, бельём, бумагой; из яйца бабочки возникает гусеница, куколка, бабочка; сложение — умножением, возведением в степень, теорией показателей; внимание превращается в сопоставление, в соотнесение, в суждение, в рассуждение, в рефлексию, в воображение, в разумение; разумение имеет своим принципом внимание. Каждая наука имеет свои начала. Бесчисленные связи, которые тяготят над умом в науках самых сложных, суть лишь оттенки или комбинации немногих элементарных идей или ощущений. Живой и чистый источник сперва даёт лишь тонкий ручеёк, но воды, постепенно увеличиваясь, превращаются в конце концов в величественную реку и образуют океан — без дна и берегов.
Из совокупности ряда фактов, упорядоченных по отношению друг к другу и всех сведённых к одному первому факту, образуется система: один факт, одна идея, одно слово могут заключать в себе целую науку. Чаще всего принципы ускользают от нас: потребовались усилия веков и напряжение гения, чтобы увидеть связь между реальным движением Земли и видимым движением звёзд, между падением камня и орбитой Луны, между свойствами янтаря и явлениями молнии, между подъёмом паров и подъёмом воздушного шара, между природными способностями человека и его политическими правами. К тому же даже те системы, которые уже установлены, ещё весьма далеки от совершенства. Что же тогда думать об амбициозных умах, «которые дерзнули охватить в своих замыслах и необъятность явлений, представляемых зрелищем мира, и ещё более поразительную необъятность тех, что, скрытые в недрах природы, вечно ускользают от человеческого взгляда, — и попытались под заглавием “система мира”, “система природы” подчинить всё это системе»? Но можно с должной глубиной изучать факты, из которых мы хотим составить систему, изолировать их от всех, с которыми они переплетены, разложить совокупность, частью которой они являются, чтобы сосредоточить на них особое внимание и уловить их специфический характер, чтобы с лёгкостью их сравнивать и уловить связи, которые их объединяют. Когда разум разлагает целое на части, чтобы составить представление о каждой в отдельности, когда он сравнивает эти части между собой, чтобы обнаружить их взаимосвязь и таким образом восходить к их истоку, к их первопринципу, — он производит анализ.
Природа разнообразила свои творения: она показывает нам мёртвую и безжизненную материю; сокровенную силу, которая влечёт элементы друг к другу и удерживает их в вечном покое; материю, способную к организации, питающуюся, растущую и умирающую; живое существо, обладающее независимостью, движущееся, ищущее, преследующее и достигающее объект, удовлетворяющий его потребности; и, наконец, человека, помещённого в центре сферы живых существ, господствующего над минералами, растениями и животными благодаря своему высшему строению, способного к науке и добродетели — посредством разума. Всякое движение в его органах или чувствах сопровождается удовольствием или болью, приятным или неприятным ощущением. Мы постоянно переживаем бесчисленные ощущения, и наблюдение различий, вызванных возрастом, страной, эпохой, полом, образом жизни, обнаруживает бесконечное множество новых вариаций в самой природе ощущения. Если бы всё, что есть в нас, сводилось только к ощущениям, если бы мы сами были ничем иным, как совокупностью ощущений, если бы вся Вселенная существовала для нас лишь как феномен, производный от нашей чувствительности, тогда полная анализа ощущений охватила бы в себе систему Вселенной. Но не универсальную систему вещей и не универсальную систему наук нужно здесь искать, а зародыш всякой науки и всякой человеческой силы. Человек получает впечатления, сравнивает их, судит о них, ищет одни, избегает других, сохраняет о них воспоминание, формирует на их основе устойчивые идеи. Он размышляет о самом себе, учится познавать себя и управлять собой. Он становится разумным, нравственным и мыслящим существом. Как же произошло, что ощущение превратилось в разум, нравственность и рассудок? Вот тот вопрос, который предстоит исследовать первому отделению второй секции Института.
Ларомигьер предстает таким, каким он и останется в своих последующих сочинениях. Он ограничивает свои исследования анализом идей и отделяет философию от наук; он говорит о метафизических вопросах так, чтобы не вызвать неудовольствия ни у спиритуалистов, ни у материалистов, ни у атеистов, ни у деистов. Подобно Кабанису, он упоминает природу, формирующую живые существа, материю, организующуюся сама по себе, и превосходство человека, проистекающее из его организации и физических способностей. Хотя он и не говорит об «душе», он формулирует в сомнительной форме утверждение, что всё, что есть в нас, — это только ощущения, и что мы сами — для самих себя — ничто иное, как ощущения. Он представляет возвышенную идею божества как высшую цель, к которой стремятся наш разум и наше сердце.
Стиль — ясен, элегантен, сдержан. Сначала возникает соблазн поверить, что перед нами сама истина, и дать системе полное и безоговорочное согласие. Но стоит лишь задуматься над поднятыми вопросами, как становится очевидным, что реальность ни так проста, ни так легко поддаётся заключению в рамки системы; слишком уж явно, как, впрочем, сам автор признаёт, что его размышления затрагивают лишь поверхность явлений; ясно, что ясность изложения не служит глубине, что сложность реального не была описана, а объяснение ещё менее полно, чем описание.
Но, как и в 1784-м, так и в 1793 году, Ларомигьер не является верным учеником Кондильяка. Он излагает теории, на которых основан кондильякизм, в сомнительной форме. Формулируя вопрос, поставленный перед Институтом — как ощущение превратилось в разум, в мораль, в разумность? — он предлагает краткий ответ: «В метафизике, — говорит он, — видно, как внимание превращается в сравнение, в установление отношений, в суждение, в умозаключение, в размышление, в воображение, в разумение. Разум имеет своим источником внимание». И это не просто удобный пример для выражения мысли, а уже разработанная теория, о которой он говорил в частных беседах: Дестют де Траси даже счёл нужным обосновать, почему он не включил внимание в число элементарных способностей мышления. Насколько нам известно, только Ларомигьер в то время занял такую точку зрения. Он сохраняет её и во втором мемуаре, из которого был опубликован лишь фрагмент, поскольку внимание, размышление и анализ он называет средствами, с помощью которых мы открываем в предметах множество сторон — знание которых и отличает просвещённого человека от невежды. Наконец, ещё до этого последнего мемуара, Ларомигьер представил Наблюдения о системе операций разума. В первой части он рассматривает, насколько трудно открыть систему Кондильяка, и, представляя себе ситуацию, в которой она была бы ещё неизвестна, размышляет, по какой цепочке умозаключений можно было бы к ней прийти. Во второй — он её излагает, в некоторых местах модифицируя и добавляя новые идеи. Никто не считал Ларомигьера простым и чистым кондильякианцем. Разграничение активности и пассивности, внимание как источник разумения — всё это воспринималось как модификации и дополнения, которые Ларомигьер стремился внести в систему Кондильяка.
Второй мемуар был посвящён определению слова идея. «Именно способности различать между собой наши идеи и наши объекты, — говорит Ларомигьер, — мы обязаны тем, что вообще имеем идеи». Различая свои ощущения, человек переходит из состояния чувствующего существа в состояние разумного; от ощущений к идеям; чувство становится идеей, когда оно выделено из множества других, с которыми ранее сливалось. Идея — это, следовательно, выделенное чувство, различённое, замеченное ощущение. Восприятие — это не просто чувствование, но чувствование связей и отношений. Идея это ни мысль, ни некий реальный, независимый от наших ощущений сущий элемент, ни нечто среднее между сущностями и их свойствами, ни, как утверждает Мальбранш, сама сущность Божества, ни даже просто сравнённые ощущения, как считал Бюффон. Её собственная характеристика в различении объектов и их свойств, и поскольку мы познаём существование объектов только через ощущения, то именно в различении ощущений следует искать первоисточник нашего знания.
Овладев истинным значением слова идея, легко ответить на вопросы, которые обычно о ней задаются: — Спрашивать, предшествуют ли идеи ощущениям, значит спрашивать, предшествует ли различение ощущений самим ощущениям. — Спрашивать, независимы ли идеи от ощущений, значит спрашивать, можно ли замечать ощущения, не испытывая их. — Спрашивать, существуют ли врождённые идеи, значит спрашивать, есть ли идеи, предшествующие и независимые от ощущений. Чтобы отличить идеи от ощущений, необходимо признать: чувствовать отношения это не то же самое, что просто чувствовать. Всякая идея есть ощущение или его часть, но обратное неверно: не всякое ощущение становится идеей, ведь не все люди одного возраста, прошедшие через одни и те же обстоятельства и испытания, имеют одинаковый набор идей. Идея это не обязательно образ, поскольку, например, понятие протяжённости не содержится во всех замеченных нами ощущениях. Иметь идею, чувствовать различие, воспринимать — это одно и то же; и поскольку идея предполагает наличие ощущения, она не является самостоятельной операцией разума, ведь именно внимание, размышление, анализ позволяют нам открывать в объектах многообразие точек зрения, знание которых отличает образованного человека от невежды. Часто нам приходится вращать объекты, перемещать их, сопоставлять друг с другом, как говорил Руссо, чтобы заметить связи, которые их характеризуют. Таким образом, идея это результат операций разума, но не сама операция.
Кабанис говорил об этих двух «Мемуарах», что Ларомигьер поставил в них несколько вопросов с большей точностью, чем это делалось ранее, — лишь посредством одного только определения некоторых слов. Сам Ларомигьер считал, что ему удалось уловить «первый луч человеческого разума». Однако на протяжении почти пятнадцати лет он оставит эти идеи дремать и едва ли будет представать перед публикой иначе как ученик Кондильяка.
Получив поручение наблюдать за знаменитым изданием, которое в нескольких пунктах обнаруживало доктрины, весьма отличные от тех, с которыми Кондильяк связал своё имя, Ларомигьер дополняет несколько глав Языка исчислений и задаётся вопросом, как далеко могли бы зайти исследования, если бы их автор остался жив. Опираясь на свидетельства некоторых своих друзей и на отдельные указания, почерпнутые из прежних трудов Кондильяка, он полагает, что всем учёным остаётся лишь сожалеть о том, «что этот прекрасный памятник славы нашей нации и человеческого разума не мог быть завершён тем, кто заложил его основание». Кондильяк в этой книге, «отчаянно совершенной по стилю», обнажил самое сокровенное в приёмах гения, щедро раздавал новые идеи, важные наставления, наивные и утончённые, простые и поучительные размышления. Это был лишь пролог к более значительным и трудным трудам: по этому образцу и с этой методой Кондильяк развеял бы хаос, в который злоупотребления и пороки языка ввергли моральные и метафизические науки, превратил бы их неразборчивые жаргоны в прекрасные языки, которые все могли бы легко освоить, ибо даже самые недоступные, на первый взгляд, идеи выходили бы из обыденных понятий без усилия. Его восхищение Кондильяком только усилилось, и произведение, которое он предпочитал, — это Язык исчислений, который он прочёл множество раз и собирался перечитать вновь, будучи уверен, что найдёт в нём всегда новое удовольствие и почерпнёт оттуда всегда новое знание. Ларомигьер, чьи Элементы и Мемуары, по-видимому, имели немного читателей, и который был известен в 1810 году главным образом по изданию трудов Кондильяка и по Парадоксам, в которых он систематически преувеличивал мысли учителя, таким образом мог быть воспринят как верный кондильякианец.
Ларомигьер, который отказался сопровождать Сийеса в Берлин, как это сделал Дону, и не пожелал последовать за Талейраном в министерство иностранных дел, с удовлетворением воспринял 18 брюмера. Он не захотел быть сенатором, вошёл в Трибунат, откуда был устранён вместе с Ж.-Б. Сэем, Б. Констаном, Дону, Шенье, Деренодом и другими; посещал обеды на улице Бак и собрания в Отёе. Став корреспондентом класса истории и древней литературы после упразднения класса моральных и политических наук, он никогда в нём не появлялся. Будучи хранителем библиотеки Пританэ, он вернулся к философии. Дестют де Траси советовался с ним, использовал его идеи и даже с большим остроумием приписывал ему «глубокое знание наших умственных операций». 20 вантоза XIII года (10 марта 1805 года) Кабанис писал Бирану:
«Наш друг Ларомигьер только что опубликовал небольшой труд под названием Парадоксы Кондильяка, в котором он продвинул учение Учителя так далеко по ряду вопросов, что я сам не смог бы последовать за ним до конца; но его сочинение — это шедевр изложения».
Произведение вышло без имени автора: «Это не потому, — говорил Ларомигьер, — что мне нравится скрываться, но мне не нравится выставлять себя напоказ». Язык исчислений не имел большого успеха: он выше или ниже уровня современной эпохи? Это остроумная болтовня, блестящая дедукция парадоксов? Или же самая истинная теория, самый совершенный образец рассуждения? Вместо того чтобы изложить доводы, которые удерживают его в нерешительности, Ларомигьер излагает принципы Кондильяка, доводя их до предела. Потому его убеждённость не всегда равна уверенности его стиля: его ум пребывает в сомнении, тогда как перо утверждает; он усиливает выражение, чтобы парадокс стал более заметным, а ошибка — легче опровержимой, если в парадоксе действительно заключена ошибка.
В первой части Ларомигьер показывает, как Кондильяк стремился вывести математику из своей логики, заново создать язык исчислений, на нескольких страницах, которые «навсегда свидетельствуют о гении их автора и о силе его метода».
Во второй части, или логической части, Ларомигьер резюмирует доктрину Кондильяка. На какие основания опирается эта оригинальная и парадоксальная доктрина? Какие средства убеждения она использует?
Язык исчислений — это произведение чистого рассуждения, и не следует искать в нём методов прикладного искусства, экспериментального подхода, описательного анализа или чего бы то ни было, что сводится к простым ощущениям. Рассуждение по отношению к уму — то же самое, что рычаг неограниченной длины по отношению к руке, или мощный телескоп по отношению к глазу. Рычаги и телескопы духа — это методы, а методы — это языки. Наука есть последовательность рассуждений; рассуждение предполагает множественное суждение, касающееся сложных и общих идей. Сложные идеи предполагают знаки; общие идеи — это лишь обозначения: следовательно, мы можем рассуждать только при помощи знаков. Более того, рассуждение есть перевод, подстановка, преобразование, которые невозможно осуществить без знаков: рассуждение предполагает язык, и искусство рассуждать получило название логики — то есть речи. Если в морали и политике нельзя произвести тех счастливых преобразований, которые в математике позволяют нам перейти от наиболее абстрактных слов к словам, за которыми стоят лишь ощущения или чистые чувства, — в этом повинны пороки языка. При большей простоте, при помощи аналогии можно было бы рассуждать во всех науках так же, как в математике. Язык исчислений обладает аналогией, простотой и строгой определённостью знаков — тремя качествами, составляющими совершенство языка рассуждения. Из этих условий наиболее необходимым является определённость знаков. Но можно определить знаки и без помощи аналогии — во всех науках; следовательно, они тоже могут иметь столь же строгие доказательства, как и алгебра, даже не обладая столь совершенным языком.
Впрочем, в любом рассуждении происходит вычитание, прибавление или подстановка, как в науке о вычислениях: подставляется одно выражение вместо другого, отличного от него, при сохранении той же самой идеи — так же, как в исчислении суммы, разности, произведения, частные являются лишь сокращёнными выражениями, которые подставляют на место других, менее удобных, но содержащих то же самое число или ту же самую идею. Гоббс сказал, что рассуждение есть вычисление, Кондильяк это доказал; но он не свёл два выражения — рассуждение и вычисление — к абсолютной и непосредственной тождественности. Надо было сказать не то, что рассуждение заключается в составлениях и разложениях, а то, что оно заключается в подстановках: тождество слов показало бы тождество идеи.
Поскольку рассуждение не отличается от вычисления, достаточно рассмотреть ход, принятый в науке исчислений, чтобы научиться рассуждать. Переход осуществляется от сложения к умножению. Через частный случай сложения, где частичные суммы равны между собой, мы видим в сложении — умножение: неизвестное оказывается тем же, что и известное. Точно так же в метафизике и в языке Кондильяка: воображение это точка зрения размышления, размышление это точка зрения рассуждения, рассуждение — точка зрения сравнения, сравнение — точка зрения ощущения. Те же соотношения существуют между моральной свободой, волей, желанием и беспокойством, потребностью и ощущением. Но математика это уже сложившаяся наука, тогда как метафизика — наука, которой ещё только предстоит стать таковой. В самом деле, не существует универсально принятого языка у метафизиков; в метафизике невозможно, как в арифметике, точно указать, на каком звене цепи остановились, потому что различные части метафизики не были систематизированы и не восходят к какому-либо единому и общему принципу.
Но, скажут, вы вынуждены говорить о частичной тождественности — неужели ваш язык противоречив или легкомыслен? Тождество бывает полным — в уравнениях, где одна и та же величина выражена двумя различными способами, или в любом утверждении, которое содержит определение; оно частично — когда вторая часть суждения, то есть предикат, лишь обозначает одну из точек зрения на первую часть, на субъект. Легкомыслие было бы уместно только тогда, если бы речь шла о тождестве выражений, а не о тождестве идей. Из наблюдаемой истины, что тепло расширяет все тела, а холод их сжимает, Лавуазье заключает, что в природе нет соприкосновения: эти два положения тождественны, рассуждение при этом вовсе не легковесно. Демонстрировать значит показать, что перед нами одна и та же идея в двух различных формах. Идея, явно присутствующая в основной посылке, уже оказывается слегка завуалированной во втором утверждении; завеса становится плотнее в третьем, в четвёртом — и вскоре операции и рассуждения совершаются лишь с помощью знаков. Когда мы размышляем над этими утверждениями, у нас сохраняется чувство их связи с предыдущими, а также память или уверенность в том, что таким образом они связаны с исходным положением, идея которого, однако, уже перестала быть у нас на виду. «Я только что, — говорит Ларомигьер, завершая вторую часть своего труда, — изложил материалы дела, большого дела. Речь идёт не о каком-то частном интересе, речь идёт об интересах разума. Моя роль окончена, я буду ждать приговора».
В кратком заключении он восхваляет Язык исчислений, которым Европа обязана Франции, а Франция — Кондильяку, чьи столь новые взгляды, столь естественные принципы и столь неожиданные выводы не могут не привлечь внимания здравомыслящих умов и сурового взгляда критики. Изучение языка рассуждения, добавляет он, — это наиболее достойное занятие для существа, чьим высочайшим качеством является способность рассуждать и которое благодаря этой способности может бесконечно приумножать свою интеллектуальную мощь: «Это микроскоп, позволяющий нам увидеть предмет, который по своей малости ускользал от наших чувств; это телескоп, приближающий его, когда он слишком далёк; это призма, разлагающая его, когда мы хотим познать его до самых элементов; это мощный фокусирующий центр увеличительного стекла, сжимающий и собирающий лучи в одной точке; это, наконец, рычаг Архимеда, способный сдвинуть всю планетную систему, когда им управляет рука Коперника или Ньютона».
Когда была создана Императорская университетская система, Ларомигьер, назначенный профессором философии в факультет словесности Парижа, узнал от своего друга Деренода, что философские дисциплины вовсе не входили в программу лицеев. Поражённый возражениями Ларомигьера, Деренод попросил его изложить их письменно и передал их Фонтану, который был ими убеждён.
26 апреля 1811 года Ларомигьер открыл свой курс в факультете словесности речью О языке рассуждения. В ней он объединил направления и доктрины, обозначенные в предыдущих сочинениях. Любитель прекрасного языка утверждает, что следует изучать поэтов и ораторов; идеолог считает, что философский метод, необходимый в науках, столь же нужен и в произведениях чисто эстетического характера; человек, модифицировавший кондильякианство, утверждает, что наши чувственные идеи (а не все идеи) происходят от чувств, что мы учимся смотреть, а не просто видим, учимся слушать, а не просто слышим. Аристотель и Гоббс, Лейбниц и Мальбранш, но особенно Декарт — поставленный значительно выше Бэкона, — помещаются рядом с Кондильяком или чуть ниже, на очень почётном уровне. Как и в Парадоксах, Ларомигьер рассматривает язык не только как средство выражения мысли и формулу для удержания ускользающих идей, но как метод, способный порождать новые идеи. Он усматривает в искусстве мыслить — искусство упорядочивать наши ощущения. Рассматривая рассуждение в духе, до того момента, как начали использовать знаки и приобрели эту привычку, ставшую второй натурой, по которой сегодня мышление является внутренней речью, он видит в нём простое чувство тождества между несколькими суждениями или соотношениями. В речи рассуждение есть выражение последовательности суждений, вложенных друг в друга; переход от известного к неизвестному, связь принципа с его следствием, постоянная синонимия различных выражений, подстановка одних слов другими, более или менее продолжительная цепь тождественных высказываний.
Автор Проекта и Мемуаров обращается к теме, которая должна была быть рассмотрена в десятой книге первого из этих сочинений, и полагает, что Бэкон и Мальбранш могли бы избежать своих учёных изысканий и длинных перечней, если бы они уделили больше внимания влиянию языков. Он говорит о движении органов, первоначально возбуждённом природой, а затем подчинённом воле, которая направляется к объектам и даёт нам первые представления об внимании, управляющем органами чувств и позволяющем обнаружить идею, скрытую и утерянную в ощущении. Ребёнок, лишённый всякой активности, внутренней или внешней, был бы неспособен направить свои чувства, сосредоточить внимание, приобрести какое бы то ни было знание, занять своё место в ряду разумных существ. Идеолог, который уже прояснил сложные вопросы, объяснив смысл слов анализ ощущений и идея, стремится с той же ясностью определить каждый из терминов, входящих в программу, который он должен осуществить. Он настаивает на том, чтобы никогда не использовать слово, лишённое точности или верности. Наконец, он требует, чтобы весь предмет курса был сводим к одной основной идее — к самой идее метода: «С хорошим методом ум поднимается незаметно от одной истины к другой; ведомый аналогией к источнику света, он наконец вкушает невыразимое наслаждение — покоиться в лоне очевидности».
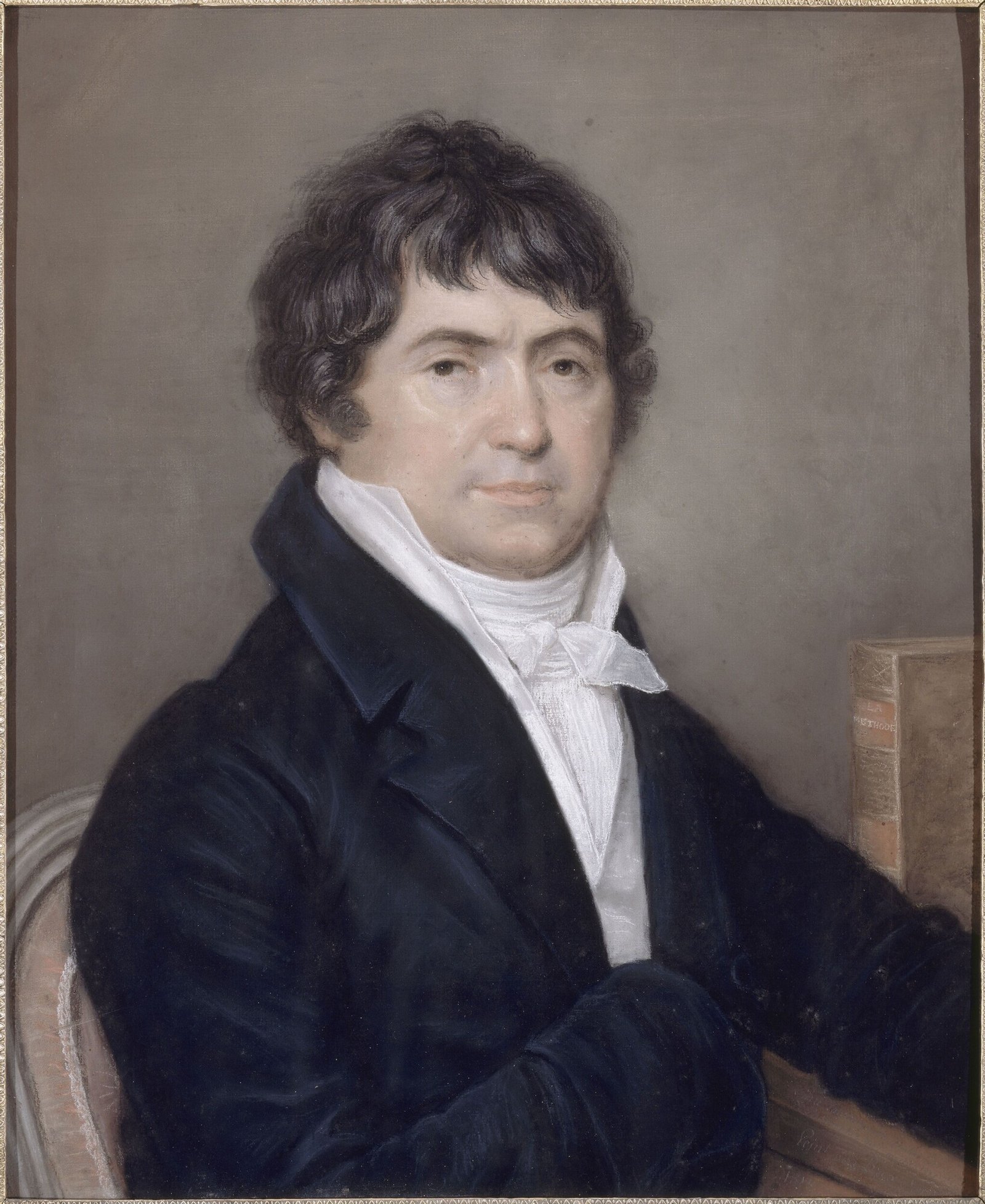
Ларомигьер читал свои лекции в 1811, 1812 и 1813 годах. Сначала они были открыты лишь для небольшого числа учеников, но вскоре стали публичными — и с этой публичностью, как пишет М. Жане, пришли успех и слава. На скамьях школы собиралась не только молодёжь, горячо стремящаяся к учёбе, готовящей счастливую и почтенную жизнь; сюда часто стекались толпы представителей всего, что есть просвещённого и изящного в столице — мужчин и женщин. «Он озарял своими просветлениями, — говорит Минье, — обволакивал рассуждениями, очаровывал своим даром и своими доктринами завоёвывал всё более многочисленных и восхищённых слушателей, которые спешили услышать всё, что исходило из этих уст, золотых, как называл их аббат Сикар». Ларомигьер, «который не любил показываться», сам был вынужден признать этот успех в 1833 году, когда мог уже говорить о своём курсе и своей философии как о «вещах, вошедших в область истории». «Наши лекции, — писал он, — слушали с внимательной доброжелательностью; публика была признательна нам за то, что мы возродили идеи, которые ей слишком долго приходилось игнорировать, и забвение которых повергло бы народы в варварство. Молодёжь не испугалась наших метафизических изысканий: её любопытство придало им привлекательность и своего рода обаяние; даже самый далёкий от этих вопросов слушатель с интересом воспринимал рассказ об ощущениях и движениях своей души; учёные, казалось, ценили некоторые наши новые взгляды на принципы разума; а знаменитый писатель, тогдашний великий магистр Университета, господин де Фонтан, с удовольствием сказал нам, что ему по вкусу простота нашего языка и ясность наших объяснений».
Жуффруа, который не слушал Ларомигьера лично, тем не менее без колебаний ставит его рядом с Руайе-Колларом, как одного из тех, кто воскресил философию XVIII века в языке, отличающемся замечательной ясностью и изяществом, увлёк за собой часть молодёжи, оставил Нормальную школу полной воспоминаний о своих речах и об ardent intérêt, об этом пламенном интересе, который они возбуждали. Дамирон, чьё свидетельство не менее заслуживает доверия, высказывается в том же духе. Виктор Кузен, который впоследствии заменил влияние Ларомигьера, своего первого наставника в философии, собственным, оставил нам наиболее точные сведения об его преподавании. В 1819 году он пишет, что успехи профессора были значительными. А в 1837 году он произносит у могилы Ларомигьера речь, в которой называет себя учеником скончавшегося мастера. Но особенно ярко он выразил впечатление, произведённое курсами 1811 и 1812 годов, в предисловии ко второму изданию Фрагментов. Ларомигьер продолжал традицию Гара, и предшествовал Кузену, Жюлю Симону, Каро — тем, чьи лекции очаровывали слушателей, которых вряд ли привлекали чисто спекулятивные исследования, и пробуждали немало философских призваний. Почему же он отказался от преподавания, которое имело столь явный успех? Навязал ли ему тогдашний режим условия, с которыми его гордость не могла смириться? Или его здоровье потребовало покоя? Лучше придерживаться второй гипотезы.
В 1815 году Ларомигьер опубликовал первую часть своих Философских лекций. Надиктованные бегло и по памяти, они были неполными: в издании не все лекции оказались включёнными. Однако он не мог забыть идеи, которые составляли суть курса, — как он сам отмечал, и даже более справедливо, чем думал, этих идей было слишком мало. Он считал себя более чем вознаграждённым, если проницательные умы усматривали в его труде хотя бы следы метода, если критика находила, что книга способна пробудить или укрепить вкус к истине и простоте. Том включает пятнадцать лекций и посвящён способностям души, рассматриваемым по их природе. В первой лекции речь идёт о методе и предмете философского курса; во второй — о принципе способностей души и о влиянии языка на наши мнения; в третьей — о системе способностей души у Кондильяка; в четвёртой — о собственной системе Ларомигьера; в пятой — о принципах наук. Эта лекция завершается критическим разбором системы Кондильяка, который продолжается и в шестой. Седьмая лекция содержит пояснения относительно метода, его собственной системы способностей, а также по вопросам свободы и внимания; восьмая — разбор возражений, которые могли бы быть ему предъявлены. В девятой и десятой лекциях он показывает, что Кондильяк — спиритуалист, а в одиннадцатой задаётся вопросом: что такое метафизика. О дефинициях говорится в двенадцатой и тринадцатой лекциях; о мнениях философов относительно способностей души — в четырнадцатой; наконец, в последней лекции он задаётся вопросом, достиг ли он какого-либо прогресса с начала философского курса.
В послесловии он сообщает, что во второй части он намерен рассмотреть мыслительную способность в её проявлениях, но что из двух весьма различных точек зрения — одной, касающейся продуктов разума, и другой, касающейся продуктов воли и составляющей предмет морали — он рассмотрит только первую. Он последовательно будет говорить, по его словам: 1° о природе, причинах, происхождении, различных видах и классификации наших идей; 2° об идеях, объектом которых являются реальные существа: тела, душа, Бог; 3° об идеях, объект которых не обладает реальностью или чья реальность оспаривается: субстанции, сущности, возможности, причины, отношения, время, пространство, бесконечное и прочее. «Прекрасных вопросов, — добавлял он, — у нас не будет недостатка; они предлагают больше разнообразия и интереса, чем те, которыми мы занимались до сих пор».
Биран подверг критике этот первый том, чтобы ясно показать, что он больше не имеет ничего общего с идеологами. Совершенно справедливо он замечает, что эти лекции, возможно, не удовлетворят всем потребностям созерцательных умов и не исполнят задачи всеобъемлющей философии. Менее точно, но не без основания он утверждает, что Ларомигьер, присоединив активность к чувствительности, не добавил к доктрине Кондильяка столько, сколько принято считать. Совершенно же несправедливо — и, быть может, вспоминая свой первый Мемуар о привычке, — он почти говорит, что системы Кондильяка и Ларомигьера «способствуют материализму».
Три года спустя после появления первого тома Ларомигьер выпустил второй. Том открывается введением, посвящённым разбору слова философия — предмета, специально рассматриваемого в курсе, а затем, в двенадцати лекциях, излагается учение о разуме, рассматриваемом по его результатам, то есть об идеях. В двух первых лекциях анализируются природа, происхождение и причины наших идей. В третьей автор доказывает, что различным истокам наших идей нельзя придать единое происхождение, и предлагает некоторые размышления о формировании наук. Четвёртая, пятая и шестая лекции содержат уточнения по поводу природы, происхождения и причин наших идей; седьмая — анализ возражений против порядка лекций и против его учения об идеях. Восьмая лекция содержит критику врождённых идей; в девятой идеи чувственные, интеллектуальные и нравственные распределяются по различным классам. Десятая лекция посвящена абстрактным идеям, одиннадцатая — идеям общим; в последней содержатся размышления о предыдущем изложении и указание на вытекающие из него следствия.
Успех писателя, как отмечал Кузен, был равен успеху преподавателя. Дюмурье написал ему, чтобы поздравить с этим. Гара был не менее восторженным. Лекции, переиздававшиеся в 1820, 1822, 1826, 1833, 1844 и 1858 годах и постоянно сопровождавшие изложение истории классической философии, остались канонической книгой в период господства философии Кузена. Они ведут нас к тому самому «философскому кризису», который, с появлением Тэна, Ренана, Литтре, Вашеро и английских философов, вновь пробудил — в университетской среде, а особенно за её пределами — вкус к исследованиям, когда-то начатым друзьями Ларомигьера, менее литературными, менее ортодоксальными, но более оригинальными. Тэн восхищался ими, как и Гара, делая, однако, оговорки, которые могли бы сделать Кабанис или Дестют де Траси.
Довольно удивительно, что автор книги, чьё литературное достоинство было столь широко признано, так и не вошёл во Французскую академию, где состояли его друзья Андриё, Б. Констан, Дестют де Траси и Дроз. Ему дважды предлагали выставить свою кандидатуру. Однажды Б. Констан пришёл к Ларомигьеру и в присутствии Тюро умолял его выставить себя против «кандидата двора и конгрегации». Ларомигьер, как говорят, сначала согласился, но вскоре передумал. В другой раз Кювье сумел убедить его выдвинуться, но и тогда он вскоре отказался. В одном из этих случаев он даже написал вступление к своей речи при вступлении, посвящённое философскому стилю.
Какова же, в сущности, доктрина, изложенная в Лекциях? Сафари и Поль Жане сводят философию Ларомигьера к трём основным пунктам: метод, способности, происхождение идей.
Подобно идеологам, Ларомигьер придаёт первостепенное значение методу. Как и они, он продолжает традицию Декарта, Кондильяка и учёных XVII–XVIII веков. Возвращаясь не только к идеям, но даже дословно к выражениям, употреблённым им в Мемуаре об анализе ощущений, он настоятельно рекомендует прибегать к анализу. Тщательно изучать явления, всё разбирать, всё пересчитывать, всё взвешивать, делить объект, последовательно исследовать все его свойства, уделять внимание мельчайшим обстоятельствам — вот средства, позволяющие открыть истинные отношения между вещами. Если речь идёт об отношениях одновременности, последовательности, сходства, симметрии, которые выявляются при переходе от одного объекта к другому, от одной идеи к другой, — анализ является дескриптивным. Если же речь идёт об отношениях порождения и вывода, если движение идёт «от одного и того же к одному и тому же», от объекта, рассмотренного под одним углом, к тому же объекту, но под новым углом, с целью восхождения к принципу и объединения всех форм в единую систему, тогда речь идёт об анализе рассуждения.
Благодаря своим частым заимствованиям у философов всех школ и у литераторов, благодаря своему эклектизму, Ларомигьер, подобно Дежерандо, является предшественником Кузена. По своим литературным вкусам он близок к Гара, но у него нет той напыщенности, которую он с успехом заменяет «обильной лёгкостью, счастливой естественностью и любезным изяществом». Буало, «поэт разума», помогает ему в размышлениях о рассуждении и в подчеркнутом внимании к вниманию. Одна страница Паскаля представляется ему «воплощением человеческого разума в его совершенстве»; вместе с Паскалем он признаёт, что не знает, как тело воздействует на душу, а душа — на тело; и с Паскалем же он выступает против Канта и его последователей. С любовью он перечитывает стихи Расина — как и Вергилия, Цицерона, Босюэ, Лафонтена, Лабрюйера и всех великих авторов — и только пожимает плечами, когда какой-нибудь романтик сравнивает его с Ронсаром. На примере анализа одной из басен Лафонтена он показывает, что в человеческом разуме следует признавать не более и не менее трёх способностей. Вместе с Мольером он «работает над дефиницией», и мосье Жак оказывается «в абстракции» отличным метафизиком. Рад находить точки соприкосновения между своими мыслями и мыслями Монтескьё, он критикует теории Вольтера и Бюффона, как и теории Бонне. Ведь, по его словам, для того чтобы проникнуть в глубины человеческого сердца и исследовать его сокровенные изгибы, не слишком даже и гения Лабрюйера или Мольера; и можно было бы вполне построить курс философии — или, по меньшей мере, метафизики и логики — на одной странице Буало, одной сцене Расина, одной басне Лафонтена.
Учение о способностях хорошо известно. Будучи силами и средствами действия, они не могут происходить из чувствительности — способности по существу пассивной. Душа, будучи активной, применяет себя к ощущениям, чтобы извлечь из них идеи, и тем самым порождает способности разума; стремясь к тому, что ей приятно, и избегая того, что ей неприятно, она порождает способности воли. Внимание, сравнение и рассуждение — вот три способности разума. Внимание даёт точные и ясные идеи. Сравнение открывает аналогии, связи, соотношения. Рассуждение ведёт от одного соотношения к другому — вплоть до того, с которого всё начинается, то есть к принципам, и, в свою очередь, от принципов к самым отдалённым следствиям. Внимание даёт факты, сравнение даёт отношения, рассуждение даёт системы. Став длительным усилием, внимание находит те счастливые идеи, которые являются признаком гения; благодаря сравнению гений приобретает широту, благодаря рассуждению — глубину. Точно так же желание, или направление всех способностей разума на объект, в котором ощущается потребность, предпочтение и свобода в совокупности составляют волю. Разум и воля составляют мышление, а при их правильном использовании — разумность.
Менее известно то, что эта доктрина из первого тома Лекций представляет собой развитие той, что была изложена в Мемуаре IV года Республики, против которой уже тогда выступал Дестют де Траси, — и что она отражает те модификации, которые Ларомигьер с самого начала вносил в кондильякианство.
Идея, — говорит он в 1818 году, как и в 1796-м, — это «различённое чувство». Чувственная идея имеет своим источником ощущение, а своей причиной внимание, которое осуществляется через органы чувств. Идеи способностей имеют своим источником чувство этих способностей, а своей причиной внимание, осуществляемое независимо от органов. Идеи отношений происходят из чувства соотношения и обусловлены сравнением и рассуждением. Моральные идеи происходят из морального чувства и имеют своей причиной действие всех способностей разума.
Таким образом, философия, изложенная в Лекциях, та же самая, что и в Проекте и Мемуарах. Мысль Ларомигьера изменилась настолько незначительно, что эти два сочинения были почти целиком и дословно перенесены в первые главы Лекций. Следовательно, основная идея Ларомигьера не была навеяна До́бом, и Биран не оказал на его ум никакого влияния.
Более того, письма, преимущественно неизданные, охватывающие период с 1820 по 1837 год, свидетельствуют о том, что Ларомигьер больше ничего не изменял в своей философии, как только находил для неё достаточно точную и ясную форму. В 1819 году он писал Валетту: следует перечитывать сто раз прекрасные страницы, которые встречаются у Бэкона, Паскаля, Мальбранша или Кондильяка; от этого и разум, и вкус получают больше пользы, чем от чтения тысячи страниц какого-нибудь философа, имя которого я не хочу называть. Семью годами позже он говорит Сафари: «Вы умеете писать, а это главное». Аббату Року он пишет, что язык нужно постоянно исправлять, что не нужно быть «ни с Аполлосом, ни с Кифой, но с истиной, если сможем»; и он жалуется, что большинство умов, особенно среди учёных, ненавидит ясность. Если речь идёт о решении философского вопроса, он его переводит, и продолжает переводить, пока в результате этих последовательных переводов не придёт к очевидному положению, которое и есть искомое решение. «До тех пор, — пишет он за два месяца до смерти, — пока астрономы не располагали принципом, небесные явления оставались необъяснимыми… Вселенная это гигантская система… Человек должен систематизировать свои знания… Зёрнышко пшеницы содержит ваши превосходные печенья-гимблетты, а зёрнышко конопли — эту бумагу».
Таким образом, изменения, которым Лекции подвергались в своих последующих изданиях, имели целью лишь довести форму до совершенства и придать сочинению большую систематическую цельность; они не затрагивали его содержания. Сокращения были направлены на то, чтобы сделать книгу самодостаточной и не позволять ей обещать больше, чем она даёт. Изменения подсказывались его учениками. Шабриер пересматривает пятое издание, и Ларомигьер с радостью говорит о своём «Аристархе». Аббат Рок желает, чтобы труд был «безупречным», и удивляется тому, что автор вычеркнул фрагмент о «абсолютном». Перрар полагает, что его «знаменитый учитель преувеличивает значение метода», и Ларомигьер соглашается с ним, говоря, что гений обязан всему, «или почти всему», методу. Даже его противники заставляют его исправить неточные выражения (см. выделенную вставку ниже).
Патрис Ларрок в своём Курсе философии критикует следующую фразу Ларомигьера: «Посредством внимания, которое концентрирует чувствительность в одной точке; посредством сравнения, которое её разделяет и которое не что иное, как двойное внимание; посредством рассуждения, которое разделяет её ещё больше и которое не что иное, как двойное сравнение, — дух становится силой, он действует». Если, — говорит Ларрок, — верно, что концентрировать или делить чувствительность есть дело духа, то кондильякианство выиграло бы своё дело. В то же время он замечает, что эти слова противоречат всей системе в целом. Ларомигьер заменяет чувствительность на активность в издании 1833 года. Точно так же, по мнению Ларрока, Ларомигьер заменяет сугубо кондильякианское определение памяти — «Память есть продукт внимания, или то, что остаётся от ощущения, которое сильно нас затронуло» — на другое, представляющее собой существенную поправку: «Память — это действие, разделённое или объединённое, внимания, сравнения и рассуждения». Ниже приведены некоторые примеры, которые покажут, как Ларомигьер осуществлял, с точки зрения формы, редакторскую переработку Лекций.
| ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ | ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ |
|---|---|
| I. Десятая лекция. Продолжение предыдущей. | I. Десятая лекция. Подтверждение предыдущей лекции. |
| I. Одиннадцатая лекция. Что такое метафизика, или о слове метафизика. | I. Одиннадцатая лекция. Определение метафизики. |
| II. Девятая лекция. Анализ, всегда оставаясь единым по своей сущности, варьируется в своих формах. | II. Девятая лекция. Неизменный по своей сущности, анализ варьируется в своих приложениях и в своих формах в зависимости от объектов, к которым он применяется, и умов, которым предназначено учение. |
| II. стр. 462. К различным типам чувствительности добавьте гений, и в тех, кто ими наделён, предположите одновременно способность долго сохранять внимание, живой вкус к сближению идей, большую силу рассуждения: интеллект, рассматриваемый в его отношении только к философии, поразит вас не менее своими контрастами, чем своим богатством. | II. стр. 368. К каждому из этих различных типов чувствительности прибавьте гений; тем, кто ими наделён, дайте одновременно способность долго сохранять внимание, живой вкус к сближению идей, большую силу рассуждения: интеллект, в своих отношениях исключительно к философии, поразит вас не менее своими контрастами, чем своим богатством. |
У меня в руках экземпляр первого издания. Ларомигьер, который предназначал его «господину Лемару», собственноручно внёс в него основные исправления.
Хронологический разбор этих добавлений позволил бы нам проследить борьбу между последними представителями идеологической школы и их противниками. В тот самый год, когда появляются Фрагменты Кузена, Ларомигьер обратившись против сторонников Канта, которые нападали на Аристотеля, Бэкона, Гоббса, Гассенди, спрашивает их, одобряют ли они у первого то, что порицают у других. И он показывает им, опираясь с большей хитростью, чем доводом, на Виллера, что они преувеличивают Гассенди, Локка, Кондильяка и всех философов, которые придавали наибольшее значение ощущениям. Он уже говорил, что если можно насчитать с десяток, может быть два десятка великих поэтов, то великих метафизиков — едва ли пять или шесть. В ту же эпоху он добавляет в сноске: «Пусть даже меня обвинят в чрезмерной пристрастности, я скажу, что большинство из этого весьма малого числа метафизиков первого ранга принадлежит Франции». В то же время он ссылается на Мальбранша, чтобы «говорить согласно общему мнению», и обращается к «справедливости читателей», прося их не приписывать всякому чувству то, что он говорит о чувстве как ощущении. В 1826 году он просит тех, кто знаком с диспутами по поводу a posteriori и a priori, уделить хотя бы миг внимания той сноске, где он показывает, что система операций есть одновременно и система способностей. В 1833 году он с горечью констатирует, что этого мига внимания ему так и не уделили.
Другие добавления свидетельствуют о всё возрастающей уверенности. Там, где он прежде выступал против ложной доктрины школы Декарта и школы Локка, он теперь добавляет: «и всех школ философии». Он, человек скромный, сравнивает себя с Ньютоном: «До того как призма Ньютона разложила солнечный луч, физика могла лишь прилагать бесплодные усилия, чтобы открыть происхождение цветов. До того как анализ, призма человеческого духа, разложил чувство, метафизика могла лишь блуждать в поисках происхождения идей». Страницы, посвящённые философскому гению, возможно, представляют собой вступление к речи при вступлении во Французскую академию. Речь об идентичности рассуждения была впервые напечатана в Италии в 1820 году. И, наконец, заключение, добавленное ко всему сочинению, вновь отсылает к Мемуару IV года Республики.
В 1825 году Ларомигьер выпускает новое издание Парадоксов Кондильяка, в котором можно было бы отметить аналогичные правки. Он часто отсылает к этому последнему труду, тем самым показывая, что в 1811 году он принял и в значительной степени сохранил как истины то, что сам же в 1805 году назвал Парадоксами Кондильяка. Он скончался в 1837 году, оставив после себя переписку и рукописи, быть может, более интересные, чем сочинения, в которых его мысль предстает перед нами в более совершенной, но менее спонтанной форме.
— IV —
Ларомигьеризм; итальянские философы; французская эклектика; Теста; Перрар; Арман Марра; аббат Рок; Кардайяк; Валетт; де Шабрие; Гибон; Сафари; Тиссо, Лам и Роберт.
Мы перечислили многочисленные причины успеха философии, получившей популярность благодаря Лекциям. Сформировалась не просто школа Ларомигьера, в ней были представители весьма разного уровня: До́б, Перрар, Кардайак, Валетт, Сафари, Жибон, аббат Рок, де Шабриер, Лам и Арман Марра, но его учение распространилось и за пределами Франции. Даже во Франции оно оказало значительное влияние на тех, кто, будь то союзники или противники, стремился его вытеснить; оно стало отправной точкой для тех, кто вновь возвёл в достоинство метод и исследования идеологов.
Англия, Шотландия и Америка находились под влиянием Дестюта де Траси. Германия, если не считать Шопенгауэра — столь «недо-немецкого», как только возможно, — главным образом знала Дежерандо, но почти исключительно была сосредоточена на великом литературном, философском и научном движении, которое с 1800 по 1850 год дало в ней столь поразительные результаты. Оставалась Италия. Философия Кондильяка перешла от двора к учебным заведениям; север страны был завоёван Локком благодаря отцу Соаве (Soave), переводчику Резюме Уинна по Опытy о человеческом разумении. Философия в Италии шла тем же путём, что и во Франции. Соаве, подобно Декаде, критиковал Канта в интерпретации Виллера. Галуппи, как и Дестют де Траси, выступал против версии Канта у Кинкера. Борелли, под псевдонимом Лальбаск (Lallebasque), пытался, подобно Бонне и Кабанису, физиологически объяснить порождение идей. Труды Дестюта де Траси переводились на итальянский язык, и Стендаль — на языке страны, ставшей ему столь близкой — цитировал философа, которым восхищался больше всех. Шевалье Боццелли (Francesco Paolo Bozzelli) в своих Опытах о первичных связях между философией и моралью (1828) представлял Локка, Кондильяка и Дестюта де Траси как философов, «которые последовательно сменяли друг друга как бы нарочно, чтобы один дополнял другого, всё теснее связывая анализ и последовательность фактов, чтобы ошибка, ускользнувшая от внимания одного, была настигнута другим вплоть до самых её последних убежищ». Эти трое, добавлял он, — три светила в истории человеческого духа, они освещают путь к истине и не позволяют больше никому блуждать во мгле гипотез. Он сближал Кабаниса и Бирана, защищал Дестюта де Траси от Дежерандо и, одобряя Сен-Ламбера и Франклина, видел в морали лишь совокупность тонких, быстрых, ярких вычислений, происхождение которых теряется вместе с происхождением самого суждения.
В течение долгого времени восхищение великими идеологами оставалось в Италии весьма живым. Джоберти, который надеялся, что настанет день, «когда над сенсуалистами будут смеяться, как сегодня смеются над системой Птолемея», писал в 1833 году: «Большинство наших молодых людей всё ещё остаются сенсуалистами, потому что у них в руках только Кондильяк, Траси и Кабанис, и они по-прежнему придерживаются того, что думали во Франции тридцать лет назад». Но и в Италии, как и во Франции, сторонники философии XVIII века склонялись скорее к тому из идеологов, который в политическом и религиозном отношении был наименее уязвим для критики. Боццелли упоминал «Ларомигьера, философа столь же изобретательного, сколь и глубокого». Джойя и Романьози, ученики колледжа Альберони в Парме, перенесли доктрину Кондильяка в сферу политической экономии и законодательства. Последний даже защищал Кондильяка таким образом, что, читая его, можно было бы принять его за Тюро. Но он не был последовательным кондильякианцем: «Я никогда не говорил, — писал он, — и никогда не скажу, что наш разум подчиняется законам, независимым от нашей чувственной способности». Как превосходно показал Луи Ферри, его доктрина — это скорее философия опыта, чем ощущения, и он придаёт активности души значительно большее значение. К тому времени Ларомигьер уже считался в Италии, как и во Франции, одним из «классических метафизиков». Новати перевёл в 1820 году Лекции, затем Речь об идентичности рассуждения (которая впервые вышла в Италии, прежде чем быть напечатанной по-французски), и, наконец, Парадоксы Кондильяка. Галуппи, влияние которого сменило влияние Романьози и которого сравнивают с Ампером, уже считал недостаточной «ту реформу, посредством которой Ларомигьер подменяет ощущение более широкой основой чувства»; но он сам выводит идеи из чувства и размышления. Розмини с надменностью, с гневом и всеми возможными средствами борется против сенсуалистов — Кондильяка и Д’Аламбера, Кабаниса, Дестюта де Траси, Ларомигьера и Романьози. В Новом опыте об истоке идей (1830) он хочет «восстановить порядок в умах, потревоженных и расстроенных доктринами, которые распространили повсюду писатели Революции». Мамьяни (Mamiani) в 1834 году защищает философию опыта как подлинно национальную доктрину, и в одном прелестном письме к Розмини изображает «рыцаря, живущего в старом и мощном замке, впервые построенном Протагором и недавно укреплённом новыми палисадами и бастионами — Юмом и Кантом, обладающего чудесной силой, подобного Ферранту из Ариостовской эпопеи, рыцаря, который мало верит в Бога и демонов и не имеет иной страсти, кроме как всё опровергать. Этот рыцарь зовётся скептицизмом, и когда философские системы приближаются к мосту, прося пропустить их именем разума, этот беспощадный рыцарь выходит им навстречу и вызывает на бой. Я не могу сказать, скольких он уже сбросил с седла и утопил в реке».
Теста, учившийся в колледже Альберони после Романьози и Джойи, также защищал философию опыта против Розмини. Он вдохновлялся Тюрго, Дестютом де Траси и его теорией, основанной на чувстве сопротивления, а также Романьози и Ларомигьером. Наконец, Джоберти, видевший сенсуализм даже у Декарта, отнёсся к Розмини ещё более резко, чем тот к сенсуалистам: «Джоберти, — говорит г-н Луи Ферри, — представляет систему Розмини то как замаскированный сенсуализм, то как ничем не ограниченный идеализм. Нет такой ошибки и, можно сказать, такой чудовищности, которую бы он ни находил в ней: пантеизм, атеизм, аморализм, все заблуждения и все пороки, по его мнению, проистекают из этого отравленного источника». Не кажется ли нам, что мы снова видим Кузена, обвиняемого в пантеизме, атеизме, материализме, хотя он сам боролся с сенсуализмом, выводя из него «следствия»? Так философия XVIII века окончательно умирает в Италии. И лишь труды Конта, но особенно Спенсера, Дарвина, а также Шарко (Charcot), вновь приведут к союзу философии и науки.
Джоберти не был более снисходителен к Кузену, чем к Розмини, Декарту или сенсуалистам. И это вполне понятно, если вспомнить, что сам Кузен и его ученики в ряде пунктов продолжали линии, восходящие к Ларомигьеру и его предшественникам. Кузен у него это продолжатель Кабаниса, Форьеля, Ампера, Бирана и Дежерандо. В 1813 году он написал тезис, частично вдохновлённый партией кондильяковцев, но вскоре «без возврата и без оговорок посвятил всю свою жизнь осуществлению философской реформы, начатой Руайе-Колларом». Вслед за Бираном он критиковал Лекции Ларомигьера, которые, намереваясь отойти от Кондильяка, тем не менее сохраняли «тайную, но прочную связь ученика с учителем». Однако Дамирон, который сначала поместил Ларомигьера среди сенсуалистов, позднее причислил его к эклектикам. Кузен, став во Франции главой философского преподавания и подвергшийся нападкам за свой якобы пантеизм и приверженность иностранным доктринам, признал себя уже не только учеником Руайе-Коллара и Бирана, но и Ларомигьера. И Поль Жане показал, что между двумя школами (биранистской и ларомигьеровской) в это время возник альянс: Жуффруа и Ларомигьер, под председательством Кузена, составили вместе программу философского преподавания. Окончательный спиритуализм Кузена удивительно сближается с тем, который исповедовал Ларомигьер.
Жуффруа, — говорил Кузен, — был у нас подлинным наследником Ларомигьера. Сафари, полемизируя с Кузеном, не раз дополняет Ларомигьера при помощи Жуффруа. Поступив в Эколь Нормаль, последний застал её ещё насыщенной воспоминаниями о Ларомигьере и Руайе-Колларе. На третьем году обучения ему поручили повторять лекции Тюро на факультете. Позднее он стал преемником Тюро в Коллеж де Франс; затем на факультете и в университетской библиотеке стал преемником Ларомигьера. Если перечитать предисловие к Эскизам моральной философии, к Сочинениям Рида, статьи Об организации философских наук, О легитимности различия между психологией и физиологией; если принять во внимание столь различный дух, каким, как показали Сент-Бёв и А. Гарнье, отличались Кузен и Жуффруа, и если вспомнить сказанное выше об аналогии между некоторыми шотландскими и некоторыми идеологическими доктринами, то несложно будет согласиться с оценкой Тиссо: «Жуффруа это продолжатель и популяризатор экспериментальной философии Ларомигьера и шотландцев, с устремлениями, которые у него были делом веры или врождённого убеждения, у Ларомигьера более определённым философским убеждением, а у шотландцев чисто человеческим инстинктом, без особой надежды, что он когда-либо будет подтверждён светом размышляющего разума». Возможно, к Ларомигьеру стоило бы прибавить также Тюро и Дежерандо.
Де Ремюза критиковал Дестюта де Траси и Кабаниса как таких противников, в отношении которых невозможно сохранять беспристрастность, поскольку распространение их доктрин представляется опасным. Однако, возможно, именно под влиянием Кабаниса возник труд о неизвестных способностях (facultés inconnues), который, как справедливо замечено, сближается с современными теориями бессознательного. Бесспорно одно: он [Де Ремюза] приобрёл вкус к философии и привычку применять в личных размышлениях аналитические приёмы, рекомендованные в экспериментальной школе, — благодаря Ферко, другу Ларомигьера и профессору лицея Наполеона. Наконец, мы уже видели, что Поль Жане иногда обобщал идеи Кабаниса, Ларомигьера и Дону. Будучи учеником Жибона, «чей Курс весьма основательный, насыщенный и содержит немало здравых и оригинальных идей, которые нелегко найти в других местах», он так же обобщал, применительно к особым связям между мышлением и языком, учёные и глубокие анализы Кондильяка, Дежерандо, Дестюта де Траси, Бирана и Кардайяка.
Перейдём теперь к тем, кто ссылается на Ларомигьера и более или менее точно воспроизводит его доктрину. «Опыт идеологии» До́ба, представляющий собой введение в общую грамматику, любопытен по нескольким причинам. Эпиграф заимствован у святого Августина. Автор, питая к Локку, Бонне и Кондильяку всё то уважение и признательность, которых заслуживают их великие дарования и заслуги перед наукой, которой он сам занимается, нередко критикует их — порой без полного понимания — и при этом выражает живое восхищение Мальбраншем. Будучи другом Ларомигьера, он обязан его Проекту элементов метафизики, их беседам и чтению некоторых рукописей вкусом к метафизике и тем немногим здравым идеям, которые имеются в его сочинении, как и тем, что именно лекции Ларомигьера дали первое развитие его рассудку. Тем не менее он его оспаривает, и Поль Жане полагал, что ученик всё же оказал влияние на учителя. Но философская доктрина Ларомигьера уже была сформирована в ту пору, когда он преподавал в Тулузе, и если впоследствии он временами менял форму изложения, суть оставалась прежней. Возможно, Доб, но только после Дестюта де Траси, побудил Ларомигьера изменить некоторые выражения; но уж точно он не был тем, кто научил его различать активность и пассивность.
Перрар, бывший преподаватель колледжа в Маконе и адвокат при королевском суде в Париже, находился в тесной дружбе с Ларомигьером. В 1827 году он опубликовал Классическую логику, по меньшей мере треть которой заимствована дословно из Лекций. Ниже Ларомигьера он ставит Кондильяка, которого, однако, часто цитирует, равно как и Вольтера, у которого заимствует идею врождённости моральных чувств. Он, пожалуй, принял бы систему Дестюта де Траси, если бы в ней всё не сводилось к строго понимаемому ощущению; в то же время он выступает против Кабаниса, ссылаясь на Берара, чтобы предостеречь молодёжь от материализма. Напротив, он защищает Ларомигьера от Кузена, которого называет всего лишь «критиком», опираясь на Сагессу, на Паскаля и на Ж. Кювье.
Всем известно, что после Карреля Арман Марра́ был самым выдающимся редактором газеты Le National (в 1818 году), затем — популярным мэром Парижа и многократно переизбиравшимся президентом Национального собрания. Однако очень немногие, даже среди тех, кто, как Жюль Симон, казались бы неспособными этого не знать, осведомлены о том, что он был страстным и убеждённым идеологом. Между тем это несомненный факт. В конце 1826 года, получив лиценциат по литературе, он представил диссертацию на степень доктора на философском факультете Парижского университета. Во французской части диссертации он ставил вопрос: кому принадлежит главная заслуга в формировании и совершенствовании французского языка — поэтам или прозаикам? — и высказывался в пользу последних, подчёркивая, что французская классика пользовалась языком как «инструментом анализа» и что новая эра началась с Корнеля и Декарта. Латинская часть диссертации была посвящена истине и адресована Ларомигьеру: «doctissimo, sapientissimo viro, aetatisque nostrae philosophorum principi» («самому учёному, мудрейшему человеку, первому среди философов нашего времени»). В ней Марра ссылается не только на Декарта и Мальбранша, но и на Кондильяка, а особенно на Дестюта де Траси и Ларомигьера, которых он считает самыми влиятельными философами своего времени (potentissimi aetatis nostrae philosophi). Вслед за латинским текстом следует примечание по-французски: «Большая часть этой диссертации была посвящена опровержению возражений, которые могут быть выдвинуты против наших принципов. Эти возражения особенно ярко представлены в одном недавно опубликованном сочинении, важность которого усугублялась высокими должностями, которые занимал его автор в системе народного просвещения. Так как с момента печати нашей диссертации эти функции были им оставлены, мы были вынуждены удалить всё, что могло бы носить характер личной атаки». Таким образом, Марра встал на защиту школы ещё до Тюро, Бруссе, Дону, Андриё и Валетта. Наконец, в своём Похвальном слове Гара, в котором он превозносил его превосходство над Сен-Мартеном, «неким предвосхитившим эклектиком», Марра также с похвалой отзывался о Кабанисе и Бруссе.
Аббат Рок, профессор философии в колледже Альби, в 1827 году написал Ларомигьеру, чтобы выразить ему своё восхищение, и получил в ответ весьма ободряющее письмо. Неизвестно, участвовал ли он в 1840 году в кампании против эклектизма, но в 1860 году он опубликовал два полемических тома, которые оказали определённое влияние на «ларомигьеристское» движение, развернувшееся вскоре после этого — движение, вызванное в первую очередь деятельностью Тиссо и де Шабрие. В ту пору он вступил в переписку с последним, который не раз упрекал его за недостаток веры в окончательный успех Leçons de philosophie Ларомигьера. Жермен Кроз (Germain Crozes) издал в четырёх томах Курс философии аббата Рока. Месье Эггер находит его замечательным, а Рибо — любопытным: «Автор, начавший своё образование в начале века, остался верен идеям, господствовавшим в 1810 году. Он постоянно говорит о г-не Кузене как о новаторе, как об отважном мыслителе, чьи дерзкие утверждения оцениваются с точки зрения классической философии… времён Ларомигьера». Действительно, труд Рока уже невозможно понять после Дарвина, Спенсера, Бейна, Льюиса, Рибо и Тэна. Он имеет смысл только если его рассматривать рядом с Leçons Ларомигьера и Études élémentaires Кардайяка.
Кардайяк был недавно возвращён вниманию читателей Виткором Эггером, который последовательно изложил его взгляды на внутреннюю речь. Его также упомянул Балле (Ballet) но ни один из них не восстановил его философский контекст, не поместив его, как это сделал Поль Жане, в один ряд с Дестютом де Траси, Дежерандо, Ларомигьером, Бираном, мыслителями, которым Кардайяк многим обязан и чьи исследования о языке и знаках он просто продолжил.
Профессор философии в Коллеж Бурбон, Кардайяк заменял Ларомигьера с 1824 по 1829 год и не считал, что при этом понижает уровень курса, уделяя внимание почти исключительно тому, что наука предлагает в самом элементарном виде. В 1829 году, в то время когда «рационалистические доктрины, проповедуемые с красноречием, казались единственными, которые находили отклик у молодежи», лекции Кардайяка, направленные против идеализма, всё ещё привлекали больше слушателей, чем можно было бы ожидать. Эти лекции были записаны Бурсом, одним из его слушателей и друзей, которому он передал свои записи; отредактированные профессором, они стали Элементарными исследованиями по философии (Études élémentaires de philosophie). Кардайяк отходит от идеологов из-за отсутствия согласия между их доктринами и слабого одобрения, которое они получили. Он посвящает целый раздел опровержению материалистов и утверждению духовности души. Если он, вопреки Ларомигьеру, настаивает на том, что общие и абстрактные идеи — это не просто обозначения, то потому, что номинализм ведёт к материализму Бруссе. Тем не менее, он отводит место физиологии, при условии, что из влияния физического на моральное не будет делаться вывод об идентичности этих двух начал. Он полемизирует с утверждениями Ламеннэ, Жозефа де Местра и Мальбранша, но также и с утверждениями Кузена — «красноречивого профессора самого отвлечённого идеализма». Особенно же он опирается на Ларомигьера, остроумного и глубокого автора Leçons, но заимствует всё ценное повсюду, где бы оно ни находилось: у Порталиса он заимствует формулу, согласно которой речь есть воплощение мысли; у святого Фомы — ту, согласно которой душа создаётся в момент, когда органы достаточно развиты, чтобы исполнять свои функции (creando infunditur, infundendo creatur); у Биша — различие между двигательными органами и органом речевым. При всём этом он не называет себя ни спиритуалистом, ни сенсуалистом, ни рационалистом, ни эмпириком, ни эклектиком, не определив предварительно на свой лад, что следует понимать под этими словами, и оставляя за собой право мыслить самостоятельно. Область философии становится всё более ограниченной: будь то логика, мораль, теология, онтология или психология — всегда речь идёт о человеке и только о нём одном. Наука, понимаемая таким образом, доступна каждому; каждый приходит к ней с уже готовыми представлениями — вот почему она так мало продвинулась вперёд.
Став после 1830 года инспектором Парижской академии, Кардайяк так и не издал Трактат о методах, который ранее анонсировал. Его Элементарные исследования (Études élémentaires), при появлении встреченные как одно из самых выдающихся сочинений, опубликованных во Франции со времени Leçons Ларомигьера, были впоследствии высоко оценены Гибоном, Гамильтоном и Стюартом Миллем, а затем также г-нами Полем Жане, Эггером и Бале.
После Кардайяка преемником Ларомигьера стал Валетт. Получив степень доктора литературы в 1819 году с двумя диссертациями (De Libertate и Об эпопее), первая из которых воспроизводит Leçons, а вторая представляет нам Аристотеля, который, по примеру Ларомигьера, неизменно восходит к первопринципу, чтобы осветить самые отдалённые следствия, он был назначен агреже-заместителем по инициативе Руайе-Коллара. В 1820 году Кювье поручает ему кафедру философии в недавно открытом коллеже д’Аркур. В 1822 году он произносит на вручении наград речь О преподавании философии. Латинская диссертация тогда ставилась выше французской; из пятидесяти вопросов, предложенных кандидатам на степень бакалавра и на конкурс, сорок девять были заимствованы из Лионской философии, и лишь один, по теме ассоциации, — у шотландцев; преподавание философии повсеместно поручалось духовным лицам. Валетт показывает, что изучение философии не является ни бесполезным, ни вредным. С одной стороны, он утверждает, ссылаясь на Фрейсину, что философия изучает чудеса природы, чтобы лучше познать их Творца и проникнуть в замыслы Его Провидения; чтобы различить в нас две субстанции и доказать с неотразимой силой, что одна из них — свободная, способная к заслуге и вине — предназначена к будущей жизни, к надежде добродетельных и страху нечестивых; чтобы укрепить в юношестве спасительные догматы, без которых невозможно никакое общество. С другой стороны, опираясь на Ларомигьера, он утверждает, что сборник хорошо проведённых наблюдений над нашими различными способами чувствовать и мыслить является могущественной опорой для красноречия, поэзии и искусств воображения.
В 1827 году Валетт входит в состав жюри по агрегации вместе с аббатами Дабюроном и Бюрнье-Фонтанелем, с Ларомигьером и с Буссоном, профессором коллежа Шарлемань. В следующем году он публикует в журнале Lycée статьи о Leçons Кузена, которые позже объединяет в отдельный том после выхода Введения в историю философии. В это время уже существует «школа Ларомигьера». Валетт к ней принадлежит: он исходит из фактов и применяет экспериментальный метод; однако он ещё более ограничивает уже суженное поле философии, сближая её с обыденными, тривиальными понятиями. Он обращается за поддержкой к Дону, Порталису, Бруссе (за вычетом его материализма), и к Трактату о системах, чтобы противопоставить их Канту и Кузену. Последнего он упрекает не только в оскорбительных и неточных выражениях, но и в назидательной и расплывчатой доктрине, в необоснованных утверждениях, в общих фразах; он опасается, что Кузен лишь терзает бесплодные абстракции и довольствуется словами, «овеществляя мысли, по сути духовные, с помощью воображения, щедрого на образы». Именно в следующем году Валетт заменяет Ларомигьера. После того как он воздал хвалу Людовику XVIII — «который захотел сказать через Хартию, что права народов проистекают из того же источника, что и права королей» — он объявляет себя учеником Декарта: он сомневался, «но сомнение никогда не затрагивало тех убеждений, которые должны быть дороги каждой душе». Изучать разум, прослеживать его развитие с детства индивида, отмечая метаморфозы, которым он подвергается в различные периоды жизни, чтобы затем читать, как открытую книгу, историю человеческого рода; чтобы объяснить верования, которые поочерёдно господствовали, затем страсти, их вдохновлявшие, и, наконец, перипетии жизни индивида, народа, всего человечества; чтобы понять, что мы должны делать, чтобы превзойти наших отцов, — вот что он ставит своей целью в преподавании, которое ему поручено. XVIII век сделал повсеместным стремление к ясности и взаимопониманию. Философия Кондильяка, которую считают столь бедной и поверхностной, тем не менее способствует значительным успехам юношества в поиске истины. Школа Кондильяка и Локка всё ещё остаётся школой большинства; шотландская школа так и не стала французской, тем более Кант, несмотря на усилия Кузена и эклектиков, которые, в согласии с традиционалистами, обвиняют школу Локка и Кондильяка в том, что она ведёт к материализму, фатализму и эгоизму.
У нас сохранилась также Вступительная речь Валетта 1830 года. После того как он воспел Революцию, открывающую новую эру, он без всякой оригинальности пытается определить элементы, составляющие свободу человека или гражданина, и средства её совершенствования в нравственном, гражданском и политическом порядке. Аналогичным образом можно судить и о его речи 1835 года, в которой Валетт призывает философов быть немного более снисходительными друг к другу и остерегаться того, чтобы понимать философские доктрины через призму немногих категорий, названия которых создают ложные представления или не передают точно природу этих учений, поскольку сами их авторы воспринимают эти наименования как оскорбление. После смерти Ларомигьера Валетт, выдвинутый в первую очередь Академическим советом, а во вторую — Факультетом, был обойдён при назначении на должность в пользу Жуффруа. Столь же неудачным оказался он и при добавочном назначении: был выбран Дамирон. В 1842 году, после смерти Жуффруа, Валетт обратился к профессорам с письмом, в котором просил, «чтобы двери Факультета вновь открылись для одного из любимых учеников Ларомигьера и для одной из двух великих философских школ, которые всегда стремились примирить права разума с авторитетом опыта». Он уже давно трудился над тем, чтобы свести в одно сочинение по меньшей мере десять томов лекций, прочитанных им на Факультете, но двигаться быстро невозможно, когда был посвящён Ларомигьером «в тайну и во все трудности искусства писать о метафизике». Впрочем, Ларомигьер сам начал писать лишь после пятидесяти лет и только после того, как прекратил преподавать; Руайе-Коллар за всё время своего преподавания напечатал только одну лекцию. К письму Валетт приложил краткий обзор взглядов Ларомигьера на будущее науки и несколько замечаний о текущем состоянии философских кафедр. Три кафедры философии в Парижском факультете, — писал он, — заняты отцом эклектизма или его учениками. И всё же, добавлял он, намекая на Кузена, на ту поспешность, с которой все стремятся объявить себя его учениками и друзьями, на ту самоотверженность, с которой почти хотят зависеть от него, — всё это наводит на мысль, что происходит реакция в пользу его философии. После смерти Жуффруа Дамирон занял его место, Гарнье был назначен помощником на кафедру истории новейшей философии. Валетт опубликовал своё письмо.
Победоносный эклектизм, в свою очередь, подвергался нападкам за «последствия, вытекавшие из его доктрин». Джоберти, Маре и многие другие, за которыми последовала значительная часть духовенства, обвиняли его в пантеизме и враждебности по отношению к религии. Ученые Ларомигьера присоединились к противникам Кузена, которые, впрочем, отнюдь не все были защитниками католицизма.
В ту эпоху, когда борьба, до того времени носившая школьный характер (со смерти Бруссе и Дону), приобрела политическую окраску, ещё оставались трое профессоров философии в Париже — Валетт, Сафари и Гибон, — открыто признававших себя последователями Ларомигьера. Г-н де Шабрье, генеральный директор Архивов, а позднее сенатор Второй империи, с ранних лет находился в отношениях с Ларомигьером. Его попросили дать заключение по поводу переиздания Leçons, и он стал душеприказчиком Ларомигьера, унаследовал его рукописи, записи и важные части переписки. Более тридцати лет он оставался апостолом ларомигьеризма. В 1841 году Вильмен предложил королю принять сумму в полторы тысячи франков, предназначенную в качестве премии победителю конкурса по Leçons. Этот щедрый дар, сделанный лицом, пожелавшим остаться неизвестным (а именно — де Шабрье), имел целью «вывести на свет и обеспечить должную оценку сочинению, справедливо уважаемому и чьи доктрины занимают выдающееся место в современной философии».
Состоялся первый конкурс, жюри которого составили Жуффруа (после его смерти заменённый Дежерандо), де Кардайяк, Дамирон, Вашеро и Гарнье. Второй конкурс был оценён жюри в составе Дро, де Кардайяка, Гарнье, а также господ Вacherot и Равайссона. Через тринадцать дней де Шабрье поздравляет Сафари, и советует ему использовать полторы тысячи франков на новое издание, которое обеспечит «более широкое распространение Leçons». Он виделся с Вильменом, и в нём вновь пробудилась былая дружба к нему, когда услышал, как тот говорит о Сафари, о Ларомигьере и о благе, которое может быть принесено в данной ситуации. Ему удалось получить подписку на двести экземпляров шестого издания. Кузен произносит великолепную хвалебную речь в честь Leçons в Академии моральных и политических наук и даже говорит о де Шабрье, не называя его по имени, как о «возвышенной душе, стойком и твёрдом уме, изящном перe». Но де Шабрье так и не простил ему того, что он выступал против Ларомигьера. Кузен остаётся для него «пышным изготовителем бессмыслицы, чьё владычество — лишь один сплошной крах». Он горячо приветствует кампанию, которую ведут Гибон, Валетт и Сафари.
Мы уже упоминали Гибона, чей Курс философии вышел в 1842 году. Не исключая ни психологию, ни логику, Гибон придаёт гораздо большее значение теодицее и морали, чем это обычно бывает в преподавании. История философии исключена, потому что, по его мнению, тем, кто хочет её изучать, не недостаёт источников. Именно в этом исключении, как и в значительном месте, отведённом теодицее, во многом заключается оригинальность Гибона; при этом он не претендует на сами идеи, а лишь на их комбинацию. Никто не заслуживает звания эклектика больше, чем он. Будучи довольно суров к знаменитому писателю, который «возвёл себя в вождя французской философии», он критикует кузеновскую доктрину свободы как странную, расплывчатую, ложную и риторическую, осуждает поверхностные воззрения Кузена и его учеников на метод, однако принимает его выводы о Локке и даже применяет их к Ларомигьеру. Часто он опирается на Жуффруа, иногда — на Дамирона. К оптимизму Лейбница он присоединяет идею прогрессирующей совершенствуемости человека у Кондорсе. Рядом с критикой Кондильяка или с цитатой из Жюля Рейнона он помещает похвалу силлогизму, «великолепному инструменту, несомненно полезному в науке». Он решительно выступает против атеизма, который ведёт к материализму и уничтожает свободу, добродетель и порок, но в то же время считает необходимым при изучении человека придавать большое значение физической составляющей. К этому добавляются прекрасные отрывки, напоминающие Стюарта Милля, утверждавшего, что следует оставлять некоторые вопросы открытыми, или господина Поля Жане, полемизирующего с эпикурейской теорией происхождения мира. Он ценит шотландцев и высоко ставит любезного, учёного и остроумного Ларомигьера, достойного уважения Кардайяка и даже Лерминье.
Сафари с ранних лет был учеником и другом Ларомигьера. Письма, которые нам любезно предоставили, показывают, насколько обаятелен был Ларомигьер и как высоко он ценил Сафари. В 1826 году он присылает ему четвёртое издание своих Leçons и указывает на внесённые изменения и дополнения. Затем он ободряет его в намерении составить Руководство, «которое принесёт пользу прилежной молодёжи». Сафари сочиняет небольшое стихотворение — Житель Канталя у подножия Пиренеев, которое получает награду Академии Цветочных Игр. Он отправляет его Ларомигьеру, «которому оно доставило приятный момент». В ответ тот даёт ему рекомендации по темам, которые можно будет представить на защите в Факультете. Сафари завершает сокращённое изложение Leçons для своих учеников. Ларомигьер побуждает его опубликовать этот конспект и сообщает, что все, кому он его показывал, включая Марра, были «чрезвычайно довольны». Сафари работает над его доработкой. В октябре 1827 года он назначается в парижский колледж Бурбон, становится другом Марра и публикует Аналитическое эссе метафизики, которое охватывало бы принципы, формирование и достоверность наших знаний в духе системы г-на Ларомигьера, чьи Leçons были им изложены в краткой форме.
Книга была хорошо принята: журнал Lycée заявил, что г-н Сафари заслуживает быть отмеченным «среди многочисленных учеников Ларомигьера». В конце того же года ученик Сафари получает первый приз на общем конкурсе. Ларомигьер поздравляет его от своего имени и от имени Марра. Ещё дважды ученики Сафари получали награды, и их наставник, «в соответствии с тогдашней практикой», как пишет Lycée, был награждён орденом и стал штатным преподавателем на кафедре колледжа Бурбон. Сафари с большим неудовольствием наблюдал, как эклектизм вытесняет философию Ларомигьера из классического образования. В 1843 году он принимает участие во втором конкурсе по Leçons, получает премию и отказывается от полторы тысячи франков в пользу шестого издания.
В 1844 году в политическом мире разразились бурные протесты против университетского преподавания. Валетт, Гибон и Сафари защищали «перед Комиссией по народному образованию дело преподавания философии, оказавшееся под угрозой из-за того, что это преподавание оказалось воплощено в одном-единственном человеке, а все философские доктрины — отождествлены с одной, которая, справедливо или нет, навлекла бурю на Университет, бурю, от которой теперь пытаются отгородиться, как громоотводом». Подвергнутые резкой атаке со стороны Revue de Paris, трое профессоров направили в журнал опровержение, которое тот опубликовал лишь после судебного приговора. Им с трудом удалось добиться, чтобы их не принимали за иезуитов. Когда борьба утихла, Сафари издал труд Эклектическая школа и французская школа, с эпиграфом, ясно выражавшим его надежды: Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque quae nunc sunt in honore («Многое возродится из того, что пало, и падёт то, что ныне в чести»). Посвящённая памяти «его славного учителя и досточтимого друга», книга — хорошо построенная и ясно написанная — имела целью показать, что духовенство, отделённое от иезуитов, и Университет, отделённый от эклектиков, могли бы составить плодотворный союз. В Предисловии, написанном с чрезвычайной остротой, Сафари нападает на Кузена и эклектизм. Затем следует глава Эклектическая школа, где Сафари критикует Кузена не без проницательности и обоснованности, хотя, возможно, и не вполне беспристрастно. Наконец, в главе Французская школа Сафари исследует Кондильяка, а особенно Ларомигьера, которого защищает от критики Бирана и Кузена — как философа, как писателя, как человека. Он дополняет его учение, различая два аспекта чувства: аффективный и перцептивный. Его приёмная семья, говорит он в заключение, сумеет отстоять «наследие его идей и память о его добродетелях».
Тем не менее, Сафари, по-видимому, отказался от борьбы на философском поле. В 1848 году он с радостью увидел, как «религия и свобода обнимаются, как две сестры, навеки неразлучные». Он баллотировался в депутаты как противник коммунизма и защитник сельского хозяйства. Уже в 1854 году он выходит на пенсию и поселяется в Вьё-сюр-Сер, где умирает в 1865 году.
Мемуар Тиссо, тогда декана факультета в Дижоне, был напечатан в 1854 и 1855 годах. Несмотря на свои критицизирующие возражения, он высказывает высочайшее уважение как к книге, так и к её автору, и утверждает, что именно Ларомигьер первым попытался вновь запустить в нашей стране спекулятивную философию, связав её с XVII веком и с самыми глубокими и истинными теориями древности. В завершение он косвенно критикует Кузена.
Де Шабрье цитирует Тиссо, чей Мемуар был опубликован почти в том виде, в каком он был представлен конкурсному жюри, и предоставляет Минье большую часть документов, на основании которых тот составляет свою биографическую заметку. Минье делает оговорки, и де Шабрье «упрекает его в том, что он поддался прежним предубеждениям и допустил некоторые критические замечания, которые, к несчастью для него, непонятны». Мы едва ли можем предположить, что восхваление Ларомигьера со стороны г-на Тэна понравилось де Шабрье, ибо в седьмом издании Leçons, которое он опубликовал в 1858 году, он представляет Ларомигьера в образе, скорее напоминающем современное представление о Дамироне. В 1861 году он задумывается о публикации отрывков Ларомигьера: «Пусть Господь дарует мне жизнь, — пишет он аббату Року, — чтобы в последний час обрести утешение от исполненного долга». Это он финансирует конкурс, учреждённый Академией в Дижоне, порой более смелой, по Leçons. Вероятно, он же добился от министра, чтобы премия была удвоена, а Leçons особо рекомендованы. Были присланы четыре мемуара. Господа Лам и Робер разделили между собой премию. Первый опубликовал свой Мемуар в 1867 году, напомнив об статьях г-на Поля Жане и книге г-на Тэна. Будучи большим поклонником Ларомигьера, он считает его согласным с Боссюэ, прогрессирующим по сравнению с идеализмом XVII века и сенсуализмом XVIII. И хотя он, прежде всего, представляет Ларомигьера как спиритуалиста и деиста, он, вслед за Тэном, видит в нём одного из самых ясных, самых методичных и самых «французских» умов, когда-либо прославлявших нашу страну.
После смерти г-на де Шабрье его наследник писал аббату Року: «Я являюсь хранителем рукописей г-на Ларомигьера. Я буду хранить их до того момента, когда они будут сожжены в соответствии с волей, выраженной г-ном де Шабрье в его завещании…». И он добавлял: «Эта оговорка является последним свидетельством неустанных усилий г-на де Шабрье сохранить ту славу, которая была ему столь дорога». Эта последняя формулировка остаётся непонятной. Однако, вспоминая документы Сийеса, Вольнея и других, уничтоженные или скрытые от огласки, можно сказать, что идеологи проявили либо большую непредусмотрительность, либо были крайне несчастливы, поскольку те, кому они доверили свои суждения — о людях и вещах — которые невозможно было тогда предать гласности, сами оказались под ударом политической, религиозной и философской реакции и, в итоге, пожелали, чтобы осталось неведомым, насколько сурово их родственники или друзья судили всё то, что они сами затем обязались защищать.
— V —
«Возрождение идеологии»: господа Тэн, Ренан, Литтре, Рибо
Идеология, всё более ограничиваемая Ларомигьером и его учениками, смогла удержаться в университетском преподавании лишь благодаря союзу то с католицизмом, то с эклектизмом, то даже с критицизмом. С Тэном она вновь соединяется с науками, заимствует их метод и встаёт у них в ученики, чтобы воспользоваться достижениями, сделанными с тех пор, как произошло расхождение путей. Именно с похвалы Ларомигьеру начинается знаменитая книга о классических философах: Руайе-Коллар, «по вере и по склонности враг Кабаниса и Сен-Ламбера, которого он собирался атаковать через их отца — Кондильяка», изображается как тот, кто «впрягся в покинутую колесницу и увлёк её через все преграды и через тела поверженных противников, но при этом отвернулся от священной колонны, к которой устремлены были все состязания». Биран, «возведённый в ранг первого метафизика своего времени за то, что был тёмным», сравнивается «то с Плотином, то с бедными женщинами из Сальпетриер». Кузен превращается в отца Церкви, который, будучи оратором, не является философом; который, насилуя свой талант, когда становится историком, и ещё больше — когда становится биографом и портретистом, превращается в великого викария «с покаянными переходами и напыщенными периодами», чей главный принцип — поучать честных людей и нравиться отцам семейств. Жуффруа предстаёт колеблющимся между «анализами Аристотеля и воспоминаниями о катехизисе, начиная как философ, а заканчивая как теолог».
То, что г-н Тэн особенно ценил в Ларомигьере, это метод, унаследованный им от Кондильяка. Именно поэтому он сетовал на то, что в пыли библиотек остаются Логика, Грамматика, великолепный Язык исчислений и все трактаты по анализу, которые направляли Лавуазье, Биша, Эскироля, Жоффруа Сент-Илера, Кювье, — и не колебался ставить их автора рядом с Гегелем. Все те, чьи имена он призывал на помощь в своей борьбе против «классических философов», восходят к идеологам. Против спиритуализма, доктрины людей Писания, он выдвигает позитивизм, доктрину учёных; напротив Руайе-Коллара он ставит Флорена, Эли де Бомона, Коста и Мюллера; напротив Биранa — метафизика, глубокого потому, что туманного, — Бирана, сдерживаемого Кондильяком и Дестютом де Траси, автора Трактата о привычке, книги, которую могли бы читать врачи, и которую должны бы читать физиологи. Над Кузеном, историком XVII века, он ставит Сент-Бёва и его труд о Пор-Рояле, написанный «романистом и поэтом». Так же он рекомендует изучать в книге Курно — «настоящего учёного и философа» — ту самую достоверность, о которой Кузен говорит столь красноречиво. Он предпочитает Кузену, «учёному-любителю текстов», Анри Бейля (Стендаля) «психолога, художника и знатока чувств». Именно Анри Бейль — «великий психолог века» — противопоставляется Жуффруа, которому, впрочем, Тэн всё же признаёт «изобретательность» и «довольно высокую степень психологической чуткости». Из двух друзей, к которым он обращается, чтобы выяснить, что такое метод, один переписал от руки Язык исчислений и владеет библиотекой, где всегда открыты восемьдесят четыре тома Вольтера и тридцать два тома Кондильяка; у другого два самых зачитанных тома — Этика Спинозы и Логика Гегеля.
Классические философы были лишь введением к труду, который, как никакой другой, способствовал восстановлению плодотворного союза между литературой, науками, историей и философией — того союза, значение которого идеологи осознавали как никто. История английской литературы (Тэна) пробудила интерес к идеологии у всех, кто по склонности или по роду занятий интересуется книгами Англии или Америки. Опыты о Тите Ливии, Лафонтен и его басни, вместе с Études Сент-Бёва произвели тот же эффект у тех, кто изучает латинскую и французскую литературу. История была переосмыслена «в идеологическом смысле» благодаря Истокам современной Франции (Les Origines de la France contemporaine); литературная и художественная критика — благодаря Опытам и Новым опытам, а также Статьям о философии искусства. Широкая публика, прочитавшая, впрочем, большинство произведений г-на Тэна, была завоёвана его Путешествиями по Пиренеям и по Италии, как и Жизнью и мнениями Фредерика Томаса Грендоржа. Книга Разум (L’Intelligence), навевающая воспоминания о Кабанисе и Дестюте де Траси, о Биша и Дежерандо, о Ларомигьере и Пинеле, напоминает о самых блистательных успехах идеологов в Англии и Америке.
Г-н Ренан, с тем же вниманием к методу и к научным результатам, отвёл религиозному чувству то место, которое г-н Вашеро отстаивал для метафизики. Г-н Литтре привлёк к позитивизму множество сторонников. Труды Милля, Спенсера, Бейна, Дарвина, Модсли (Maudsley) и других были переведены и повсюду нашли читателей. Г-н Рибо, сосредоточившись на психологии, познакомил нас с тем, что было сделано в Англии и в Германии. После того как он показал, какой должна быть психология — болезненная, патологическая, физиологическая, животная, детская и этнологическая, — он стремится придать психологии статус самостоятельной науки своими исследованиями по наследственности, памяти, личности, воле, вниманию. Он сближает медиков и философов и придаёт психологическим исследованиям импульс, который, по-видимому, в ближайшее время не иссякнет.
Однако метафизика не была уничтожена ни философией наук, ни новой идеологией. Мы стали свидетелями возрождения материализма и атеизма. Идеализм, спиритуализм и деизм остались живыми и, по-видимому, даже обрели новую силу. С религиями происходит то же, что и с метафизиками: прогресс наук, а также развитие идеологии и философии науки помогли нам яснее осознать нашу неосведомлённость. Вопросы происхождения, сущности и предназначения больше никто не стремится устранить — напротив, их стараются рассматривать, опираясь на все данные, которые могут дать позитивные науки, история человечества, институтов и идей.
Продолжение: Заключение и дополнения
