
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Написано в 2025 году
Версия на украинском языке
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
Идея этой работы возникла у Маркса в 1844 году, когда Бруно Бауэр (его старый друг) после выхода своей собственной книги на тему неприятия евреев в европейских христианских государствах («Еврейский вопрос») выступил против Маркса с открытой критикой, а в дальнейшем начал явное отмежевание от более радикальных коммунистов. Идея Бауэра заключалась в том, что проблемой ассимиляции евреев является иудаизм, и сначала требуется перекрещивание в христианство, чтобы уже потом бороться за освобождение от политического рабства со всеми немцами наравне, в том числе и за переход от христианства к атеизму, если это будет необходимо (сам Бауэр скорее христианин). Маркс увидел в этой стадиальной картине развития лукавство, и отсоединил политическую эмансипацию от общечеловеческой. Если евреи хотят получить полноту прав как евреи-иудеи, то пускай борются за это, нет проблем. Но и сам Маркс тогда, правда, заявил, что настоящая общечеловеческая эмансипация это эмансипация от самого «еврейства», которое он сделал синонимом капитализма, жажды наживы и т.д. Так что ответ Маркса в каком-то смысле был даже более правым, чем изначальный тезис Бауэра. Тем не менее, из-за этого ответа между ними началась полемика, которая позже перерастет во вражду.
Маркс делал какие-то попытки колких ответов Бауэру ещё в своих «Рукописях», но окончательно идея ответа созрела уже тогда, когда Энгельс приехал в Париж и провел в доме Маркса чуть меньше двух недель. За этот небольшой срок они успели сверить свои взгляды, и осознав максимальную близость идей, тут же принялись писать критику против своих старых немецких товарищей, с целью расчистить почву для пропаганды коммунизма в Германии. По их мнению, разбив группу Бауэра, они убрали бы главного конкурента на поле чистой теоретической мысли. Энгельс в это же время куда активнее Маркса озадачен именно политическим аспектом пропаганды коммунизма, и спешит написать несколько теоретических работ, что помогут им быстрее развивать успехи движения. От Маркса он ждет того же, но в других сферах теории, и возможно с упором на французский опыт. Конкретно книга «Святое Семейство, или Критика критической критики» была написана ими совместно, и поэтому бывает трудно отличить степень авторства той или иной главы. Общая задумка этой книги не особо оригинальна, в каком-то смысле подобный примем уже использовал раньше Энгельс, в стихотворной сатирической поэме «Библии чудесное избавление» (1842), где главные герои рисуются некими святыми, а все их мелкие теоретические деяния приобретают значение мирового масштаба. Но тогда это была доброжелательная сатира, а теперь она превращается в критическую.
Свою книгу Маркс и Энгельс сразу начинают с фразы, которая должна манифестировать основную мысль: «мы сторонники Фейербаха и материалисты». Ну, прямо так они всё же не говорят, но пишут: «У реального гуманизма нет в Германии более опасного врага, чем спиритуализм, или спекулятивный идеализм, который на место действительного индивидуального человека ставит «самосознание», или «дух», и вместе с евангелистом учит: «Дух животворящ, плоть же немощна».
В плане критики идеализма их работа даже неплоха, она сразу сыплет очень колкими фразами, и не лишена смысла по содержанию, когда речь идет не о сведении личных счетов и не о критике конкретных людей, а про идеализм как таковой. Они даже поняли, что «немецко-христианская» (буквально) культура и философия резко противостоит французско-материалистической. С их точки зрения, все недостатки группы Бауэра — неизбежны для любого гегельянца и касаются самого Гегеля. Только Бауэр выразил все недостатки немецкого идеализма в более явной и доступной форме. Но поскольку Бауэр гегельянец, а коммунисты стали фейербахианцами, то: «Критическая критика во всех отношениях стоит ниже того уровня, которого уже достигло немецкое теоретическое развитие». Они пишут, что эта новая книга станет как бы прологом, только первой работой в целой серии, где Маркс и Энгельс, каждый в отдельности, изложат их общую позицию по всем ключевым вопросам экономики, политики и философии. Поэтому «Святое Семейство» представляется им очень важным трудом, литературным дебютом в крупном масштабе (до сих пор ничто из того, что они писали, не достигало таких масштабов ни по размеру, ни по охвату тем).
Глава 1. Критическая критика в лице г-на Рейхарда
Невозможно в простом конспекте и критическом комментарии передать главную черту этой работы Маркса и Энгельса: иронию и пародию на стиль святого письма. Но это надо иметь ввиду, что вся работа глубоко сатирична по форме, а персонажи рассуждают будто бы на церковнославянском языке. Правда далеко не все здесь так хорошо, как кажется. Например, начинается книга сразу с главной темы, которая задела Маркса ещё в «Рукописях» — что их старые друзья относятся к народу, как к «массе», «толпе», без уважения (впрочем, как и сам Маркс в той же работе). Мы видим, что «критические критики» решили, что массы страдают от нищеты, «пауперизма», и решили бегло изучить этот вопрос, используя в том числе литературные произведения Диккенса, как один из первоисточников. И вроде бы это типичное начинание для многих левых того периода. По задумке этих «критиков», чтобы стать понятнее для широкой публики читателей (на которую они и собираются выйти), надо отказаться от слишком сложной и специфической иностранной терминологии. Казалось бы! Это же хорошая тактика, демократическая по своей логике, в духе философии романтизма. Но Маркса и Энгельса (дальше МиЭ) это не устраивает! Они пытаются обернуть всё таким образом, что критики не используют иностранный жаргон, якобы потому, что сами его не способны понять. Целую страницу текста они тратят на то, чтобы просто расположить в ряд набор кратких цитат, где «критики» составляют малограмотные предложения. Если отвлечься от неудачной формы, то в принципе там ничего страшного не говорится, а большая часть этих фрагментов понятны даже без контекста. Но, по задумке МиЭ, мы, видимо, должны очень глубоко презирать группу Бауэра уже только за то, что он говорит «Воспитание всеобщего национального благосостояния», вместо того, чтобы начать со слова «Формирование…».
Но всё таки главный упрек состоит не в этом, пускай высмеивание формы подачи и занимает больше места. Острие критики направлено на то, что «критики», пообещав стать доступными народу, сами замудрили со сложными метафорами и отсылками на библию, и пускай это говорится на чисто-немецком языке (хотя на самом деле и с неологизмами из английского тоже), все ими сказанное даже тяжелее понять, чем иностранный текст. То есть, по сути, в первой главе нам пытаются показать, что критики захотели поиграться в социалистов и демократов, но на деле всё равно выдали свой элитаризм, и не смогли выйти на уровень языка простого народа. МиЭ правда вменяют им в вину скорее обратное, что они даже не хотели быть понятны народу, а собирались заставить народ понять их специфический язык, чтобы тупая масса доросла до их, критического уровня. Это очевидное преувеличение.
Глава 2. Критическая критика в лице г-на Жюля Фаухтера
Дальше критики решают рассмотреть историю английской промышленности, что прямо связано с проблемами пауперизма. Видимо здесь основной автор уже Энгельс, и он ехидничает по поводу того, что у критиков история развивается не так, как было на самом деле, а в согласии с их собственными представлениями и догматами. То, как они себе выдумали — это элитарный, «критический» взгляд. Ну а то, как было на самом деле — это низменный «массовый» взгляд. Таким образом подчеркивается, что истина на стороне простого народа, а критики просто зазнавшиеся снобы. То, что это относится к самим МиЭ — бросается в глаза при чтении почти любой (!) их работы того же периода. Но давайте притворимся, что мы поверили, и что критики элитарны, а вот МиЭ совсем нет. Суть дела сводится снова к форме выражений.
В массовой истории не было никаких фабричных городов до появления фабрик. В критической же истории, где сын порождает своего отца, как это уже имело место у Гегеля, — в этой истории Манчестер, Болтон и Престон представляли собой процветающие фабричные города в то время, когда никто ещё и не думал о фабриках.
Вроде бы ясно, что это просто неудачное использование терминов, и «критики» имели ввиду, что фабрики появляются в городах, где уже и без того было развитое ремесло, не в деревнях, а в старых городских центрах. Но МиЭ докапываются до таких ошибок в словах, а не к сути дела, и полагают, что этого достаточно. В общих чертах верно (хотя и с попытками использовать схемы гегелевской диалектики) «критики» излагали историю развития ткацких станков; с небольшими ошибками в плане причин-следствий, но сносно, особенно если это «научпоп». Только Энгельс берет и говорит почти буквально тоже самое, но более профессиональным языком, и с парой незначительных поправок, так что в итоге мы получаем буквально один и тот же результат, повторенный дважды. Читатель узнает про то, как одна форма прядильного станка заменяла другой, одинаково и там, и там. Но видимо «критики» достигли (!) того же результата (!) недостаточно красиво, поэтому мы должны снова их засмеять. Единственная серьезная проблема в том, что нам показали, это то, что: «В действительности изобретение паровой машины предшествовало всем вышеназванным изобретениям; в критике же паровая машина, как венец всего здания, является вместе с тем и чем-то последним по времени». Но и здесь, в принципе, суть сказанного понять можно. Речь идет о промышленности и производстве. Так что какая разница, что паровая машина была изобретена раньше, если сначала ее использовали для откачки воды, а не для создания продукции? По контексту ясно, что критики говорят о развитии промышленных станков, а не про абстрактную паровую машину, как исторический феномен (тогда можно было бы сказать самому Энгельсу, что грек Герон изобрел паровую турбину ещё в античности). В другом месте критики говорят про среднюю зарплату, а Энгельс поправляет, что на самом деле есть градации зарплат. И все остальные бесполезные поправки в основном в таком же духе. Это настоящее форменное издевательство. То есть, грубо говоря, критики просто немного безграмотно (опять), но все таки описывают английскую промышленность и пауперизм (чисто левые темы), а МиЭ жестко недовольны, потому что им не нравится форма исполнения. Действительно, в этом есть что-то комичное, только глупо выглядят МиЭ.
Но стоит признать, что некоторые ляпы «критиков» действительно значительны, хотя это связано с тем, что они не имели доступа ко всем первоисточникам, и не ездили в Англию лично. Есть, правда, и такие ошибки, которые связаны уже просто с интеллигентностью авторов и их специфическими интеллигентскими интересами. Вот несколько примеров:
- «В действительности машина заменяет ручную работу, в критике же она заменяет мышление». Звучит конечно очень метафизично, но буквально тоже самое Маркс пишет в «Рукописях», рассказывая как машины монотонным трудом отупляют работника. Только из-за очередной проблемы с формой выражения, Энгельс снова вместо критики по существу, занимается красивой, но клоунадой.
- «В действительности в Англии разрешается объединение рабочих, имеющее своей целью повышение заработной платы; в критике же такое объединение запрещено, ибо, прежде чем позволить себе что-нибудь, масса должна испросить разрешения у критики». Оказывается критики, по незнанию, наивно думали что дела рабочих в Англии хуже, чем оно есть на самом деле. Они критикуют эту проблему, как обычные социалисты, полные негодования; но Энгельс спешит заявить, что все не так уж плохо в этой вашей Англии, что при капитализме можно добиваться расширения прав. Что это? Зрада или перемога? Можно ли приписать ему защиту капитализма перед лицом неудачной, но социалистической критики? Наверное, нет, но сам Энгельс этим с радостью занимается.
- «В действительности фабричная работа чрезвычайно утомительна и вызывает специфические болезни (есть даже специальные медицинские труды об этих болезнях); в критике же «чрезмерное напряжение не может препятствовать работе, ибо силу поставляет машина»». И снова мы видим передергивание. Очевидно, критик заявляет, что из-за того, что у машин нет ограничений, работа фабрики может не останавливаться. Правда и в старых мануфактурах при желании можно было бы ввести смены и работать круглосуточно, но как массовое явление и объект для критики круглосуточная работа выступила только в XIX веке. В «Капитале» Маркс ещё сам будет много говорить на эту тему. Но Энгельс же превращает это в морализаторство, что ограничения есть, но не у машин. Это прекрасно, но ведь речь-то о работе фабрики, а не работе рабочего. Кто тут идиот, критик или Энгельс, не умеющий или не желающий уметь читать?
- «В действительности машина есть машина; в критике же машина обладает волей: так как машина не отдыхает, то не может отдыхать и рабочий, а следовательно он подчинён чужой воле». Если там была метафора про волю, то действительно критики перегнули, но, логика-то буквально повторяет предыдущую цитату, что поскольку машины работают круглые сутки, то и рабочий вынужден работать как можно больше, чтобы обеспечивать бесперебойное производство, и рабочий становится как бы придатком машины. Машине нужно работать без остановок, и рабочий рабски обязан служить этой «потребности» машины. БУКВАЛЬНО об этом же писали и будут писать неоднократно сами Маркс и Энгельс. Разница снова просто в форме выражения, а не в сути.
Две главы подряд оказываются спором о словах, где два идентичных левака обсуждают то, кто из них красивее пишет. Есть конечно и более серьезные выпады, которые связаны не просто с незнанием деталей (например критики думали, что в Англии 16-часовой рабочий день, а Энгельс поправляет, что 12-ти часовой). Так, критики считали, что отмена Хлебных законов скорее вредна для сельхоз рабочих, но выгодна для промышленных, и они мыслят как сторонники свободной торговли, а Энгельс (до сих пор везде выступавший скорее в таком же духе) вдруг начинает защищать протекционизм. Критики считали что Англия неизбежно станет ещё больше и больше «мастерской мира» (фритредеры), а Энгельс уверен, что конкуренция Европы и США постепенно вытеснят Англию, и сделают ее рядовой промышленной страной (протекционизм). Критики почему-то думали, что монополизация не сможет полноценно развиться (фритредеры), а Энгельс, столь же ошибочно, думал что она уже 1844-м развилась до невероятных масштабов (протекционизм). Из смешных моментов можно выделить тот, где критики смешали фабрикантов и фабричных рабочих в одну «фабричную партию», что, впрочем, почти наверняка было простым следствием влияния сен-симонизма. Нам пытаются показать, что все глупости критиков связаны с гегельянством и чистой фантазией их ума, но только на деле перед нами просто интеллигентные философы, которые очень малограмотно по форме выражают обычные социалистические настроения того периода. Когда буквально такие же вещи говорят сен-симонисты в какой-то Франции, то МиЭ, вот уж чудеса, совсем не так критичны.
Самым большим грехом «критических критиков» стало непонимание роли чартизма. Они считают чартизм скорее движением группы интеллигентов, которые пытаются заручиться поддержкой рабочих, играя на их интересах, но Энгельс считает их буквально выражением воли рабочих, и как бы непосредственно рабочим творением (на самом деле и то и другое мнение имеет место быть). Снова выходит контраст, где критики элитарны, а МиЭ демократичны, просто потому, что они говорят о себе: «мы демократичны». Защита хлебных законов (!) от посягательств критики и либералов занимает у Энгельса целую страницу. В общем, критики оказались либералами, Энгельс — консервативным протекционистом. Единственное действительно серьезное обвинение за целых две главы (где нельзя сказать, что это жалкая придирка), касается того, что критики не понимают кровной заинтересованности рабочих в понижении рабочего времени, считают это какой-то второстепенной целью рабочих. Это действительно глупость. Все остальное, в общем-то, не представляет собой чего-то особенно ужасного. Видимо поэтому Энгельс снова и снова возвращается к вопросам языка и стилистики.
Глава 3. Критическая критика в лице г-на Ю.
Глава 4. Критическая критика в лице г-на Эдгара.
Следующая, третья глава книги, посвящена скандалу в Берлинском университете, и тому, как на это отреагировали наши критики, связанные своим происхождением с философским факультетом этого университета. В какой-то момент критики переехали в университет в Бонне, и там у них произошли конфликты с властями, которые по форме напоминали теперешние события в Берлине. Из-за этого критика начала рассматривать берлинскую историю как простой плагиат боннской. Мол местные философы в Берлине уже не могли сделать ничего нового, потому что оригинал пьесы уже был отыгран в Бонне. А что же именно случилось? Да это и не важно, просто обычный конфликт властей против слишком дерзкого, на их взгляд, литератора. Обычная история про засилье цензуры в авторитарном государстве. В этой главе основной автор по-видимому Маркс, и он видит в подходе критиков особое высокомерие (эх, посмотрел бы он на себя и собственные тексты с таким же желанием высмеять..). Глава очень коротенькая, и суть её сводится к тому, что критики мыслят по гегелевским схемам, и даже свою микро-историю, которой они приписывают значение целой исторической эпохи, они мыслят через призму исторического детерминизма, и доказывают что все случилось единственно возможным способом, и никак иначе быть не могло. Видимо главный вывод, который мы должны сделать — исторический детерминизм вреден. Чуть позже Маркс вернется к этому вопросу ещё раз и займется им обстоятельнее.
В четвертой главе, некий критический критик Эдгар, в ответ на популярную социалистическую фразу о том, что рабочие создают все, а получают взамен ничего, сказал что-то в духе: рабочие не создают ничего, поэтому ничего и не получают. Здесь подразумевается, что рабочие не создают ничего поистине значимого. Грубо говоря, стоя за конвейером и делая какие-то примитивные задачи, сути которых даже до конца не понимаешь, вселенская значимость этих примитивных процессов устами социалистов сильно преувеличена. В этом плане не работающий на заводе философ, если ему удастся создать хорошую книгу, делает работу куда более значимую и заметную. Эдгар пытается сказать именно что-то такое (и да, действительно, позиция эта очень интеллигентская, но и не совсем же лишена сути). Само собой критик в курсе, что рабочие создают вещи, просто весь вопрос в том, насколько роль рабочего в этом процессе действительно значительна. Понятно, что если вдруг все рабочие не будут делать ничего, то не будет создано даже пищи для философа. В таком плане рабочий крайне важен, если не индивидуально, то хотя бы как класс. Примерно также, как сельское хозяйство важно в экономике 21-го века. Оно занимает в развитых странах около 3% ВВП и так же мало рабочих рук, но если вдруг все сельхоз-рабочие решат ничего не делать, тогда и вся наша цивилизация схлопнется. Стоит-ли после этого переходить на позицию физиократов, и создавать целый культ величия сельхоз-труда? Воспевают ли сами марксисты сельхоз как самую значимую отрасль труда? Или буквально также, как Эдгар принизил рабочих, так и марксисты нынче сами принижают сельское хозяйство на фоне промышленности? В общем, если отвлечься от эмоций, то вопрос не так ужасен, как это кажется на первый взгляд. Хотя да, Эдгар здесь очень жесток по отношению к рабочему классу, и вероятно он бы согласился с тем, что буржуа является даже большим «творцом», чем рабочий (т.е. как и авторы из глав выше, Эдгар, возможно, скорее либерал). Маркс даже сам это отчасти признает, и пытается сказать что да, значимость единичного рабочего невелика, но это же не его вина, это же из-за разделения труда и капитализма! Да и рабочий класс в целом велик, и куда более велик, даже в сфере чистой философии, чем сам Эдгар.
Положение это [фраза Эдгара] к тому же есть сумасшедший бред, если оставить в стороне то обстоятельство, что отдельный рабочий не производит ничего целого, а это — тавтология. Критическая критика не создаёт ничего, рабочий создаёт всё, до такой степени всё, что он также и своими духовными творениями посрамляет всю критику. Английские и французские рабочие являются лучшим свидетельством этого. Рабочий создаёт даже человека, критик же навсегда останется уродом [Unmensch], но зато он испытывает, конечно, внутреннее удовлетворение от сознания, что он — критический критик.
Есть правда и относительно хорошие места. Маркс высмеивает критиков за их пуританские, стоические нравы. За то, что критики стараются показушно возвышаться над простыми смертными, и показывают всеми силами, что бренные и плотские вещи их, как истинных мудрецов, не интересуют. Поэтому критики с ужасом смотрят на вопросы проституции (скорее не из сострадания к бедным женщинам, а из ужаса перед низкими нравами), и с таким же ужасом воспринимают низкий интеллектуальный уровень любовных романов в мире литературы. Это типичная черта многих интеллектуалов от мира науки во все времена, и казалось бы, это относится и ко многим другим людям, которых Маркс уважает (хотя бы взять Ньютона, или почитайте в «Отверженных» что думает про женские романы Виктор Гюго), но здесь эта черта проявляется во врагах, и поэтому Маркс вполне справедливо выступает против такого стоицизма. Пускай и случайным образом, но это хорошее место книги. В разделе о любви, критик Эдгар пытается защитить платоническую любовь двух чистых душ от грубых плотских трактовок, и от превращения возлюбленной в простой материальный предмет для своего эгоизма. Критик боится, что любовь отвлекает нас от дел во благо всего человечества! Критик боится также и того, что любовь может навредить нам, даже если рассматривать ее в возвышенном смысле, а что уж и говорить тогда про частную, конкретную любовь двух индивидов, оторванных от общественного целого! Ну а Маркс всё это высмеивает (хотя в принципе, сам разделяет все эти романтические порывы про благо человечества и т.д.). Он ведет себя как вульгарный циник, и это прекрасно и по-эпикурейски одобряемо.

Дальше Маркс доходит до момента, где Эдгар нападает на Прудона, и наш герой тут же бросается защищать своего французского кумира (пока ещё кумира). Спор идет по поводу трактовки сочинения «Что такое собственность?» (см. наш цикл про Прудона). Главное обвинение Маркса даже не в том, что Эдгар плохо критикует, а в том, что перед этим он неправильно переводит Прудона, и делает это отчасти даже сознательно, загоняя Прудона в форму, удобную для последующей критики. И действительно, в переводе Эдгара получается что Прудон чистый теоретик и облачный мечтатель, а его высказывания выглядят беззубо; тогда как оригинальные фразы Прудона куда более прагматичны, они жесткие и требовательные. На фоне такого карикатурного Прудона сам Эдгар выглядит намного бодрее. Но Маркс дополнительно накаляет ситуацию, и приписывает Эдгару особую мотивацию: Прудон это «масса», т.е. тупое быдло рабочего происхождения, и поэтому он даже по статусу обязан мыслить абстрактно, верить первым впечатлениям, выдавать желаемое за действительное, делать из хотелок непреложные законы и т.д. В основном этот раздел кричит о том, что Эдгар плохо знает французский язык, а Маркс знает этот язык хорошо. В принципе такая критика выглядит неплохо, задорно, но снова слишком затянуто и больше касается формы, чем сути дела.
От ошибочных переводов, Маркс переходит и к ошибочным комментариям Эдгара. Сам Маркс считает, что книга Прудона является критикой политической экономии исходя из принципов политической экономии (т.е. буквально марксизм), а поэтому заострять внимание на первых главах, где рассматривается юридический аспект собственности — нет смысла. По мнению Маркса, книга Прудона появилась как критическое осмысление работ физиократов, Смита и Рикардо с одной стороны, а также Фурье и Сен-Симона с другой. И это верно, правда все равно смешно, что спустя столетия Маркса будут описывать точно также (тот же Ленин и «три источника…»). Далее, Маркс считает, что Прудон совершил настоящую революцию в науке экономики, поскольку впервые проанализировал ее сердцевину — частную собственность. До этого собственность считалась просто самоочевидной предпосылкой для экономики, настолько же естественной, как зеленый цвет травы.
Произведение Прудона «Что такое собственность?» имеет такое же значение для новейшей политической экономии, как произведение Сиейеса «Что такое третье сословие?» для новейшей политики.
Правда Маркс ставит здесь Прудона всё же немного ниже Энгельса с его набросками по экономике. Он пишет про разные противоречия, которые возникают при более глубоком анализе экономических категорий, и как сами экономисты, замечая эти проблемы, начинают бесконечно спорить про их причины, не замечая при этом самой сути: «Так, Адам Смит нападает иногда на капиталистов, Дестют де Траси — на банкиров, Симонд де Сисмонди — на фабричную систему, Рикардо — на земельную собственность, и почти все новейшие экономисты — на непромышленных капиталистов». Прудон же оголил суть дела, и полностью преобразил дальнейшее развитие экономической науки. Так считает Маркс. Но оказывается, что критик Эдгар наоборот проигнорировал экономическую часть сочинения Прудона, и обратил внимание на юридическую часть, особенно с рассуждениями о справедливости. Почему он так сделал? Потому что по его мнению Прудон «не открыл ничего нового своим отрицанием частной собственности». В общем, критик посчитал, что перед ним очередной типичный коммунист в духе Бабёфа, и в этом он скорее даже больше прав, чем Маркс, который выискивает в Прудоне какие-то невероятные глубины мысли. Но если отвлечься от самого Прудона, то сам вопрос таки важен, и он касается акцентов. Маркс ставит в основу анализа экономику, а его критические товарищи — мораль и юриспруденцию. Маркса даже оскорбляет, что критик называет Прудона теологом, а его божеством — справедливость. Но благо хоть и не отрицает этого совсем, а ищет Прудону оправдания. Почему такое поведение скорее хорошо? Потому что книга «Что такое собственность?» буквально (!) заканчивается молитвой (!) богу Равенства, и отрицать это невозможно. Но даже с умеренными оговорками, всё равно похвалы Маркса в адрес Прудона невероятны:
Прудон не только пишет в интересах пролетариев: он сам пролетарий, ouvrier (рабочий). Его произведение есть научный манифест французского пролетариата и имеет поэтому совершенно иное историческое значение, нежели литературная стряпня какого-нибудь критического критика.
Некоторые моменты восхвалений оборачиваются скорее против Маркса. Например, он обвиняет Эдгара в идеализме категорий, мол по мнению критика Прудон сводит все к терминологии, и на это Маркс раздается смехом: «Критическая критика всюду видит одни лишь категории. Так, для г-на Эдгара имение и неимение, заработная плата, вознаграждение, нужда и потребность, труд для удовлетворения потребности — всё это не что иное, как категории. Если бы обществу нужно было освободиться только от категорий имения и неимения, то каким лёгким делом сделал бы для него «преодоление» и «снятие» этих категорий любой диалектик, даже ещё более слабый, чем г-н Эдгар!». Но проблема в том, что здесь прав как раз Эдгар. Откройте произведение Прудона! Он буквально сам же говорит, что все беды человечества от непонимания истинного содержания понятий, и это на первых же страницах книги. Да, конечно, сам же Прудон выходит потом на практическую плоскость, но говорить что Эдгар идеалист, а Прудон его прямой антипод, это преувеличение.
В общем, критика критического критика Эдгара заканчивается выводом, что поскольку он идеалист, то у него рабство рабочего класса заключается в рабском мышлении. Как только пролетарий понял бы всю суть капитализма, он бы тут же сбросил с себя иго и перестал быть пролетарием. Марксу это читать смешно, потому что недостаточно одного осознания порочности рабства, чтобы избавиться от рабовладельца. Рабство это не только идея, но ещё и материальное состояние, и идею ещё надо воплотить. Но строго говоря, Эдгар ведь прав в том, что при таком осознании действительно можно тут же уволиться (чем не практическое действие?), и, например, даже умереть с голоду, но уже свободным человеком. Чисто технически это возможно, и рабство здесь в значительной степени связано с согласием на рабство, пускай даже это согласие выжато давлением и шантажом. Проблема в том, что такие абстрактные философы как этот Эдгар, часто мешают понятия, и далеко не факт, что Эдгар имеет ввиду отдельного рабочего. Как правило все они («критики») наоборот критикуют индивидуализм. Мы уже видели это в начале главы про Эдгара, где отдельный рабочий не производит ничего. Так и здесь, вероятнее всего, речь идет не про то, что отдельный рабочий может освободиться простым отказом от рабства. Дело в том, что если бы все рабочие, весь рабочий класс в совокупности принял коллективное решение о забастовке, то капитализм и вся буржуазия пали бы перед рабочими на колени (такое же мнение мы можем найти и у Макса Штирнера в его «Единственном»). Утопичность здесь только в том, что такое массовое соглашение допускается реалистичным. Но само это требование вполне в духе социализма, и мало чем отличается от требований коммунистов вплоть до Первой мировой войны (где они были уверены, что коллективная забастовка остановит войну на второй день после ее начала, но собрать эту забастовку никто не смог). Маркс пользуется этой терминологической двусмысленностью, и где ему удобно, там рабочий становится не абстракцией целого класса, а индивидуальным человеком, а поэтому критик Эдгар — дураком и людоедом.
Глава 5. Критическая критика в лице г-на Шелиги.
В пятой главе Маркс добирается до некоего Шелиги, который дал критический обзор романа «Парижские тайны» Эжена Сю. Модный среди социалистов роман, который считается ранним примером реализма, почти соц.-реализма в классической литературе. Эдакий местный французский Диккенс. На самом деле роман действительно посредственный, и в нем слишком много элементов христианского социализма и вообще примитивных образов благородного буржуа с христианскими ценностями (ср. «Отверженные» Гюго, где часть образов буквально взята из «Тайн»). Но в свое время Эжен Сю был очень популярен среди левых, и поэтому тот факт, что после рассмотрения английской промышленности, пауперизма и работы Прудона критики перешли к этому роману — снова выдает в них просто типичных левых мыслителей своего времени.
Шелиги не критикует этот роман враждебно, роман ему очень-то даже понравился, но он трактует его несколько своеобразно, аккуратно сглаживая углы. А Маркс показывает, как из романа Эжена Сю можно выжать больше социалистического и критического пафоса. По сути, они оба выступают как социалисты, но Шелиги явно гораздо более «буржуазен», слишком уж пуританин и либерал (как и другие критики выше). Шелиги буквально воспринимает название романа и выискивает в образах из книги «тайны», называя этим словом серию разных обыденных вещей, что позволяет Марксу создать контраст двух философов: (1) Фейербаха, который разные теологические тайны раскрыл и показал в истинном свете, и (2) Шелиги, который обычные и понятные всем вещи превращает в тайны и затуманивает наше понимание мира.
Действительно, Шелиги слишком уверен в умственном превосходстве интеллигенции и аристократии над необразованной толпой, и поэтому некоторые сцены из романа он читает через призму этого дуализма, что дает Марксу много пространства, дабы создать иллюзию собственной демократичности на фоне Шелиги (один и тот же прием из примера в пример). Все детали того, как именно Шелиги создает акценты в каждом конкретном случае мы уже воспроизводить не будем, это не имеет особого значения для понимания мысли Маркса. Тем более, что в 9-й главе книги Маркс снова вернется к этой теме уже более обстоятельно.
В этом разделе самое интересное место представляет длинный пример Маркса о логике философии Целого, которую он, внезапно, критикует. Она длинная, поэтому чтобы не тратить лишнее время, её можно прочитать отдельно, и это стоит того, потому что это одно из немногих реально ценных мест в книге.
Глава 6. Критическая критика в лице г-на Бруно.
Раздел с критикой Бауэра, само собой, должен быть главной частью книги, потому что сам Бауэр — главная мишень для Маркса и Энгельса. Они сразу рисуют его вождем, самым абсолютным критическим критиком, который воплощает в себе все то, что уже было рассмотрено, и идет ещё дальше, воюя с «массой» на самых высоких уровнях абстракции, как абсолютный индивид. Здесь Маркс больше, чем где бы то ни было раньше — показывает зависимость «критиков» от Гегеля, как они рабски следуют за его логикой, и как повторяют шаблоны из его писаний. Мы видим, что для Бруно самое главное — открытие истин, и даже сама история существует только ради этого. Если бы она не раскрывала истины, то наверное была бы и не нужна, как и вся жизнь людишек. Жизнь человека для Бауэра не является самоцелью, мы только инструменты в руках Истины, которая пытается воплотить себя в мире. И у него идеализм выглядит гораздо выпуклее, чем у всех рассмотренных выше персонажей (ну или это Маркс умело акцентирует именно здесь).
Первое что не понравилось Марксу у Бауэра, это то, что Бауэр, как бы мы сегодня сказали, типичный «марксист» по вопросам исторического детерминизма. Для Бауэра кажется самоочевидным, что если буржуазия победила и сегодня господствует, то иначе быть не могло, а все факты прошлого должны только иллюстрировать неизбежность этой победы. Таким образом, надо было просто уловить дух, тренд, тенденцию, и присоединиться к стороне победителей, чтобы не оказаться в дураках (ср. буквально тоже самое в статье марксиста Плеханова «О роли личности»). Если кто-то не понял духа эпохи и пошел поперек дороги буржуазии, то даже несмотря на временные успехи, в конечном итоге эти люди обязательно поплатятся. Поэтому если социалисты недовольны происходящим — они дураки, которые ставят на заведомо проигрышную лошадь в этой гонке.
Понятно, почему Марксу такой подход не нравится, да он бы не понравился и современным «марксистам». Но в отношении трактовок истории в прошлом — это один в один «марксизм», впрочем и на счет будущего тоже, ведь марксизм придумал неизбежность победы коммунизма исходя из логики современных процессов. И это выглядит даже немного иронично, что Марксу такое отношение к некой «логике истории» здесь пока ещё не нравится (эту же тему мы уже видели третьей главе). Бруно действительно винит во всех бедах тупую толпу, и противопоставляет ей прогресс и стоящих на его стороне интеллектуалов. По форме он ведет себя как либерал XIX века, критикующий социалистов, и судя по содержанию предыдущих разделов, все остальные «критики» тоже в принципе были лево-либералами с германской спецификой. Маркс поэтому резко отзывается о таком прогрессизме:
Все коммунистические и социалистические писатели исходили из наблюдения, что, с одной стороны, даже самым благоприятным образом обставленные блестящие деяния видимо остаются без блестящих результатов и вырождаются в тривиальности; с другой же стороны, что всякий прогресс духа был до сих пор прогрессом в ущерб массе человечества, которая попадала во всё более и более бесчеловечное положение. Они объявили поэтому «прогресс» (см. Фурье) неудовлетворительной абстрактной фразой; они догадывались (см., в числе других, Оуэна) о существовании основного порока цивилизованного мира; они подвергли поэтому действительные основы современного общества беспощадной критике.
[…]
Какое огромное преимущество перед коммунистическими писателями — избавить себя от исследования источников духовной пустоты, лености мысли, поверхностности и самодовольства и, открыв в этих качествах противоположность духа, прогресса, заняться их моральным посрамлением!
Маркс говорит, что вместо того, чтобы констатировать очевидное (глупость толпы) стоило бы понять причины проблемы, и попытаться эту проблему исправить. А Бруно Бауэр просто самоутверждается за счет несчастия большинства человечества. Здесь Маркс ещё наивно считает, что причина глупости масс — это изнурительный труд и нехватка средств. Опыт повальной глупости избирателей в просвещенной и богатой Европе XXI-го века ему ещё неведом. Но обвиняя Бруно в морализаторстве (моральное посрамление), Маркс не замечает, что сам занимается ещё большим морализаторством. Он идет даже дальше, и сравнивает «дух» и «массу» из уст Бруно с «духом» и «материей», «богом» и «миром» по Гегелю. Таким образом он дополнительно подчеркивает дуализм тупости и ума, зла и добра, автоматически превратив элиту в идеалистов, а народ в синоним материализма (впрочем, дальше и сам Бруно проставит такие соответствия). Маркс описывает то, как сам Гегель мыслил Абсолютный Дух, и как этот дух посредством философов должен был воплощаться в реальном мире; а главное, он показывает, какие проблемы возникали из-за этого у самого Гегеля. И все для того, чтобы потом показать, как Бруно Бауэр решил все эти проблемы и половинчатые решения, просто объявив себя самого Абсолютным Духом. Тема высокомерия «критиков» здесь вполне раскрыта, наконец-то.
Дальше мы видим, что Бауэр пытается критически рассмотреть «пропасть», отделяющую интеллигенцию от народа, с целью ее упразднить, чем дает Марксу очередной повод покрасоваться фразами, смысл которых можно выразить примерно так: «посмотрите, он высокомерный сноб, и при этом идиот, а я смиренный обычный смертный, демократ, и при этом умный». Уже в который раз Маркс поднимает тему своей демократичности на фоне критиков. При этом Бауэр сам пытается оправдаться за сотрудничество с Марксом и его командой, он клянется что никогда не был политичным писателем, хотя и прям совсем чистым литератором ради литературы он не был тоже. Его просто неправильно поняли, и он никогда не поддерживал ни социализм, ни даже либерализм, а находится все всех материй. И только с этой высоты он может верно судить обо всех явлениях. Но как уже говорилось в начале этой статьи, основной причиной разногласий с Бауэром стала его работа «Еврейский вопрос», и поэтому Маркс пространно расписывает полемику, которая возникла вокруг этой книги. Не будем особо повторяться. Маркс здесь критикует представления о естественности прав человека, да и каких бы то ни было прав вообще. Он рассматривает вопросы сущности государства и права. И здесь Бауэр якобы вымыслил себе философский идеал государства: «Г-н Бруно, смешавший государство с человечеством, права человека с самим человеком, политическую эмансипацию с эмансипацией человеческой, неизбежно должен был, если и не мыслить, то воображать себе государство особого рода, философский идеал государства».
Главная линия критики, которую здесь выдерживает Маркс, это снова соотношение материи и духа. Бауэр рассматривал еврейский вопрос и самих евреев как нацию, через призму религии иудаизма, тогда как надо было скорее эту религию рассматривать через призму материального положения евреев (где сам Маркс находит, что они торгаши, капиталисты, жрецы наживы и т.д. и т.п., очень материалистичный подход). Причины и следствия снова перевернуты, Бауэр идеалист и теолог, был им по профессии, и остается по жизни. Все его работы всегда были про теологию, и когда он, обиженный на государство, возвысился до либерализма и политической критики, то это было только временное помутнение. Вот так Маркс разделывается с Бауэром. Или, если ещё более емко в виде классической цитаты Маркса:
Идеи никогда не могут выводить за пределы старого мирового порядка: во всех случаях они могут выводить только за пределы идей старого мирового порядка. Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу.
Как пример такого случая, когда новая идея уже возникала, а сил на ее реализацию ещё не было, Маркс приводит само возникновение коммунистической идеи, чем косвенно подтверждает, что ведет свою идейную родословную от Бабёфа.
Французская революция породила идеи, выводящие за пределы идей всего старого мирового порядка. Революционное движение, которое началось в 1789 г. в Cercle social, которое в середине своего пути имело своими главными представителями Леклерка и Ру и, наконец, потерпело на время поражение вместе с заговором Бабёфа, — движение это породило коммунистическую идею, которая после революции 1830 г. снова введена была во Франции другом Бабёфа, Буонарроти. Эта идея, при последовательной её разработке, есть идея нового мирового порядка.
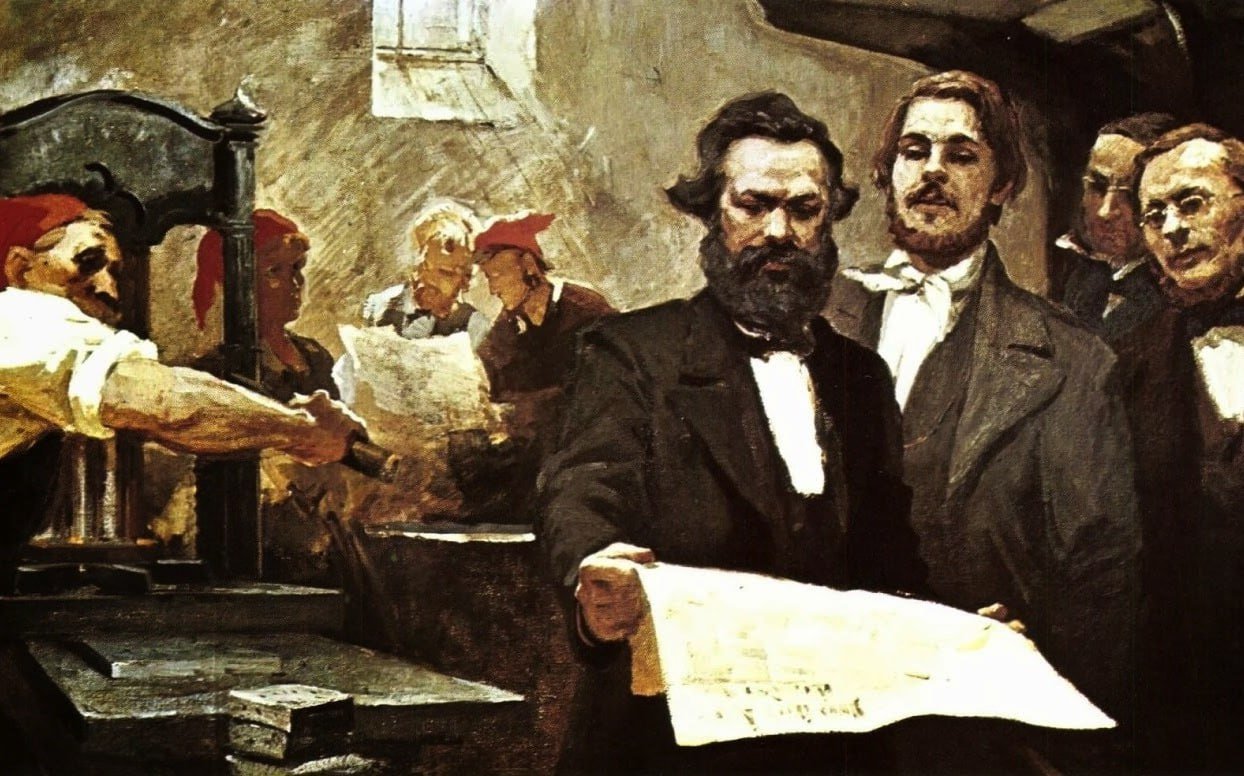
Из забавного, не говоря уже про сам вопрос еврейской эмансипации, Маркс показывает, как Бауэр вдруг резко ополчился против «философии» и начал клеймить своих врагом фразой «гегельянцы», и нам это объясняют так, что это случилось в результате знакомства с книгами Фейербаха, но сам Бауэр при этом всё равно остался гегельянцем по сути дела.
Абсолютная критика, которая никогда не переставала быть пленницей гегелевского образа мыслей, с бешенством ополчается здесь на железную решётку и стены своей тюрьмы. «Простое понятие», терминология, весь способ мышления философии, больше того — вся философия отвергаются здесь с отвращением. На её место становятся вдруг «действительное богатство человеческих отношений», «необъятное содержание истории», «значение человека» и т. д. «Тайна системы» объявляется «открытой».
Но кто же открыл тайну «системы»? Фейербах. Кто уничтожил диалектику понятий — эту войну богов, знакомую одним только философам? Фейербах. Кто поставил на место старой рухляди, в том числе и на место «бесконечного самосознания» — не «значение человека» (как будто человек имеет ещё какое-то другое значение, чем то, что он человек!), а самого «человека»? Фейербах и только Фейербах. Он сделал ещё больше. Он давно уничтожил те категории, которыми теперь швыряется «критика»: «действительное богатство человеческих отношений, необъятное содержание истории, борьба истории, борьба массы с духом» и т. д. и т. д
Но проблема Маркса здесь не только в том, что он проявил себя как антисемит. Это распространенная болезнь того времени, которую ещё с горем пополам можно понять. Проблема в том, что он ополчается против гражданского общества. Критикует гражданское общество прямо как Гегель, Дугин и любой другой консерватор. Мол это не действительная общность людей, а только квази-объединение эгоистичных индивидов и т.д. Он даже называет гражданское общество: «завершённым рабством и полной противоположностью человечности». После всех своих здравых критических выпадов против философии Целого, против пуританизма и в пользу подлинной чувственной жизни — Маркс просто снова констатирует необходимость какого-то Человечества, отвлекается от конкретных индивидов, и от их конкретных нужд и интересов, и наступает в ту же ловушку, которую сам в других вопросах критикует. Поскольку гражданское общество во все времена, включая XXI век, всегда подразумевает некую атомизацию общества, то не особо удивительно, что эта же тема звучит и здесь, при чем что интересно, Бауэр как раз говорит о том, что общество атомизировано, и это естественно, хотя и скорее вредно (выходит Бауэр, как и все его друзья, все же слонен к критике индивидуализма), поэтому государство ещё хоть как-то пытается это общество склеить, и в этом хорошая функция государства. Маркс же, напротив, возражает!
Выражаясь точно и прозаически, члены гражданского общества вовсе не атомы. Характерное свойство атома состоит в том, что он не обладает никакими свойствами и поэтому не связан никаким необходимо обусловленным его собственной природой соотношением с другими, вне его находящимися существами. Атом лишён потребностей, он есть нечто самодовлеющее; мир вне его — абсолютная пустота, т. е. лишён всякого содержания, всякого смысла, всякого значения именно потому, что атом обладает внутри самого себя всей полнотой существующего. Пусть эгоистический индивидуум гражданского общества в своём нечувственном представлении и безжизненной абстракции воображает себя атомом, т. е. не стоящим в отношении к чему бы то ни было, самодовлеющим, лишённым потребностей, абсолютно полным, блаженным существом. Нечестивой чувственной действительности и дела нет до его воображения. Каждое из его чувств заставляет его верить в существование мира и других индивидуумов вне его, и даже его грешный желудок ежедневно напоминает ему о том, что мир вне его не пуст, а, напротив, есть то, что, собственно, его наполняет.
С одной стороны это, конечно, критика нытья про атомизацию, но это такая критика, где также и сама тема атомизации подвергается высмеиванию. Даже ужасная действительность по Марксу выходит более социалистической, чем фантазии социалистов про ужасы капитализма. Но все таки эта критика скорее хороша, потому что Маркс абсолютно верно добавляет, что: «Только политическое суеверие способно ещё воображать в наше время, что государство должно скреплять гражданскую жизнь, между тем как в действительности, наоборот, гражданская жизнь скрепляет государство». Но Маркс выступает за то, чтобы государство было упразднено, а значит вместе с ним должно быть упразднено и гражданское общество, как фундамент этого здания. В представлении Маркса, не должно же быть никакого права, никаких законов, а значит не будет и гражданства, граждан, и такого формального общества. Все люди будут связаны чем-то на уровне пацанских понятий, правда Маркс приводит в пример античные добродетели в духе Рима, Спарты и Афин. Стоит, конечно, учесть и то, это скорее просто аналогия, потому что добродетели эти были порождены все же рабовладельческим обществом, а свободное общество по задумке Маркса выработает свои понятия.
Но самый лучший фрагмент всего раздела про Бауэра, да и этой книги вообще, это легендарное изложение Марксом всей истории современной ему философии, где он открестился дополнительно от философии Целого в духе Спинозы и Гегеля, и полностью расписался в том, что французский материализм это лучшее философское достижение современности. Цитата слишком огромна, чтобы приводить её целиком, поэтому прочитать её можно по этой ссылке: «Маркс про французский материализм и рационализм картезианцев». Нестареющая классика.
Глава 7. Корреспонденция Критической критики.
В седьмой главе Маркс старается показать, как критики пытаются обосновать свою интеллигентность тем, что их не принимают массы. Дескать дуализм «элита и масса» осознается с обеих сторон, и что критики значимы не только для самих же себя. Для этого они показывают переписку со своими подписчиками, где собственная позиция критиков рассматривается как бы со стороны, людьми извне. Маркс правда тут очень сильно иронизирует:
Представляя таким способом мнение критики о самой себе как мнение окружающего мира и превращая своё понятие в действительность, критика, несомненно, впадает в непоследовательность. Внутри её самой обнаруживается образование своего рода массы, именно — образование критической массы, несложное призвание которой заключается в том, чтобы быть неутомимым эхом критических изречений. Ради последовательности эта непоследовательность простительна. Критическая критика, не чувствующая себя в грешном мире как дома, должна в своём собственном доме завести грешный мир.
Хотя корреспонденты журналов Бауэра должно быть вполне реальны, Маркс рисует их настолько никчемными, что даже пытается сказать, что их переписки мнимые, что это критики говорят сами с собой, разыгрывая спектакль. Но скорее всего, это не так, и Маркс это прекрасно знает, но только хочет дополнительно уязвить. Из интересного, Маркс замечает, что критики из Берлина называют провинциалами вообще всех немцев за пределами столицы, что действительно немного несправедливо для реалий Германии, но по фразам Маркса понятно, что ему вообще не нравятся всякие столичные снобы, будь это Париж или Лондон. Маркс показывает, как благосклонны критики к тем читателям, которые буквально унижаются просят милости и снисхождения к их массовой тупости. Но среди корреспондентов есть и другие, не совсем открытые фанаты, а скорее даже «вульгарные» материалисты (наши эпикурейские слоны), которые в мягкой форме как бы намекают критикам, что они уж слишком гегельянцы и идеалисты, и слишком мало внимания обращают на изучение природы. Как говорит этот неназванный автор: «Хороший естествоиспытатель стоит в таком же отношении к философу, как последний к теологу». Хотя это подавалось мягко, как будто Бауэр не имеет отношение к кружку гегельянцев, сам Бауэр увидел в этом нападку на себя, и жестко раскритиковал обидчика, обвинив его во лжи, и начал торжественно заявлять, что сам он очень даже почитает природу и промышленные достижения. Но именно здесь, поскольку Бауэр выразил этим анонимным материалистам упрек, что они слишком напирают на природу, но слишком мало на историю, Маркс использовал это в качестве предлога для встречного вопроса, где приоткрывает первые ростки будущего «исторического материализма»:
Или критическая критика полагает, что она дошла хотя бы только до начала познания исторической действительности, исключив из исторического движения теоретическое и практическое отношение человека к природе, естествознание и промышленность? Или она думает, что действительно познала какой бы то ни было исторический период, не познав, например, промышленности этого периода, непосредственного способа производства самой жизни? Правда, спиритуалистическая, теологическая критическая критика знакома (знакома, по крайней мере, в своём воображении) лишь с политическими, литературными и теологическими громкими деяниями истории. Подобно тому как она отделяет мышление от чувств, душу от тела, себя самоё от мира, точно так же она отрывает историю от естествознания и промышленности, усматривая материнское лоно истории не в грубо-материальном производстве на земле, а в туманных облачных образованиях на небе.
Представитель «закоснелой» и «жестокосердной» массы, с его меткими упрёками и советами, выпроваживается критикой как массовидный материалист.
Т.е. Маркс здесь призывает не отрывать душу от тела, мышление от чувств, а историю промышленности от истории идеологических форм эпохи. Знаменитые базис и надстройка уже виднеются тут и рассматриваются именно в контексте борьбы за философский материализм. Дальше мы видим в цитатах самого Бауэра, как в его окружении воспринимается французское Просвещение, что немаловажно с точки зрения известного непонимания романтиками этой эпохи. Для Бауэра всё Просвещение это главным образом политические теории про социальное переустройство общества, т.е. скорее уже продукты Революции, чем философия, которая ей предшествовала. Грубо говоря, символами просвещения Бауэр видит Фурье и Сен-Симона, и называет их уже устаревшими (хотя строго говоря социал-утописты это одна из версий романтической реакции на «провал» Революции). Маркс понял, что имеется ввиду, и поэтому пишет в защиту коммунизма следующее:
Критика здесь имеет в виду, если она вообще имеет что-нибудь в виду, фурьеризм, и в частности — фурьеризм газеты «Democratie pacifique». Последний же очень далёк от того, чтобы быть «социальной теорией» французов. У французов есть социальные теории, а не одна социальная теория. Тот разбавленный водой фурьеризм, который проповедуется в «Democratie pacifique», является не чем иным, как социальным учением части филантропической буржуазии [см. наш перевод Манифеста демократии из этой газеты]. Народ настроен коммунистически и притом расколот на множество различных фракций. Подлинное движение, включающее переработку этих различных социальных оттенков, не только не исчерпало себя, но оно только теперь настоящим образом начинается. Однако всё это движение найдёт себе завершение не в чистой, т. е. абстрактной, теории, как этого хотела бы критическая критика, а в весьма практической практике, которая никоим образом не станет беспокоиться о категорических категориях критики.
Конечно же Маркс снова лжет и выдает желаемое за действительное, но все равно фрагмент неплохо отражает его взгляды в том числе и на фурьеризм Консидерана. Суть же всего раздела сводится снова к тому, что критики слишком высокомерны, и слишком пуритане. Что они пытаются изобразить из себя максимально абстрагированных от всех земных аффектов полу-божеств, аскетичных стоиков, которые обо всем судят строго с объективных внемировых позиций. На этом и построена большая часть острот Маркса.
Однако нельзя не признать, что после всей своей геркулесовой борьбы, в которой критика преследовала одну лишь цель,—отделение себя от некритической «нечестивой массы» и вообще от «всего», — она, наконец, счастливо добралась до своего одинокого, божественного, самодовлеющего, абсолютного существования. Если в первом выражении этой её «новой фазы» старый мир греховных аффектов имеет ещё, повидимому, некоторую власть над критикой, то теперь мы увидим её эстетически-успокоенной и просветлённой в некоем «художественном образе», в котором она искупает свои грехи, чтобы под конец в качестве второго, торжествующего Христа свершить критический страшный суд и после победы над драконом спокойно вознестись на небо.
Глава 8. Критическая критика в лице Рудольфа, князя Герольштейнского.
По сути последний раздел всей книги Маркса и Энгельса возвращает нас к душному анализу литературных произведений Эжена Сю. Чтобы понимать этот раздел полностью, желательно перечитать как минимум «Парижские тайны», но на самом деле оно не стоит того. Поэтому постараемся сократить этот раздел, насколько возможно. Эта глава немаленькая и состоит как минимум из 8-ми тематических разделов. Главный герой романа якобы разоблачает все тайны общества (об этом уже шла речь выше, в главе 5, про Шелиги, и теперь снова Шелиги главная жертва Маркса), он выступает как одно из проявлений гегельянского Абсолютного духа. Вот насколько хорош роман Эжена Сю. В первом разделе идет речь про персонажа романа по кличке Резака. По сути нам вкратце пересказывают сюжет романа, чтобы показать как уличный бандит Резека превратился в святошу и преданного раба нашего главного героя. Ничего особенного хорошего в этом образе нет, и это скорее с дурной стороны рисует Эжена Сю, да и Маркс почти не вставляет здесь собственных реплик, но показывает, что Шелиги очень восхитился этим убогим и карикатурным персонажем. Во втором разделе речь идет уже про главную женскую героиню романа, Флёр де Мари. Героиня выполняет метафорическую роль Божьей Матери в глазах Шелиги, и он даже грустит, что по сюжету она не была матерью главного героя, хотя должна была (кому? самой логике!). В отличии от первого раздела, здесь конструируется уже персонаж, который не совпадет с персонажем романа, это чистые фантазии Шелиги по поводу библейских сюжетов, где особая острота состоит в том, что Флёр де Мари — не мать, а дочь главного героя. В этот раз Маркс всё таки пытается показать, что правильное прочтение этого героя показывает нам не Божью Матерь, а достойного человека, который сохранил свою гордость и честь при самых ужасных жизненных обстоятельствах, он показывает нам борца. К тому же вполне осознающего причины своего бедственного положения. Конечно, он скорее прав в этом, но это не особо интересно с точки зрения анализа марксизма. Это бы увело нас в анализ самого романа Эжена Сю. Интересно только то, как Маркс вдруг упоминает стоиков и эпикурейцев:
Наконец, в противоположность христианскому покаянию, она высказывает относительно своего прошлого следующий стоический и в то же время эпикурейский человеческий принцип, принцип свободной и сильной личности: «В конце концов, что сделано, то сделано».
Когда героиня дальше превратиться в унылую зашуганную святошу, она скорее испортится, как и герой Резака, и Марксу это не нравится: «Итак, Рудольф сначала превратил Флёр де Мари в кающуюся грешницу, затем кающуюся грешницу в монахиню и, наконец, монахиню в труп». Зато такая трансформация очень понравилась консервативно-набожному и стоически настроенному критику Шелиги.
В третьем разделе, роман должен раскрыть нам некие тайны права, на примере персонажа бандита. По сюжету Рудольф, главный герой, поймает одного из злейших злодеев и, как человек якобы гуманный, противник смертной казни, он не убивает врага, а лишает того зрения, чтобы он потерял все преимущества, которыми пользовался раньше. Это якобы воспитательный акт, телесное наказание преследует духовные цели. В принципе, эти мотивы есть в самом романе, и само собой, Шелиги снова подписывается под этой логике, как под чем-то правильным. Но Маркс, которому не нравится этот эпизод романа, и уж тем более дополнительная акцентировка Шелиги на христианстве, вдруг приводит в пример Бентама, и присоединяется к либеральной критике телесных наказаний и всего современного тюремного права:
Теория наказания, соединяющая юриспруденцию с теологией, эта «разоблачённая тайна тайны» есть не что иное, как теория наказания католической церкви, как это пространно показал уже Бентам в своём труде «Теория наказаний и наград». В том же сочинении Бентам доказал также моральную неэффективность нынешних наказаний. Он называет предусмотренные законом наказания «судебными пародиями».
По сути то, что сделал Рудольф, по мнению Маркса — это аналог кастрации, оскопления, чтобы превратить человека в монаха. Но особенно Марксу нравится показывать, что наказанный персонаж по сюжету дальше ничему не научился, как это якобы должно было бы сработать, и стал по сути только хуже. В третий раз одно и тоже! Все самое бездарное в романе Эжена Сю, нравится критику Шелиги как вершины морали. Либеральный Маркс критикует этический консерватизм. Правда Шелиги тоже видит, что герой не то, чтобы исправился, и поэтому нашел там очередное тройное дно, чтобы показать мастерские скрытые метафоры авторы. Маркс возвращается здесь к тематике Бентама (и прибавляет ещё «коммуниста Оуэна», с критикой системы похвал и наказаний для «добрых и злых»), и критикуя рассуждения самого Эжена Сю про благотворность заключений в одиночные камеры и высказанную надежду автора на то, что такие наказания станут применяться все активнее, Маркс говорит:
Желание г-на Сю осуществилось лишь частично. На нынешней сессии палаты депутатов, при обсуждении вопроса о системе одиночного заключения, даже официальные защитники этой системы вынуждены были признать, что она рано или поздно приводит к умопомешательству заключённого. Поэтому все наказания, превышающие десятилетний срок тюремного заключения, пришлось заменить ссылкой.
В четвертом разделе критикуется то, что критики называют точкой зрения (абстрагируя всякую позицию от её автора, но сохраняя её низменную, не абсолютную и не объективную сущность), и Маркс здесь пытается сказать, что критики используют такую же модель, как и Гегель, который настоящих людей превращал в различные виды «самосознания». Это самосознание и является аналогом точек зрения у критиков. В длинной серии сравнений Маркс показывает, что хотя Гегель и поступал здесь глупо и в сущности был скорее плохим философом, критики умудрились пасть ещё ниже и превратить и без того убогую философию Гегеля в полный фарс. Но разбирать подробного здесь особо нечего. Это очередные рассуждения про высокомерие и невозможность достижения истинной сверх-объективности а-ля Абсолютный Дух.
Как для Рудольфа все люди стоят либо на точке зрения добра, либо на точке зрения зла и оцениваются сообразно этим неизменным категориям, так для г-на Бауэра и компании одни исходят из точки зрения критики, другие — из точки зрения массы. Но оба они превращают действительных людей в абстрактные точки зрения.
В пятом разделе речь идет уже про некую критику страстей. На примере того, как Рудольф приобщает обывателей к добродетели и благотворительности, Маркс замечает, что герой пользуется методами из книг утописта Шарля Фурье, но при этом добавляет, что «Применение этого учения опять-таки в такой же мере является критической собственностью Рудольфа, как и его выше рассмотренное применение теории Бентама». Вышло так, что под благородным предлогом Эжен Сю только доказал, что для аристократии и капиталистов нищета масс является предлогом для некой забавы, развлечения, которое принимает форму благотворительности. Все благотворительные общества и фонды Маркс, по сути, презирает (ср. критику благотворительности у Славоя Жижека). Но он здесь не расписывает почему именно, хотя можно догадаться, что это потому, что благотворители являются главной же причиной самого бедствия. Лучше бы убрали источник проблемы, а не латали последствия. В шестом разделе речь уже идет про женскую эмансипацию, и здесь все очень просто. Эжен Сю — законченный патриархал, а критик Шелиги, увидевший это, только вдвойне нападает на женскую эмансипацию. Единственное что, Маркс добавляет к этому серию цитат из книг Фурье, где критикуется современный брак и положение женщины в обществе. Действительно, для своего времени неплохие моменты (правда Маркс не обращает внимания на целую кучу сомнительной экзотики, ну да ладно). В заключение нам снова напоминают, что коммунизм это круто:
Совершенно излишне противопоставлять рассуждениям Рудольфа мастерскую характеристику брака, данную Фурье, равно как и произведения материалистической фракции французского коммунизма.
Седьмой раздел в этой восьмой главе затрагивает вопросы политэкономии. Здесь через мы узнаем якобы массу буржуазных тривиальностей, высказанной Эженом Сю, таких как неприкосновенность и святость частной собственности, или банальные парадоксы, где богатство ведет к расточительности, а она уже к бедности, и вся беда дурном, недостаточно пуританском воспитании нравов. Ну и все в таком духе. Хотя Маркс показывает и то, что Эжен Сю считал моральной обязанностью богачей — выплачивать налоги для бедных, тем больше, чем они богаче (прогрессивное налогообложение), или что предлагалось сделать государство одним из инструментов воспитания нравов в более социальную сторону. Государство даже должно заняться задачей «организации труда» (казалось бы, норм, буквально тоже самое предлагает любимый Марксом «коммунист Оуэн»). Но только Маркс почему-то упоминает это без всякой похвалы. Нам предложили «Банк для бедных», и Маркс это высмеивает, хотя уже очень скоро реально начнут появляться кооперативные банки, сберегательные кассы и т.д. Критика предложения правда сводится к арифметическому подсчету, что Эжен Сю в свой абстрактный пример заложил изначально слишком маленькие суммы денег. Ну, просчитался, бывает, но Маркс решил посвятить этому целую страницу текста.
Изобретённое разоблачённой тайной всех тайн, покоится на фантастическом представлении, что достаточно изменить распределение вознаграждения за труд для того, чтобы рабочий мог прожить в течение всего года.
Вообще практика показала, что изменение в распределении может достигать серьезных результатов, но не будем об этом. Маркс всё же коммунист, а не социалист, поэтому немного дурачок. Но все же его замечания в целом верны, и предложенные банки не продуманы, тем более что сберегательные кассы рабочих и так уже существуют, поэтому такие предложения действительно не нужны. Дальше герой романа Рудольф организует образцовую фабрику (прямо в духе «коммуниста Оуэна») на территории средневекового замка. Маркс же просто издевается, зачем-то допустив, что если бы в таких условиях жили все и каждый жители Франции, то это потребовало бы кратного увеличения производительных мощностей, а Рудольф не показывает нам никаких революционных изобретений (поэтому Маркс сам же допускает, что рабочие просто будут больше работать, а значит злой Эжен Сю хочет, чтобы мы работали без передышки и выходных). Т.е. Маркс просто говорит, что все его собственные кумиры — глупые утописты. Ну, то есть, он этого не говорит, утопистом оказывается только Рудольф из романа. Видимо «коммунист Оуэн» и все прочие, которые предлагают ровно тоже самое, это всё из категории «другое». Из интересных моментов, единственный реальных экономист, которого упоминает здесь сам Маркс, когда приводит реальную статистику по Франции, это протекционист и любимец Фридриха Листа, экономист Шапталь.
Ну и последний, восьмой раздел восьмой главы книги, это итоговое резюме по роману «Парижские тайны», где нам просто напоминают все уже сказанное выше, с критикой христианского морализма как самого Эжена Сю, так и его главного героя и его фанатов из рядов критических критиков. В этом разделе больше внимания уделяется уже не поступкам персонажа Рудольфа, а тому, как и почему этого герой стал настолько ужасным уродом по сути дела. Ничего особенного интересного здесь нет, но Маркс пытается демистифицировать вообще любой образ благородного и социального аристократа. В итоге романа борец против смертной казни и садист Рудольф сам совершает смертную казнь.
«Добрый» Рудольф! Лихорадочный пыл его мстительности, его жажда крови, его спокойное и продуманное бешенство, его лицемерие, казуистически прикрашивающее всякое злонамеренное движение его души, — всё это как раз те дурные страсти, в наказание за которые он другим выкалывает глаза. Только счастливые случайности, деньги и ранг избавляют этого «доброго» от каторги. «Могущество критики» делает этого Дон Кихота, в виде компенсации за его ничтожество во всех других отношениях, «добрым жильцом», «добрым соседом», «добрым другом», «добрым отцом», «добропорядочным буржуа», «добрым гражданином», «добрым принцем» и как там ещё гласит дальше эта гамма хвалебных песнопений г-на Шелиги. Это больше, чем все результаты, добытые «человечеством во всей его истории». Этого достаточно, чтобы Рудольф мог дважды спасти «мир» от «гибели».
Глава 9. Критический страшный суд.
В последней, итоговой главе своей книги, Маркс и Энгельс просто выливают всю свою иронию, преимущественно по поводу формы подачи материала критиками и их личного высокомерия. Это самая слабая сторона книги, которая заняла больше всего места. Более сильной стороной книги стала критика этического консерватизма, но увы, она заняла меньше места, и преимущественно в сложной и малопонятной для читателей форме анализа романа «Парижские тайны», причем Маркс местами даже делает Эжена Сю чуть-ли не сознательным напарником и соратником немецких «критиков». Сами эти критики, несмотря на явные недостатки, на часть из которых указывают нам МиЭ — скорее лево-либералы, во многих отношениях даже достаточно прогрессивные для своего времени. И такая язвительная критика вызывает некоторое недоумение, а иногда выходит даже очень неудачной. Но в целом, Бруно Бауэр и компания действительно скорее заслужили такое отношение к себе по праву. Несмотря на то, что Маркс пытался показать что такое настоящий материализм и настоящий коммунизм, у него это не совсем получилось, и по большей части из этой книги мы только узнаем, что лево-либералы или даже буржуазные социалисты — это плохие люди. Можно только пожалеть, что мишенью стали они, а не какие-то действительные враги борцов за прогресс. Благо, пока что Маркс ещё рассматривает себя в одном лагере не только с коммунистами, но и с радиальными либералами а-ля Бентам. Лучшие фрагменты книги, снова же, напоминаю, эти два: «Маркс про французский материализм и рационализм картезианцев» и «Высмеивание философии Целого». Их советую прочитать всем. Но как и с Бентамом, если сначала он выдавал такие крутые посты, то позже начнет говорить вещи прямо этому противоположные. Маркс все чаще будет соглашаться с рационалистами и осуждать французских материалистов, все глубже будет погружаться в коммунизм, и презирать таких людей, как Бентам.
Из плюсов можно выделить, кроме того, что Маркс ещё не слишком далеко оторван от настоящего материализма, некоторые его высказывания в чисто коммунистическом духе, которых не было раньше. Например: «в пределах всего антагонизма частный собственник представляет собой консервативную сторону, пролетарий — разрушительную. От первого исходит действие, направленное на сохранение антагонизма, от второго — действие, направленное на его уничтожение». Или «С победой пролетариата исчезает как сам пролетариат, так и обусловливающая его противоположность — частная собственность». Сюда также можно добавить фразы про «Пролетариат приводит в исполнение приговор, который частная собственность, порождая пролетариат, выносит себе самой» и «Дело не в том, в чём в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на самом деле и что он, сообразно этому своему бытию, исторически вынужден будет делать». Очень детерминистическая фраза, учитывая что сам Маркс в этом тексте критиковал детерминизм и игру в логику истории. Сюда же можно добавить и то, что мы уже говорили о необходимости изучения истории производства и промышленности, чтобы понять настоящую историю, и тогда не трудно увидеть, что уже в 1844 году Маркс и Энгельс выступили с идеями, которые почти в таком же виде перекочуют в зрелые работы и так и останутся сердцевиной всего их учения.
Это мое резюме, а то, как заканчивают Маркс и Энгельс, это просто забавно с точки зрения формы иронии, поэтому приведу эту главу здесь целиком (она не большая).
Критическая критика дважды через Рудольфа спасла мир от гибели, но только для того, чтобы теперь самой провозгласить гибель мира.
И я слышал и видел, как вознёсся над Цюрихом могучий ангел по имени Хирцель и пустился вдаль, прорезывая небесную сферу. И в своих руках он держал раскрытую книжку, как будто выпуск V «Allgemeine Literatur-Zeitung». И поставил он правую ногу на массу, а левую ногу на Шарлоттенбург. И закричал он громким голосом, словно лев зарычал, и слова его поднялись подобно голубю — цирп! цирп! — в сферу пафоса и к громоподобным аспектам критического страшного суда.
«Когда, наконец, всё соединится против критики, — и срок этот, [истинно, истинно говорю вам — вставки Маркса], уже недалёк, — когда весь разрушающийся мир, — [ему было предназначено судьбой бороться со святыми], — сгруппируется вокруг неё для последнего натиска, тогда мужество критики и её значение получат величайшее признание. Исход борьбы не должен нас тревожить. Всё закончится тем, что мы подведём счёты с отдельными группами, — [и мы отделим одних от других, подобно тому как пастырь отделяет козлищ от овец , и мы поставим овец одесную, а козлищ ошуюю] — и выдадим всеобщее свидетельство о бедности вражескому рыцарству, — [это духи дьяволов, они обходят все страны мира и собирают их на борьбу к великому дню господа, всемогущего творца, — и изумлены будут живущие на земле]».
И когда ангел это возглашал, гремели голоса семи громов;
«Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla.
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, adparebit,
Nil inultum remanebit.
Quid sum, miser, tune dicturus?» etc.
Вы услышите гул битв и клики воинств. Всё это должно сперва, произойти. Ибо восстанут лжехристос и лжепророки, гг. Бюше и Ру из Парижа, гг. Фридрих Ромер и Теодор Ромер из Цюриха, и скажут: се есть Христос! Но тогда явится знамение братьев Бауэров в критике, и исполнится слово Писания о творении Бауэров [Bauernwerk, игра слов, которая также значит «крестьянская, или грубая работа»]:
«Когда волы идут попарно в ряд,
Тогда и пахота идёт на лад».
