
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Версия на украинском
Статья о жизни и философии Джузеппе Мадзини — будет здесь.
Обзоры на другие книги Мадзини: 1. «Письмо к Карлу Савойскому»; 2. «Философия музыки»; 3. «Обязанности человека»; 4. «Вера и будущее»; 5. «Ранние эстетические сочинения»; 6. «Политические сочинения».
Это последняя из цикла статей по наследию Мадзини. До этого мы уже разобрали все основные работы на тему политики и первую половину его эстетического наследия. Тогда мы остановились на трактате «Философия музыки» (1836). Грандиозная задумка Мадзини о созданию библиотеки драматургии так и не было реализовано, он решил не заниматься старьем, и сместил акценты на новую драматургию, решил писать рецензии на актуальную литературу. В планах был внушительный список, рецензии на постановки Виктора Гюго, Гёте, Байрона и ещё многих других мелких немецких авторов. Он сделал подготовительную статью «Виктор Гюго» (1836), о самом авторе, и даже критический разбор пьесы Гюго «Анжело, тиран падуанский». Их мы не будем рассматривать, из-за отсутствия русского перевода и нежелания искать оригиналы. Но судя по доступным комментариям, Мадзини считал, что Гюго уже заходящая звезда, и что самое значимое в своей карьере он уже сделал. А в обзоре пьесы, который носил ещё и подзаголовок «Долг и задачи критики», Мадзини даже вознегодовал на слабость современных критиков:
«Почему истинно великие художники, Эсхил, Шекспир, Шиллер, Гёте, до сих пор не стали предметом глубокого эстетического анализа, освещённого единым основополагающим синтезом? Почему на нашей земле, колыбели драмы, молодежь все ещё обречена воспитываться на нелепых теориях французов — Д`Обиньяка, Баттё и Лагарпа или на чисто художественном, не имеющем социальной цели романтизме немца А. Шлегеля?».
По крайней мере видно, что немецкие романтики его всё сильнее не устраивают своей идеалистической оторванностью от мира. Но из-за цензурной политики в Италии он передумал заниматься этой темой, и написал ещё только одну рецензию на «Двадцать четвертое февраля» (1838) Захарии Вернера. Для этого издания Мадзини написал даже обширные биографические заметки о Вернере, в которой описан юноша, прошедший длинный духовный путь к мистицизму; юноша, уверовавший, что он пророк, главная мысль которого «растворение Я в бесконечности». Зная идеи Мадзини, кажется, что он должен был сочувствовать этому всему, но из кратких комментариев это не ясно.
Три эпохи в драматургии
В общем, обзор самой пьесы Вернера носит название «О роке, как элементе драмы» (1838). Статья начинается с объяснения названия пьесы Вернера — «Двадцать четвертое февраля». Это дата смерти матери автора. Такое объяснение тут же задает тон всему анализу, теперь пьеса неуязвима для критики, и её можно только хвалить. Если кто-то посмеет сказать что-то плохое, то этим будет нанесено оскорбление самой Вселенной, нельзя бездушно подходить к произведению, суть которого в выражении скорби по умершему. На этом можно было бы закрыть статью.
«Когда поэт, как жертву, кладет перед вами свою душу, когда он говорит вам: Смотри, я тот, кто плачет, — и истинно плачет, и плачет вместе с вами, плачет, возможно, потому, что не смог плакать с другими, — неужели вы возразите ему Аристотелем? Осмелитесь ответить ему, как Данте ответил грешникам? Нет, вы будете проливать слезы вместе с ним. Перед выражением мучительного горя или глубокого ужаса всякая критика нема. Мы сначала люди, потом критики».
Но Мадзини всё таки попытается высосать из этого слащавого воспевания поэтического гения, выражающего чувства горя, после всех этих бесконечных «бла-бла» — пытается сказать что-то о драматургии в принципе. Непонятно почему именно, но Мадзини решил, что эта пьеса, может из-за грамотного выбора антуража и места действия (пустынные альпийские горы), создает отличные возможности для реализации представлений о божественном провидении, о Роке и слабости индивидуального человека перед высшими силами и божественным проклятием. По мнению Мадзини, сама эта тема очень важна, и пока её никому не удавалось реализовать также хорошо, как это делали античные авторы. Он даже привел примеры того, как критики того времени считали, что переносить античные сюжеты на бытовые сюжеты современности — пошлость. Во-первых, как можно догадаться, они должны были переживать, что этот прием будет выглядеть слишком пафосно для такого неприглядного материала, а во-вторых, «Когда рок переносится в среду простонародья, судьба Атридов — в хижину альпийских пастухов, ужас чрезмерен, ибо слишком близок к нам». Но Мадзини не согласен с ними, и не хочет оставлять право на такое величие только для монархов. Да и если бы даже были выбраны какие-то короли Людовики или Карлы, то перед нами была бы очередная пьеса в стиле классицизма, а мы же романтики, должны бороться с этим.
«Попытка возродить в современной драме старый догмат о роке нашла в Вернере, насколько я знаю, свое лучшее воплощение; и если бы последние слова поэмы и характер персонажей не указывали на то, что автор ее христианин и живет в близкие нам времена, можно было бы подумать, что перед нами случайно найденный фрагмент Эсхила».
Здесь можно даже заметить, что и в политических сочинениях Мадзини очень сильно ощущается влияние Эсхила и Софокла. Он ведь и сам, критикуя систему прав и свобод, как источник зла в мире — сталкивает земное, позитивное право, с божественным правом, буквально рисуя тот же выбор, который поставлен в «Антигоне», и выбирает сторону божественного. И здесь Мадзини много, даже очень много пишет про Эсхила и восхваляет его. Пишет он правда и про других драматургов, про Шекспира и Шиллера. И все они втроем — гении, выразившие каждый свою эпоху в искусстве. Да, здесь снова рисуется около-гегельянская, или сен-симонистская в своей основе — теория прогресса, поступательного развития и смены эпох, которая пронизывает все сферы жизни, все явления природы, в том числе и искусство, и драматургию в отдельности. Здесь Мадзини очень много пишет о своих представлениях про дух античности, почему Эврипид — поэт упадка, почему именно Эсхил смог стать мастером в изображении Рока, как это связано с жизнью древних греков и их религиозными представлениями, и почему даже тогда, когда в античности появляется идея свободы воли и индивидуализма (где Мадзини прямо намекает на Эпикура) — поэзия уже умерла, и не смогла реализоваться в отрыве от религиозного давления. Короче, это обыденные представления того века, которые разделял и Маркс, считавший что в античности не было личности, что все они были стихийными коллективистами т.д. Но в изложении Мадзини есть интересные углы, которые просто слишком долго было бы расписывать здесь. Здесь я отсылаю вас к прочтению самой статьи в оригинале.

Отдельных похвал удостаивается пьеса Эсхила «Прометей», в которой Мадзини видит робкие попытки показать борьбу принципа свободы против Рока. Приведу одну из цитат, тем более что здесь Эпикур уже называется прямо:
«Молчание титана есть первый триумф духа над материей, нравственной энергии и свободного разума — над произволом неумолимой власти. И если раньше читатель покорялся вместе с героем драмы и повергался ниц перед судьбой, то в «Прометее» он вместе с ним восстает; и из груди человека, способного понять молчание Прометея, прорывается крик: «Я взойду на твою скалу, я разделю твои муки и твой подвиг — ибо твои надежды бессмертны, и потомки поднимут перчатку вызова, которую мы, принося себя в жертву, сегодня бросаем!». И потомки подняли её. Греческая философия сделала то, чего не могла поэзия. Предчувствия Эсхила оправдал Эпикур. Когда примерно за три века до Христа он заявил, что нет закона необходимости для мысли, то он подвел итог всей той работе эмансипации, которую вели греческие философские школы».
Пересказывать дальше, лично мне, уже не так интересно, тем более что автор действует с натяжками. Открытие Эпикура, само собой, привело к индивидуализму и краху античного мира. Христианство смогло взять его открытие, и соединить с принципом равенства людей, создав таким образом новый, плодотворный синтез. Средние века якобы стали выражением эпохи Личности, отдельного Человека. И по мнению Мадзини здесь драматургия должна была бы расцвести. Но увы, факты говорят об обратном, поэтому он проворачивает фокус — эта вторая, средневековая эпоха, продолжается аж до краха ВФР. А поэтому можно закрыть глаза на отсутствие серьезной драматургии в III-XIII вв., и объявить что дух эпохи смог выразить Шекспир. Подумаешь, пришлось прождать каких-то несчастных 1000 с лишним лет вообще без драмы, хотя эпоха якобы создана для воскрешения драматургии. Такие мелочи Мадзини не тревожат, когда перед ним цель — втиснуть историю в триадичную схему. Короче, в пьесах Шекспира идея эпохи достигла завершения, это пьесы о торжестве Человека и Личности. Новая эпоха впереди, это эпоха Долга, Бога и Социальной драмы. Пока ещё мы к ней не пришли, люди только ищут для себя Бога, некое Небо. А без него полноценной драмы с Роком не получится. Именно поэтому в XIX века так мало великих пьес. У новой эпохи ещё нет своего гения-выразителя, а Шиллера нам предлагают лишь как пробный камень, как неплохой вариант и прообраз.
На самом деле схема ещё примитивнее, чем кажется на первый взгляд. Античность писала пьесы под идеей доминирования Рока. Средневековье оказывается под влиянием идеи Свободы личности (правда Мадзини пытается свести её к другому пониманию рока, как детерминизма причин и следствий). И конечно же — это две глупые гипертрофированные крайности. Следующая, Третья эпоха — обязана быть синтезом. Возвратом к небесному, божественному величию, но уже с реализацией принципа свободы:
«Наступило время вновь подняться к небу — но не с тем, чтобы, как в эпоху рока, сложить человеческую свободу у ног бесконечной силы, и не с тем, чтобы истощить ее, как в эпоху необходимости, в кругу бесцельных и бесследных индивидуальных усилий. Ни та, ни другая система возродить драму уже не способна. Первая может создать трагический момент, но не трагическое действие, вторая лишает искусство какой бы то ни было благородной цели и обрекает его на материализм; первая перечеркивает человекА, вторая искажает его природу, отвергая его социальное призвание, единственное, что возвышает человека над другими животными существами…
[…] Итак, существует закон — цель — миссия — долг. Задача в том, чтобы согласовать эти идеи со свободой. Эпикур и Гоббс ошиблись оба; оба виновны в том, что, исказив человеческую природу, они сказали ложь о ней. Над двумя их системами возвысится третья, третья формула обнимет две предыдущие и сочетает их в гармонии!».
Непонятно правда, почему здесь две эпохи выражают Эпикур и Гоббс, если и эпикурейская философия была философией свободы, но в эпоху античности. Но в любом случае, надо обвинить злых материалистов, это понятно. Ну и синтезом будет, конечно же, философия Мадзини, изложенная им в своем наиболее полном виде в книге «Обязанности человека». Там случится соединение Бога и Человека через Человечество и через Нацию. Свобода будет реализована именно на таком обобщенном уровне, и Человечество будет писать священное писание, его новые главы, как историю самого себя. Это не такая сложная концепция, как кажется в этом кратком пересказе, но чтобы лучше её понять — отсылаю к «Обязанностям человека». В общем, эта новая эпоха получит своего нового выразителя, а драма почему-то будет называться Драмой Провидения. Так и выходит, что сменяется три разновидности одного и того же понятия: Рок -> Необходимость -> Провидение. Каким образом Шиллер нащупал подходы к этой третьей эпохе, я уже расписывать не буду, всё равно это просто набор пафосных фраз без содержания.
Кризис культуры в Италии 1830-х
После эмиграции в Англию, первой публикацией Мадзини в этой стране стала статья «Литературное движение в Италии» (1838). Цель этой статьи — познакомить англичан с итальянской культурой, которая, вопреки распространенному в Европе мему, совсем не умерла, хотя и находится в подавленном состоянии. Само движение романтизма возникло в Италии якобы даже раньше, чем во Франции, и поэтому не стоит недооценивать итальянцев. Но он начинает рассказывать о ситуации в Италии так бегло, что почти не описывает этих самых, забытых авторов, а только называет их по фамилиям, без имен, как будто они уже и так должны быть всем известны. Из такого изложения можно только понять, что Чезаротти, Альфиери, Парини и Монти — крутые борцы против академизма. И всё. Точно также он бегло называет ещё несколько фамилий, и толком не раскрывает ничего о них. Ни имен, ни жанров, в каких они работали, практически ничего, кроме пустых высокопарных выражений о том, как они что-то там возвышали до небес. Из всего этого несвязного бреда можно только сделать вывод, что они были почему-то, непонятно почему — великими, и это должно быть связано с тем, что они черпали вдохновение у Данте. В первой части статьи он пытается описать некую «школу Монти», но выходит, что скорее критикует ее, чем показывает пример жизненной литературы в Италии, и да, всё ещё не назвал Монти по имени, чтобы читатель точно запутался в попытках искать его труды. Волна романтизма, если верить Мадзини, подняла небывалый до этого всплеск интереса к Данте, и согласно мнениям самого Мадзини и его кумира Уго Фосколо — Данте был итальянским патриотом, пророком единой Италии, и человеком, который в 1830м году ну вот прям точно не заискивал бы перед Папой, Австрией или Францией. Ну вот прям точно!
Теперь в Италии доминирует «школа Мандзони», которым патриоты вдохновляются ради политической борьбы, хотя по мнению Мадзини он уже давно устарел, но держится за неимением достойных альтернатив для лагеря патриотов. Правда подлинной национальной литературы не может быть в стране, которая ещё даже не смогла объединиться. Мандзони критикует феодальное общество, аристократию, хотя в Италии это всё якобы не так влиятельно, как в других странах Европы, а потому выходит, что Мандзони стреляет мимо цели. Целью же должна быть… ну, вся та длинная программа Мадзини про веру, долг и т.д. и т.п., о чем мы уже писали в десятке других обозрений этого цикла. И снова выходит, что желая показать предвзятым англичанам, что в Италии всё не так плохо, нас зачем-то убеждают, что там доминируют посредственности, которые не могут создать ничего поистине выдающегося, как того хотел бы Мадзини. И даже школа, созданная вокруг собственного кумира Мадзини, и всё равно рисуется так, что посторонний читатель увидит очередной пример упадка, а не бурной жизни:
«Рядом с этой школой стоит другая, эманация Фосколо и, в более широком смысле, Байрона. Энергия, сила — вот ее преобладающие черты. Ее писатели не скрывают своей цели, они не прячутся на окольных тропах: они смело идут по прямому пути. Девиз «НАЦИЯ» начертан на их знамени, и приказ, которому они повинуются — «ВЕЧНАЯ БОРЬБА». Но их патриотизм — это подозрительный, враждебный, мстительный патриотизм средних веков. Борьба, которую они провозглашают и которою дышит каждое их слово, есть борьба против угнетения в своей стране и против иностранного влияния, против всего мира и даже против самого бога, когда им кажется, что, терпя торжествующее вокруг них зло, бог защищает его. Сильные своим энтузиазмом, а более того, страстью, они разливают ненависть сильнее, чем любовь..»
По сути, это был самый хвалебный отрывок вообще в книге, и тот заканчивается за упокой. А дальше продолжается в таком же духе, с такими же контрастами, и выводом о недостаточности их таланта. Мадзини приводит в пример и других знаменитостей Италии, и всё равно они все какие-то ну вот плохие, все ему не нравятся, вся Италия порождает только дерьмовых писателей. Вот это я понимаю, пропаганда родного края, чтобы последний англичанин понял, что ошибался, когда думал, что Италия в полном упадке! Нет, у нас не 5-6 плохих авторов, орет Мадзини, у нас их 20-30, и все дерьмо. Единственное что Мадзини может сказать хорошего про литературу Италии, что большинство ее авторов всё таки начали продвигать патриотизм. Но и здесь ещё не все прекрасно, и в литературе ещё окопалоть много врагов, классицистов, которые вставляют палки в колеса, причем судя по описанию, они даже умудряются доминировать в этой прекрасной, живой Италии, где бездарность помыкает бездарностью. Не правы англичане, ох не правы, когда считают Италию мертвой! Мадзини изо всех сил доказывает, что она даже хуже мертвой. И вся эта пустота и ничтожность царит в Италии ну прямо таки везде, и в литературной критике, и в философии. Отрывок о философии я приведу целиком, поскольку он касается школы французских Идеологов и традиции эпикуреизма:
«Насколько философские занятия все ещё отстают в Италии, ясно уже по тому преувеличенному значению, которое придается людям, безусловно талантливым и ученым, но не истинным философам, — таким, как Галуппи, Розмини и сам Романьози, в чьих идеях о философии и истории по крайней мере не видно подлинного философа. У меня нет здесь необходимого места для разбора этих писателей и положения философии в Италии; но скажу, что итальянский разум еще недостаточно освободился от влияния французских философов XVIII века. В принципах, как и в методе, у нас еще безраздельно царит метафизика школы Вольтера, более или менее видоизмененная философия сенсуализма. И если даже отвергается ее основной принцип, то практические методы, дух исключительного анализа, привычка видеть часть, а не целое, индивидуализм, наклонность к скепсису, надменность, ирония и прочие традиционные черты этой школы ещё остаются наследием всех тех, кто занимается в Италии философией. Романьози, не моргнув глазом, осуждает философию Гегеля и всех других немецких мыслителей, судя о них по первым двум попавшимся под руку страницам краткого французского изложения. Итальянская философия до сих пор пребывает в бездействии, слепо преклоняясь перед Романьози, и влияние последнего грозит сделаться столь же пагубным для юности, как влияние Ботта. Италии необходимо расширить сферу своих наблюдений и исследовать философские достижения эпохи. Она должна, окрепнув в изучении проделанных в других странах попыток синтеза, вернуться затем к собственной философской школе Бруно, Телезио и Кампанеллы. В этой школе она найдет зародыш слияния философии с верой, и на ее основаниях возникнут учреждения, которые одни только смогут вернуть ей величие».
Скорее всего перед нами очень больше преувеличение, но приятно слышать, что даже в 1838 году (!) в Италии якобы тотально доминирует эпикурейский материализм. Правда, среди перечисленных философов он назвал Галуппи и Розмини, а эти двое были в общем-то близки к кантианству и рационализму, и выступали как сознательные враги школы Кондильяка… и всё того того же Романьози, но ладно уже. Но под конец статьи Мадзини таки выдавил из себя что-то хорошее. Все лучшие итальянские сочинения, оказывается, связаны с итальянскими эмигрантами, конечно же, с «Молодой Италией», и с людьми, которые переводят немецких идеалистов на итальянский язык, в том числе с такими, даже в чем-то интересными фигурами, как Джамбаттиста Пассерини (1793-1864).

В небольшой статье «Поэзия. — Искусство» (1837) Мадзини выступает с критикой классического романтизма. Движение существует уже около 40 лет, но где ожидаемые результаты? Ничего, кроме сплошного пессимизма и разочарования поэтов. Революционный потенциал нового движения не оправдался. Поэтому он говорит:
«Романтическое движение было лишь попыткой освобождения, не более того. Оно больше разрушило, чем создало.
Самобытность, идея патриотизма, дух Европы восстали против легитимизма аристотелевских правил; но, разбив свои цепи, они оказались в пустоте».
Мадзини буквально обвиняет большинство романтиков в том, что они индивидуалисты, прямо как люди из прошлой эпохи, люди зараженные материализмом! Оказалось, что разницы почти нет: «Человек царит в их песнях, человечество — никогда». В общем, он просто снова призывает поэтов обновить свою философскую прошивку, и работать на эпоху будущего, на Человечество и социального человека. Статья в общем-то маленькая и её цель в том, чтобы пристыдить романтиков. Потом он публикует «Отрывок неизданной книги под названием «Два заседания академиков-пифагорейцев»» (1839), первые наброски которой обнаруживаются ещё в черновиках 1829 года. Несмотря на такое название, пифагорейской философии здесь почти не будет. Просто когда-то давно (1810) его кумир Уго Фосколо поместил в миланских «Анналах наук и искусств» сочинение под названием «Отрывок неизданной книги под названием Отчет об одном заседании Академии пифагорейцев», где вполне современные итальянцы, задорные и веселые, где никаким академизмом даже и не пахло, просто обсуждали статью какого-то миланского литератора. Мадзини таким образом просто сделал отсылку на эту работу и написал как бы её продолжение. В итоге это просто спор разных членов этой организации по поводу литературы, где Мадзини, снова пересказывает всё то, что мы уже видели в его статьях и книгах. Но это уже попытка облечь свою теорию в литературную форму. От теории к практике, так сказать. Вышло, на мой взгляд, очень плохо.
В середине 1839 года Мадзини пишет статью в честь двух людей, которых он сам раньше называл величайшими литературными светочами уходящей эпохи — «Байрон и Гёте» (1839). По началу он просто хвалит их, как обычно нагромождая пафосных фраз о величии, и повторяет некоторые свои мысли о том, что эти двое своими творчеством закрыли прошлую эпоху индивидуализма и т.д. Они оба раскрыли этот индивидуализм по разному, Байрон с субъективной, а Гёте с объективной стороны. Но вообще, если очень упростить, то все сводится к тому, что Байрон крутой революционер, с сильным духом, но за счет своей большей индивидуалистичности — хуже чем кабинетный Гёте. В его оценках Гёте интересен разве что отрывок про пантеизм:
«Гёте называли пантеистом. Я не знаю, какой смысл вкладывают в это двусмысленное и обычно плохо понятное слово произнесшие его критики; ведь есть пантеизм материалистический и пантеизм спиритуалистический, есть пантеизм Спинозы, пантеизм Джордано Бруно, пантеизм св. Павла и многих других, и все разные; но поэтический пантеизм возможен лишь тогда, когда весь мир явлений охватывается единой концепцией, когда поэт чувствует жизнь вселенной в ее божественном единстве и живет ею. Ничего этого нет у Гёте. Пантеизм есть в нескольких отрывках Вордстворта, в третьей песне «Чайлд Гарольда», в поэзии Шелли; но его нет в самых блестящих произведениях Гёте, ибо жизнь великолепно схвачена и изображена у него в каждом из ее последовательных проявлений, но никогда в целом. Гёте — поэт деталей, не целого, поэт анализа, не синтеза…
[…] Нет, Гёте как поэт вовсе не пантеист; он политеист; в своей жизни он язычник современной эпохи».
Так или иначе, они друг друга дополняют, и приходят в очень похожему итогу: «Гёте, поэт индивидуальности в её объективной жизни — к эгоизму безразличия; Байрон, поэт индивидуальности в её субъективной жизни — к эгоизму отчаяния». Короче говоря, нам надо с ними попрощаться, ведь несмотря на все свое величие, они, как не трудно заметить, были дерьмом и уродами. Конечно, Мадзини так не говорит, он их очень чтит и любит. Но стоит приложить все те же характеристики и эпитеты к любому другому человеку, и Мадзини тут же начнет оценивать такого человека не больше, чем грязь под ногами. Индивидуализм и т.д. для него слова-ругательства. И здесь он или сознательно, или бессознательно, но сдерживается, только потому что ублюдками оказались его любимые поэты. Хотя скорее сознательно, потому что потом он даже попытается их оправдывать, что мол не они такие, а жизнь такая, и нельзя было не испортиться под влиянием такой испорченной эпохи. И всё же Мадзини проводит их в последний путь и призывает нас всех с ними попрощаться. Нас ждет будущее, которое нарисовал сам Мадзини. И оно вполне уже банальное, как и во всех других его сочинениях. Но в этот раз я даже процитирую этот набор тезисов ещё раз:
«Выше Байрона и Гёте, выше этих двух половинчатых существований, там, где пересекаются стремления этих двух поэзий, рвущихся к небу и не могущих его достичь — там я вижу иную Поэзию. Это Поэзия будущего, поэзия Человечества, и в ней будет Гармония, Жизнь, Целостность, Единство. Но потому лишь, что мы уже предвидим сегодня, хотя и очень отдаленно, новую социальную поэзию, призванную воспеть назначение человека и дать мир страждущей душе, научив ее восхождению к Богу через Человечество, должны ли мы на пороге эпохи, к которой без этих поэтов мы не смогли бы подойти, осуждать их за то, что, придя в мир намного раньше нас, они успели лишь заполнить своими гигантскими телами пропасть, перед которой мы медлили в страхе и нерешительности?».
Ну и заканчивается этот цирк из псевдо-похвалы и скрытого самовосхваления Мадзини, тем что он целых две страницы восхищается духом Байрона, тем как он пафосно умер в Греции, как много в этом символизма и т.д. и т.п.
Возврат к Данте. Макиавелли и Карлейль
Мадзини читал лекции о Данте в организованной им вечерней школе для итальянских рабочих в Лондоне. На основе одной из этих лекций он составил и опубликовал статью «Данте» (1841). Как и в аналогичной работе из юности Мадзини, написанной ещё в 1826 году, здесь он из кожи лезет, чтобы доказать, что Данте был итальянским патриотом, националистом, пророком единства Италии и её будущей центральной роли в жизни всей Европы и мира. Он приписывает Данте многие собственные фразы, например девиз «Мысль и Действие», якобы вдохновлены мудростью Данте, который соединял в себе теорию и практику. И вот, через призму националистического патриотизма, нам пересказывают биографию Данте, домысливая мотивы националиста в некоторые из его поступков, чтобы ещё сильнее было похоже, будто Данте в 1840е годы выступил бы против Папы и иностранных влияний, и вместе с Мадзини вступил в ряды патриотических войск. Вкратце нам описывают борьбу гвельфов и гиббелинов, чтобы сказать, что Данте был выше партийных расколов, за единство Италии (и то, что он был частью гвельфов, то была юридическая формальность). Но жонглирование фактами не прекращается, и вот уже через пару строк непримиримый Данте, который никогда бы не искал помощи извне… начал искать помощь извне, сделав ставку на немецкого Императора. В трактате «Монархия», которым так восхищается Мадзини из-за содержащегося в ней рассуждения о Единстве, через призму философии целого (т.е. убогой идеалистической и псевдо-пантеистической философии), Данте буквально призывает возродить древнюю Римскую Империю, далеко не только на основе Италии, а как громадное политическое образование, объединившее в себе всех христиан. Мадзини же видит в этом сугубо итальянский патриотизм.
Ещё до 1830 г., Мадзини хотел заполучить редкую рукопись своего кумира Уго Фосколо, где тот писал на тему «Божественной комедии» Данте. Но только в 1842-43 гг. он смог добыть эти рукописи и опубликовать их под названием «Комедия Данте Алигьери, объясненная Уго Фосколо». Издание оказалось убыточным, но Мадзини и не ожидал от него прибыли. Это было очень качественное издание, и на уровне самой бумаги и печати, и в плане добросовестности. В четвертом и последнем томе издания находились «Хронология событий», с цитатами из произведений Данте, и «Замечания» о 200 различных списках «Комедии» и ее изданиях, указателях и словарях. К этому изданию Мадзини, само собой, приложил и собственное предисловие. В сборнике, который я читаю, содержится очень краткий фрагмент из этого предисловия, или просто какая-то заметка в газете по поводу этой публикации, но сама по себе она никакой ценности не несла бы, если бы не несколько интересных упоминаний.
Не считая того, как здесь восхваляется сам Фосколо, за якобы верно уловленный дух Данте и т.д., и не говоря об очередном повторе той темы, что Данте был националистом, таким что может показаться, будто это сам Мадзини отправился в прошлое на машине времени, интересными можно назвать всего два комментария. Один из них уже прямо связывает Мадзини с философией пифагорейцев, а второй просто показывает, насколько высоко Мадзини ставил этико-политические сочинения Данте:
«Начинать изучение надо с жизни Поэта, с той традиции итальянизма, выразителем и гениальным продолжателем которой он был, с его «Малых произведений», задуманных им как подготовка к Поэме, и лишь затем уже переходить к «Божественной комедии», завершению здания, поэтическому выражению идеи, политическая сторона которой развита в «Монархии», философская — в «Пире», литературная — в книге «О народном красноречии». Ибо Данте есть могучая Целостность: личность, которая, как в зародыше, заключает в себе суть и лицо нации…
[…] И когда мы сделаемся достойными Данте, то помимо всего этого в оставленных им книгах мы найдем язык, о котором и не подозревают завладевшие сейчас итальянской словесностью дряблые писатели, офранцузившиеся, онемечившиеся, испорченные всеми влияниями, но кричащие о своей независимости, — мы найдем истинно национальную философию, связующее звено между итальянской школой Пифагора и итальянскими мыслителями XVII века, — мы найдем основы Поэзии, этой посредницы между действительным и идеальным, между землею и небом, посредницы, которую утратила омертвевшая от безверия и эгоизма Европа.. ».
Побочным результатом работы над рукописями Фосколо стало написание статьи «Малые произведения Данте» (1842), собственно об этих же сочинениях из цитаты выше. Первым делом Мадзини обращает внимание на то, как в последнее время в самых разных странах Европы начали активно обращать внимание на фигуру Данте. Здесь снова повторяется тоже самое, что уже говорил Мадзини в юности, 16 лет тому назад, что Данте не разменивался на мелочи, не поддерживал раскол итальянцев на партии и был патриотом: «Для одного из писателей Данте гвельф, для другого — гибеллин, для всех или почти для всех — правоверный католик. Нет, Данте не был ни католик, ни гибеллин или гвельф: он был христианин и итальянец». Эта статья мало отличается от всех прочих по Данте, кроме одного важного различия — здесь Мадзини приводит очень обширные фрагменты из трактата «Монархия», пытается объяснить свою националистическую трактовку с примерами, сравнивает с «Пиром», и впервые (!) почти за все время, вместо пустой галиматьи без содержания, он пытается аргументировать. Это настоящее чудо! Но в остальном ровно тоже самое. Из-за малых произведений Мадзини считает, что Данте не менее великий мыслитель, чем поэт. И во имя его великой памяти, итальянцы теперь обязаны исполнить мечту Данте — умереть за то, чтобы Италия стала единой.
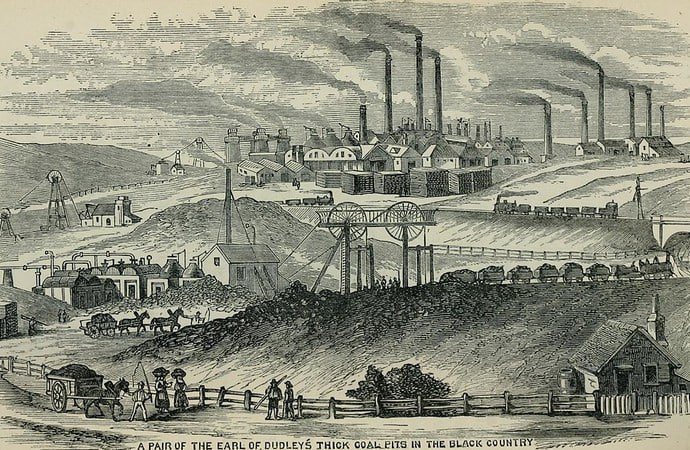
В 1842 году выходит статья Мадзини «Макиавелли». Поводом для этого стала лекция одного итальянского политического эмигранта на эту же тему. Здесь Мадзини пытается реабилитировать Макиавелли, несмотря на его ужасную репутацию политического реалиста и циника. Главной причиной того, что Макиавелли был демонизирован потомками, по мнению Мадзини — в том, что он напал на Папство, и позже использовался протестантами как инструмент для критики католицизма. Но Макиавелли, как и сам Мадзини, был патриотом, республиканцем, и жаждал Единой Италии, и уже хотя бы поэтому он заслужил уважения. Самое интересное здесь, и не только здесь, но вообще и в статьях про Данте, что Мадзини начал часто называть философа Бэкона — величайшим мыслителем Нового времени, после самого Данте. Это, признаюсь, немного странно, учитывая что Бэкон имеет репутацию отца эмпиризма, который Мадзини вроде как очень не любит. А в одной из цитат он добавляет к фамилии Бэкона ещё и Руссо:
«Позднее Жан-Жак Руссо назвал Макиавелли «великим республиканцем». Так дважды гений был понят гением. Суждение Руссо и Бэкона, по нашему разумению, весит больше, нежели голоса тысяч иезуитов и кальвинистских сектантов, и они есть наилучшее толкование книг Макиавелли и его намерений».
Мадзини сам же ссылается на примеры Байрона и Гёте, чтобы использовать тот же прием. Разве можно обвинять такого великого человека в апологии цинизма, если таковым его сделала ужасная эпоха, в которой он жил? Или вот: «Он правдиво описал нравы своей эпохи, против которых выступал всю свою жизнь. И его ли мы обвиним, если сама эпоха была низменной и «макиавеллической»?».
Ну и последняя в нашем цикле обзоров статья Мадзини — «Томас Карлейль» (1843). Поводом для этой работы послужили не столько книги Карлейля, сколько личные беседы с ним. Они познакомились в 1837 году, и по началу Карлейль очень холодно отнесся к Мадзини, оценив его как руссоиста, который носится с фантазиями о прогрессе и республикой. И он был прав, но не сразу заметил, что перед ним не простой демократ-прогрессист, а законченный мракобес и фанатик реакционных философских идей! Как только Карлейль это поймет, то их отношения станут гораздо лучше. Статья разбита на две половины, и перед нами перевод только первой части. Но уже здесь Мадзини говорит об искренности Карлейля, который «не только думает, но и чувствует, как пишет». И он говорит дальше: «я не знаю другого английского писателя, кто за последние 10 лет с такой же энергией нападал бы на полуготическое, полуварварское здание, в котором томятся сейчас все свободные силы разума». Промышленному капитализму, оглушившему весь мир шумом своих машин и кричащему: «Во имя Производства, будьте животными», Карлейль противопоставил «спокойный, мягкий, божественный голос души, освященной добродетелью». Короче говоря, он поэт и художник с большой буквы, и он очень нравится Мадзини. Более того, Мадзини практически прямо называет Карлейля своим единомышленником, хотя и пришедшим к верным идеям скорее инстинктивно. Мракобес тянется к мракобесу. А содержательно статья просто повторяет стандартный набор идей: Человечество, Ассоциация, необходимость новой Веры, критика прав и восхваление обязанностей, Долга и т.д. и т.п.
