
Седьмая глава книги Франсуа Пикаве — «Идеологи, очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года» (1891).
Все главы этой книги (и версию PDF) можно найти здесь.
Сноски из оригинальной книги малоинформативны и на сайте их проблематично отразить. Все они доступны в итоговой PDF версии книги.
Кабанис и Дестют де Траси — главные представители второго поколения идеологов. Рядом с ними и вслед за ними следует поместить целый ряд мыслителей: одни из них малоизвестны, другие знамениты, даже прославлены, но все они заслужили, чтобы их имена не были забыты потомством. Строго и систематически классифицировать их невозможно. Однако для ясности изложения мы разделим их на три группы: в первую войдут современники Дестюта де Траси и Кабаниса; во вторую и третью — их ученики и продолжатели: учёные и реформаторы, «чистые» идеологи, историки и литераторы.
— I —
Дону во время революции; Дону и Бонапарт; Эссе об индивидуальных гарантиях; Дону, историк философии; М.-Ж. Шенье и Декарт; Андриё и Политехническая школа; «Бенджамен Констан и наука о религиях»; Ж.-Б. Сэй и политическая экономия; Брийя-Саварен
Дону (1761-1839) по праву принадлежит место одновременно в трёх поколениях идеологов, как по времени своей жизни, так и по своим трудам. Как влиятельный член Конвента после Термидора, один из главных авторов Конституции III года, создатель Института и системы народного образования, он мог бы быть поставлен рядом с Кондорсе и Сийесом, с Гара и Лаканалем. Как знаменитый профессор при Реставрации, он пережил Кабаниса и Шенье, Женгене и Тюро, Ларомигьера, Жакмона и Дестюта де Траси, которым посвятил биографические заметки, способные в должной мере ознакомить с их жизнью и трудами. В этом отношении он вполне мог бы быть отнесён к третьему поколению. Однако он заседал в Институте вместе с де Траси и Кабанисом, присутствовал на собраниях в Отёе и обедах tridi. Это один из тех, кто способствовал тому, что идеология впала в немилость у Наполеона. Следовательно, его нужно оставить его в числе тех, чьи доктрины и память он всегда защищал.
Про Дону написано немало. Остаётся лишь изучить в нём идеолога — и это легко сделать благодаря множеству документов, богатых сведениями самого различного рода, которые ныне находятся в нашем распоряжении.
Дону, ставший ораторианцем потому, что не мог стать адвокатом и не желал быть хирургом, преподавал философию и теологию. Он был удостоен премии в Ниме за панегирик Буало и награждён в Берлине за мемуар о родительской власти. Он добился одобрения своего проекта у Оратория и представил его Учредительному собранию: в нём он различал четыре ступени образования — первую, домашнюю; четвёртую, профессиональную; вторую, допускавшуюся как публичная (с шести до десяти лет); и третью, соответствующую колледжам. Осуждая последнюю «как подати на соль», он предлагал взамен систему из восьми лет обучения, в которой после изучения латыни, греческого, французского и истории переходили к логике, метафизике и морали. Диспуты на латинском языке отменялись; преподавание логики сводилось к анализу ощущений, всеобщей грамматике, причинам ошибок, основаниям достоверности, правилам критики — ко всему, что касается ясности идей и очевидности суждений, взаимосвязи и порядка знаний. Метафизика больше не включала онтологию, но преподавались «Федон» или «Тимей» Платона. Преподаватель морали — «главная фигура колледжа» — переводил Об обязанностях Цицерона и преподавал естественную мораль, опираясь на Платона, Цицерона, Сенеку, Плутарха, Марка Аврелия, Монтеня, Паскаля, Николя, Камберленда, Лабрюйера, Ж.-Ж. Руссо и др. Седьмой год был посвящён изящной словесности, восьмой — физике и математике.
Викарий митрополии в Аррасе и в Париже, Дону был направлен в Конвент, где оспаривал право этого собрания судить Людовика XVI. Затем он выступил против проекта конституции, представленного Комитетом общественного спасения, и написал для Лионской академии мемуар, который был удостоен премии предпочтительно по сравнению с мемуаром Наполеона Бонапарта. Арестованный в октябре, он был заключён в различные тюрьмы, в последний раз — в Пор-Рояль, ставший тогда «Свободным Портом» (Port-Libre), где вновь перечитал Тацита и Цицерона. Он был освобождён через два месяца после 9 Термидора и добился принятия декрета о назначении пенсий ряду учёных и художников, после выхода в свет Эскиза Кондорсе. Член Конституционной комиссии, он консультировался с Сийесом, который отказался изложить свои идеи, полагая, что «его не поймут», и в результате Дону стал главным автором Конституции III года, в которую он включил положение о создании Национального института. Затем он возглавил Конвент и вошёл в состав Комитета общественного спасения; в вандемьере он стал одним из пяти членов комиссии, которой было доверено исполнительное управление, и в значительной степени был автором закона 3 брюмера IV года, организующего систему народного образования. Избранный двадцатью семью коллегиями, он возглавил Совет пятисот, работал над пересмотром законодательства о печати и был докладчиком совместной комиссии, занимавшейся специальными школами, посвящёнными «математическим и физическим наукам, наукам нравственным, экономическим и политическим, изящной словесности, механическим искусствам, военному делу, сельскому хозяйству, ветеринарии, медицине, рисованию и музыке».
Дону вошёл в состав Института во «втором классе» — секции социальных наук и законодательства. Именно он произнёс инаугурационную речь в присутствии Директории, министров, послов и избранного общества. В этом выступлении он с ясностью и достоинством обозначил цель нового учреждения. С 25 февраля 1796 года он был профессором всеобщей грамматики в центральных школах, но уже в следующем году его сменил Ларомигьер, когда Дону поручили управление библиотекой Пантеона. В Journal des Savants он написал хвалебную статью о Шарле Бонне, представлял «Гермеса», переведённого Тюро, переводы Происхождения языков Адама Смита и Уроков риторики Блэра. Он сотрудничал с Гара и Фонтеном в журнале La Clef du cabinet des souverains; с Гара, Шенье, Бужоленом и Кабанисом — в Conservateur; и отказал Талейрану, министру иностранных дел, когда тот предложил ему пост своего генерального секретаря. Похвала генералу Ошу, которую он произнёс от имени Института, вызвала у госпожи де Сталь восхищение «талантом и характером автора». Позднее, участвуя в организации Римской республики, он показал, что идеологи были зачастую, если не всегда, людьми весьма практическими. Он отказался арестовать своих прежних коллег — де Воблана, Пасторе, Дюплантье, изгнанных после переворота 18 фрюктидора. Вновь избранный депутатом в Совет пятисот, он стал его председателем и, отвечая на делегацию от Института, произнёс слова, ставшие более знаменитыми, чем справедливыми: «Нет философии без патриотизма, нет гения вне республиканской души». Вместе с Гара, Женгене, Жакмоном и Дестютом де Траси он входил в состав Совета народного образования.
Похоже, что он, в отличие от Вольнея, Кабаниса и некоторых других их друзей, не принял активного участия в перевороте 18 брюмера. В комиссии, где он заседал вместе с Гара, Кабанисом и Шенье, по поручению Бонапарта ему было поручено за одну ночь подготовить проект конституции. Камбасер назвал его проект «лукавым», и он был в значительной мере отклонён как слишком либеральный. Назначенный государственным советником и поставленный во главе народного просвещения, Дону отказался от этой должности, чтобы вступить в Трибунат, где стал его председателем. После победы при Маренго, Первый консул снова попытался, но безуспешно, привлечь Дону на свою сторону. Последний выступил против учреждения особых судов для политических преступлений и правонарушений. Его речь была искажена в Moniteur, а сам консул лично написал в Journal de Paris резкую статью против «жалких метафизиков». Законодательный корпус и Трибунат предложили кандидатуру Дону в Сенат. Бонапарт пригласил сенаторов к себе и заявил: «Граждане, предупреждаю вас: я расценю избрание Дону как личное оскорбление. Вы знаете, что я никогда не прощал ни одного такого случая». Его кандидат Ламартильер получил 52 голоса из 54. Год спустя Бонапарту удалось добиться исключения Дону и его друзей из Трибуната — «потому что он хотел, чтобы все знали: он никогда не прощает своим врагам». Как справедливо замечал Тейяндье, Трибунат отклонил всего лишь шесть законопроектов из тридцати трёх, представленных ему; и среди тех, которые он оспаривал, были законы, восстанавливающие право ауспиций (право государства наследовать имущество иностранцев), обязательные клейма, работорговлю неграми; законы, уничтожавшие суд присяжных и подчинявшие граждан юрисдикции министра полиции. Следовательно, речь шла не о неподобающей, или систематической оппозиции.
Дону, больной и обескураженный, отошёл от политики. Он представил Институту, после Мемуара о классификации книг, который Дестют де Траси высоко ценил, Анализ различных мнений об истоке книгопечатания и Исследование о выборах по спискам, которое, возможно, ускорило упразднение второго класса: у идеологов больше не оставалось никаких возможностей открыто противостоять мерам, уничтожавшим общественные свободы; если у них ещё и были идеи — то только Бонапарт имел право их озвучивать. Угрожаемый увольнением из Пантеона, Дону подписал письмо, написанное его другом, которое Даву вручил императору. Как сказал Сент-Бёв, он капитулировал. Наполеон сохранил за ним должность и даже написал ему, что «горячо желает использовать его дарования на более высоком посту» и «молится Богу о его святом покровительстве». Несколько дней спустя после коронации в Нотр-Дам он назначил Дону архивариусом. Дону, в свою очередь, устроил в Архивы Шенье, уволенного за своё Послание к Вольтеру с должности инспектора народного образования; на это Наполеон лишь заметил: «Вот какую штуку мне сыграл Дону». В ответ Дону издал Историю анархии в Польше Рюльера, заметив при этом, что «именно высочайшей честности главы Империи и неизменной либеральности его чувств и мыслей публика обязана чистоте текста этого сочинения». Затем он выпустил издание Буало и написал Опыт о светской власти пап, который, возможно, показался ему шагом к разрыву Конкордата. В этом сочинении он не скупился на похвалы «новому основателю Западной империи, которому предстоит исправить ошибки Карла Великого, превзойти его в мудрости и могуществе, увековечить славу своего великого царствования, обеспечив с помощью энергичных институтов процветание грядущих правлений». Дону, как ранее Кабанис и Вольней, а позднее Бенжамен Констан, поддался соблазну надежды, что вместе с человеком, открыто провозгласившим себя сторонником идеологии, восторжествуют и некоторые из дорогих ему идей. В действительности, они не всегда ошибались, полагая, что он продолжает дело Революции.
Дону был награждён орденом Почётного легиона, но отказался от должности цензора, не сумев добиться, чтобы его отказ был опубликован в Moniteur. Затем он руководил передачей папских архивов во Францию и зачитал свой Мемуар о Роке (Destin). В нём он утверждал, что под этим именем древние философы разумели Провидение, разумного и просвещённого Бога: христианство, следовательно, не является столь новой идеей, как принято думать. В ответ, как можно полагать, на Руайе-Коллара, пытавшегося возродить метафизику, он принижал «пневматологию», считая её неспособной расширить наш опыт, ни посредством непосредственного восприятия, ни через свидетельства и отношения, — и требовал терпимости «как единственного средства быть справедливым и разумным».
Во время Второй Реставрации Дону был смещён с должности де Вобланом, но назначен Барбе-Марбуа руководителем Journal des Savants и консультировал либеральных министров. В 1819 году он стал профессором Коллеж де Франс и депутатом. Дестют де Траси, Андриё и О. Тьерри присутствовали на открытии его курса, имевшего большой успех — в том числе потому, что профессор нисколько не воздерживался от намёков на современность: «Я требую, — говорил он с величайшим достоинством, — от имени учеников, которые будут меня слушать, свободы никогда их не обманывать: говорить им правду, чистую и полную, есть уважение, которое я должен их возрасту, долг и право моего собственного». После рассмотрения различных степеней достоверности исторических свидетельств, он переходил к исследованию того, что такое человек как нравственное существо — «материя истории» — и излагал картину человеческих аффектов: справедливых и несправедливых, разумных и безумных, доброжелательных или враждебных, великодушных или трусливых. Переходя к политике — «нравственности обществ» — он излагал неотъемлемые права личности, ссылался на Дестюта де Траси и принимал его деление форм правления на национальные и специальные. Юношам он ещё говорил, прежде чем приступить к рассмотрению двух основ истории, географии и хронологии, что «нет ничего надёжнее, чем добросовестность; нет ничего могущественнее, чем истина; и нет ничего искуснее, чем добродетель».
В то же самое время Дону с трибуны выступал против восстановления имущественного ценза, против цензуры и приостановки действия свободы личности. Он выпустил второе издание своего Опыта о личных гарантиях — «аргументированную программу справедливых и неоспоримых требований умеренного либерализма». Переведённый на немецкий, греческий и испанский языки, этот труд имел в Южной Америке почти такой же успех, как Комментарий Дестюта де Траси в Соединённых Штатах. Его курс лекций 1829 года дал ему повод защитить своих друзей, атаковав того, кто «желал покончить с философией XVIII века». Кузен утверждал, будто ход и длительность различных эпох в истории определяются необходимостью. Дону отвечал: «Что бы ни делали, в картине причин и следствий всегда останется множество точек, недоступных для предвидения и проницательности даже самых опытных умов. Слово “случай” будет сохраняться в наших хрониках, как и в обыденной речи, выражая повсюду и в любой момент наше неведение… История искажается и становится фальшивой, когда хочет быть изображением необходимостей; она состоит только из случайностей и изменчивых явлений». И его лекции пользовались таким успехом, о котором не подозревают те, кто судит о нём лишь по нашим учебникам!
Дону выступил с протестом против Ордонансов (1830), вновь вернулся на службу в Архивы после Июльской революции и подал в отставку с профессорской должности. Он пытался воспрепятствовать избранию Кузена в Академию моральных и политических наук, сам не смог получить должность пожизненного секретаря и не упускал ни одной возможности восхвалять школу, к которой принадлежал, и нападать на ту, что стремилась её заменить.
Он умер 20 июня 1840 года, распорядившись, чтобы его тело было перевезено в Сад Луи (Jardin Louis), до девяти часов утра — без объявления, без речей, без какой-либо церемонии.
Как и все идеологи, Дону посвятил свою жизнь истине и разуму. Он был, по выражению Минье, одним из самых редких людей своего времени — по трудам и по образу жизни, по дарованиям и по нравственной добродетели. Особенность его оригинальности заключалась прежде всего в том, что он, после Кабаниса и Дежерандо, но ещё до Форьеля и Кузена, преобразил подход к истории — особенно к истории философии. В течение тридцати лет он был сотрудником L’Histoire littéraire, редактором Journal des Savants и Biographie universelle, автором Курса исторических исследований в двадцати томах. Он с замечательным мастерством, если не о великих неличностных деятелях, проложивших путь Наполеону, то, по крайней мере, о писателях, философах и благодетелях человечества — говорил так, что никогда не разделял историю идей от истории людей и институтов. Наконец, и это особенно важно: он с наибольшей возможной для ученика XVIII века беспристрастностью изучал схоластов. Его статья о святом Бернарде так же знаменита, как и Речь о состоянии словесности во Франции в XIII веке — «наиболее достойный фронтиспис для одного из разделов монументальной и в то же время оригинальной истории». К этому можно добавить статьи о Пьере Преподобном (Pierre le Vénérable), Ришаре Сен-Викторском, Александре Галесийском (de Hales), Роберте Гроссетесте, Винсенте из Бове, Иоанне из Ла-Рошели, Фоме из Кантимпре, святом Фоме Аквинском, Пьере Испанском, Гильоме из Шартра, Альберте Великом, Роджере Бэконе и других — об авторах писем, трактатов и Житий святых. Соберите все эти фрагменты — и вы получите историю схоластики XII-XIII веков, вполне достойную внимания. А если вы после этого перечитаете то, что сделали Кузен и его ученики, а также то, что сделал Орё (Hauréau), вы наверняка скажете себе, что первые, расширяя горизонты, шли по пути, уже проложенному Дону; что второй — его преемник как в догматическом, так и в историческом отношении, но преемник, который разумно воспользовался всем, что было сделано до него и рядом с ним.
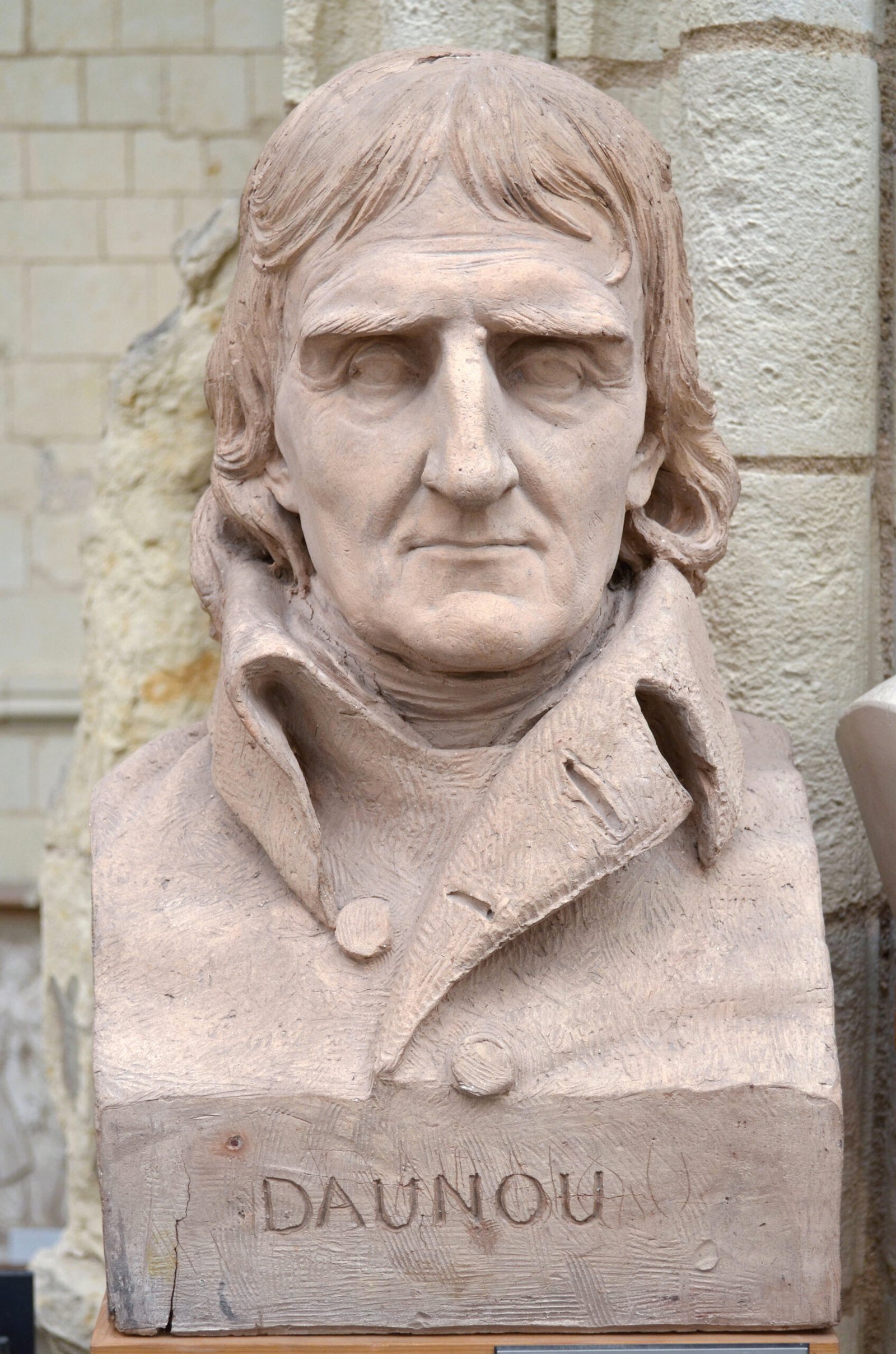
Вместе с Дону из Трибуната были устранены и другие идеологи: Дезрено и Шенье, Ларомигьер и Ж.-Б. Сэй, Бенжамен Констан и др. Дезрено сотрудничал с Décade philosophique, где анализировал перевод Смита, выполненный Гарнье; позднее, будучи советником Университета, он по инициативе Ларомигьера способствовал включению философии в официальные учебные программы. Женгене, чьё участие в Décade и Заметке о Кабанисе уже было нами отмечено, трудился над своим выдающимся сочинением История итальянской литературы, после того как он написал беспристрастную, тонкую и умную критику Гения христианства. Мы уже также упоминали М.-Ж. Шенье — одного из решительных защитников центральных школ. Известно, насколько яростны и несправедливы были обвинения, обрушившиеся на него после Террора, особенно со стороны тех, кто нарочито называл его брата «Абелем Шенье». Известно, с каким энтузиазмом М.-Ж. Шенье принял Революцию, с какой страстью, а порой и с ожесточением он сражался даже с самыми близкими ему людьми, когда считал их идеи противоречащими тем, за торжество которых он боролся. Мало кто знает, что именно он, в октябре 1793 года, от имени Комитета народного просвещения, представил доклад о перенесении праха Декарта в Пантеон. Подобно Д’Аламберу и Кондорсе, Шенье утверждал, что опыт, этот первый философ, опроверг космологическую систему Декарта; что Локк и Кондильяк шли по более надёжному пути в лабиринте метафизики; что новые открытия в математике принесли славу после него Ньютону, Лейбницу, Эйлеру, Лагранжу. Но, как и они, он причислял Декарта к «тем великим людям, которые раздвинули границы общественного разума и чьё свободное гениальное мышление стало достоянием человеческого духа», потому что «именно он первым в современной Европе охватил весь круг философии, в то время как Кеплер и Галилей овладели лишь его частью, и придал своему веку мощный и стремительный импульс». Празднество, назначенное по случаю переноса останков, не состоялось. В 1796 году Шенье вновь потребовал исполнения декрета. Мерсье, этот враг Локка, Кондильяка и Ньютона, выступил против. Шенье защищал Декарта и Вольтера, которых Мерсье тоже не щадил, но проект был отложен.
В Речи об общественном образовании (5 ноября 1797 года) Шенье настаивал на важности физического воспитания, «без которого всякое иное образование было бы неполным и бесплодным», и включал в «гимнастику свободного народа» бег, борьбу, искусство плавания, упражнения с пушкой и ружьём. После доклада, в котором он восхвалял Афины, Шенье представил проект декрета о распределении 300 тысяч ливров между рядом учёных и художников, среди которых значились Адансон и Битоубе, Боссю и Делиль, Де Саль и Дюси, Лагарп и Лаланд, Ламарк и Мармоннтель, Монтикля и Палиссо, Сен-Ламбер и Андриё, Колен д’Арлевиль, Франсуа де Нёфшато, Парни, Ретиф де ла Бретонн, Руссель, Сен-Анж, Селис и Верне. Именно по его предложению были возвращены депутаты, объявленные вне закона, а также Талейран. Против Мерсье, который «хотел реализовать химеру универсального языка, навязав язык Французской республики народам, ею побеждённым», Шенье выступал за включение немецкого, английского, итальянского и испанского языков в программу центральных школ Парижа. Вместе с несколькими идеологами он принял активное участие в перевороте 18 брюмера, но вскоре понял, что трудился вовсе не во имя свободы. Будучи трибуном, он энергично выступал против права ауспиций и гражданской смерти, защищая «секту экономистов, в рядах которой были искусные и просвещённые публицисты, а также величайший администратор Франции XVIII века, бессмертный Тюрго». Госпожа де Сталь написала Дону, предлагая его другу деньги, убежище и паспорт. Шенье, инспектор народного образования, был уволен в 1806 году после публикации Послания к Вольтеру. Дону напрасно писал Фуше, не предупредив об этом самого Шенье, утверждая, что это будет смертный приговор, поскольку Шенье не имел состояния, а постановками его пьес — уже известных или ещё не поставленных — воспрепятствовали. Ему удалось устроить Шенье на службу в Архивы, и сам Наполеон в 1808 году поручил ему продолжить Элементы истории Франции Мийо. Поражённый болезнью, от которой впоследствии умер, Шенье всё чаще навещал Дону, с которым его связывали всё более тесные узы. Изливая «подлости, творящиеся вокруг, и лицемерные отступничества, которые его душили», он вспыхивал гневом, «его голос звучал с яростью, чёрный глаз пылал, он был великолепен и грозен». В связи с декадными премиями (prix décennaux) ему поручили подготовить доклад по Катехизису Сен-Ламбера, исключённому из конкурса из-за того, что он был опубликован ранее, а также предложить для награждения Курс литературы Лагарпа, Курс обучения глухонемого от рождения, составленный Сикаром, и О связи физического и морального Кабаниса. Он умер в 1811 году. Шатобриан, которого Шенье критиковал с присущей ему резкостью, не замедлил отомстить — и обрушился на «Шенье-цареубийцу», мстя, как говорит Сент-Бёв, не только автору критики Аталы, но и его друзьям: Женгене, Вольнею, Морелле и другим, которые тоже его не щадили. Как справедливо заметил автор одной брошюры — «весьма разумной», по словам всё того же Сент-Бёва, — человек, написавший Опыты о революциях, находясь вдали от самого зла, вряд ли имел право упрекать Шенье, который оказался в самом очаге и центре этого зла, за то, что он этим злом был затронут.
Андриё (Andrieux) отвечал первому консулу, когда тот жаловался на оппозицию со стороны Трибуната: «Вы, гражданин, принадлежите к секции механики, и вам известно, что опираются только на то, что сопротивляется». О нём же Наполеон говорил: «В Андриё есть нечто большее, чем просто комедии». Член третьего класса Института, он воспевал Локка в своих стихотворениях и прозаических произведениях. Затем он представил на сцене Гельвеций, или Месть мудреца, поэму, посвящённую, как он сам писал, «во славу философских наук». Décade philosophique анонсировала появление этого произведения в тот самый день, когда Женгене публиковал вторую выдержку из Гения христианства. Там писалось, что: «Андриё тем более достоин уважения, что в наше время требуется немалое мужество, чтобы мстить за философию против этой шайки хулителей, которые всеми силами стремятся, пусть не полностью погасить свет разума, но, по меньшей мере, замедлить его поступательное движение».
В 1804 году граф де Сессак, директор Политехнической школы и член Института, предложил Андриё кафедру грамматики и литературы, которую собирались учредить в Школе. Андриё согласился и разделил свой курс на четыре части: 1° грамматика, по которой он читал философский курс, соответствующий уровню молодых людей, привыкших к серьёзным и абстрактным занятиям; 2° немного риторики, но прежде всего — искусство говорить; 3° искусство писать. Поэзии он уделял немного внимания, ограничиваясь в основном общими замечаниями. Он особенно стремился чётко различать для своих учеников прозу и стихи, поскольку, как он говорил, молодые люди и без того склонны восхищаться произведениями, в которых поэтические образы, предназначенные для поэзии, переносятся в прозу — ведь поэтическая проза есть не что иное, как ложь. Потому что, как справедливо говорит господин Журден, «существуют только стихи и проза: всё, что не является стихами, — это проза, а всё, что не является прозой, — это стихи». Наконец, заключительная часть курса представляла собой краткую историю французской литературы до наших дней. В учебной программе, которую он представил Совету по усовершенствованию преподавания, он предусмотрительно отметил, что будет выделять в литературе её нравственное значение. Совет приветствовал эту идею, и Андриё стал также преподавателем нравственности в Школе. Мы знаем из свидетельства Дестюта де Траси, что этот курс «понравился идеологам» и, несомненно, способствовал сохранению их влияния в том образовательном кругу, в котором впоследствии оказался и Огюст Конт.
Андриё, впрочем, выступает как идеолог и в своих стихах, где он сравнивает Кабаниса с Фенелоном, и в своём курсе в Коллеж де Франс в 1828 году, где он говорит о физиологических наблюдениях, достаточно достоверных, чтобы с большой вероятностью утверждать, что мы мыслим мозгом. Он рассматривает такие слова, как воля, разум, инстинкт, как ярлыки, приклеенные для распознавания, — названия, придуманные ради облегчения исследований; тогда как на деле, как говорил ещё Гиппократ, в человеке всё заговорено, всё взаимосвязано, всё действует согласно. На следующий год, как и Дону и Валетт (Valette), он выступает против Кузена.
Уже в 1797 году Бенжамен Констан критиковал в Политических реакциях мнение Канта, утверждавшего, что даже в отношении убийц, которые спрашивают вас, не укрылся ли в вашем доме их преследуемый ими друг, — ложь будет преступлением. Кандидат в Институт, затем трибун, он был тесно связан с мадам де Сталь, дружил с Кабанисом и Форьелем, с Дону, Дестютом де Траси и Гара, и оказался в числе тех оппозиционеров, кто скорее и сильнее других не понравился Первому консулу. Однако в 1814 году он поддался обольщению идеи превратить Наполеона в защитника свободы. Уже в год X (1801-1802) он в четвёртый раз начинает переработку своего труда о религиях. В это время он читает отрывки из Гения христианства, где Женгене, «начав с желания быть не слишком суровым и не задевать автора, был постепенно увлечён силой истины и любовью к философии и Республике». В конце 1802 года Констан читает Отношения физического и морального в человеке и отзывается о них с подлинным энтузиазмом; но уже тогда он указывает, в формулировках, весьма близких (за вычетом проклятий) к тем, что будут в его Письме о первопричинах, что не станет трактовать свой предмет в духе Дюпюи и Вольнея. В 1808 году, после смерти Кабаниса, он присоединяет свои сожаления к словам Форьеля и скорбит, что «люди такого рода, кажется, исчезают с лица земли». Связанный с Виллерсом, защитником Канта, он в 1803 году проводит некоторое время с ним и мадам де Сталь в Меце. В начале 1804 года он пишет Виллерсу, что Опыт о духе и влиянии реформации Лютера вернул ему мужество продолжать его собственное сочинение. В 1809 он публикует Подражание Валленштейну. В 1812 году с ним происходит «нелепая и неприятная история»: некий немецкий профессор, которому он доверил план и части своего труда по истории и развитию древних религий, похищает у него идею и форму с такой точностью, что в объявлении его курса дословно воспроизведены названия книг и глав. В конце 1813 года Констан отвлекается от этой работы «политической экспедицией»: он пишет брошюру О духе завоевания и узурпации. Затем происходит падение Наполеона: «Итак, — пишет он Виллерсу, — великая трагедия завершилась фарсом, столь же грязным со стороны главного актёра, сколь сама трагедия была кровавой. Человек судьбы, Аттила наших дней, тот, перед кем молчала земля, не сумел умереть. Я всегда это говорил, но мне не верили, и теперь все в замешательстве». Бенжамен Констан возвращается в Париж, он там 13 апреля, и сообщает Виллерсу, что «возможно и даже вероятно, что у нас будет свобода». Он работает над тем, чтобы эта свобода «была мудрой и подлинной», публикуя брошюры и газетные статьи. Но восстановление цензуры, запрет публичных развлечений по воскресеньям и праздникам — всё это, казалось, предвещало возвращение десятины; жалобы на покупателей национальных имуществ и угрозы ультрароялистов встревожили «конституционалистов» и способствовали возвращению Наполеона. С ним Бенжамен Констан пытается осуществить то, что не удалось сделать с другими: он составляет значительную часть Дополнительного акта к конституциям Империи. После второй Реставрации он защищает либеральные доктрины на страницах Минервы и возвращается в Палату депутатов в 1818 году вместе с Мануэлем и Лафайетом.
В 1824 году он начал публиковать Религию, рассматриваемую в её источнике, формах и развитии. Некоторые хотели видеть в этом отход от прежней школы: «Немецкая учёность, набравшая к тому времени хороший ход, — писали, — заставила его стыдиться Гольбаха, Дидро и Дюпюи». Действительно, Бенжамен Констан выступил против системы Дюпюи, которую считал ложной. По его мнению, даже если сакральная метафизика и физика со временем стали философскими, из этого не следует, что народ видел в религиозных представлениях лишь некие усовершенствованные абстракции. К тому же история богов — это история природы только для тех, кто её изучал, а масса людей природы не изучает. Наконец, даже если человек на заре общественной жизни замечает смену света и тьмы, чередование дня и ночи, смену времён года — он всё же не различает движения светил, их прямое или ретроградное течение, их временные остановки, не улавливает соответствий между формами земли и небесными фигурами, а тем более — перемен, которым эти соответствия подвергаются на протяжении целых столетий. Опрокидывая теорию Дюпюи, Констан считает, что тем самым опроверг и Вольнея. О Дидро он ничего не говорит, но Систему природы Гольбаха он оценивает строго: «она поразила меня ужасом и изумлением», признаётся он, ибо, по его мнению, эта система, при всей своей неспособности объяснить множество явлений, покоится на предпосылке столь же произвольной, как и догматический спиритуализм. Точно так же Констан критикует Гельвеция и его доктрину разумно понятых личных интересов.
Но хотя он и полемизирует с Дюпюи, чьи идеи, впрочем, никогда не были единодушно приняты всей школой, он нисколько не щадит и немцев. Если он критикует Вольнея, то всё же не отказывает ему в достоинствах. Если отвергает Систему природы, то признаёт за её автором заслугу быть «неустрашимым противником высокомерной власти». Если по вежливости ссылается на Шатобриана и воздаёт должное его характеру и таланту, то вслед за Женгене упрекает его в том, что тот пытался приписать христианству поэтическую ценность — будто бы народ выбирает свою веру ради того, чтобы снабдить стихотворцев новой мифологией; упрекает и в том, что в Мучениках он допустил анахронизм почти в четыре тысячи лет, представив как сосуществующие гомеровский политеизм и современный католицизм. Если же Констан вдохновляется немецкими философами, то лишь потому, что они принимают ту доктрину, которая была дорога Тюрго, Кондорсе и Кабанису, а именно: что всё в человеке подвержено прогрессу. Точно так же и христианство — если оно является самой удовлетворяющей и самой чистой из всех возможных форм религиозного чувства, то именно потому, что оно поддаётся усовершенствованию.
И с других сторон Б. Констан примыкает к Кабанису, Дестюту де Траси, а порой даже к Дюпюи и Вольнею: он выступает против Ламенне, де Местра, де Боналя, Феррана, Экштейна и всех тех жалких софистов, которые выдают себя за защитников религии, будучи при этом не менее коварны по отношению к правительствам, чем к народам. Он едва ли более снисходителен к священникам и к жреческой морали, чем Гольбах, Гельвеций или их последователи. То, что он пишет о климатах, напоминает Кабаниса, как и в случае с тем знаменитым изречением, выгравированным на храме Исиды, и с его хвалебным отзывом о стоицизме, — этом «великом порыве души, уставшей видеть мораль в подчинении развращённым людям и эгоистичным богам». Как говорили Дежерандо и Кабанис, как верили Форьель и Кузен: «всё служит разуму в его вечном движении. Системы это лишь инструменты, с помощью которых человек открывает частные истины, даже если заблуждается относительно целого; и когда сами системы исчезают, то истины остаются».
Очень легко понять, вспоминая письмо Бенжамена Констана про «Отношения физического и нравственного», каков был путь, пройденный его духом. Кабанис уже почти признал, что невозможно искоренить в широких массах людей ту фундаментальную идею, на которой покоятся все позитивные религии, и потому искал простую и утешительную религию, которая приносила бы лишь добро. Бенжамен Констан, наученный более долгим опытом, думает так же, но считает, что стоицизм подавляет в человеке зародыш многих нежных и глубоких чувств. Для него религия — действительно, как говорят немцы, язык, на котором природа говорит с человеком, но она также подчинена закономерному прогрессу, которому подчиняются не только народы, но и сами жрецы, ими управляемые. Таким образом, христианство превосходит стоицизм. Разве оно не было, как сказал бы Кабанис, религией «Тюрго и Франклина»? Разве оно не придаёт стоицизму ту жизнь и теплоту, которых ему недостаёт? Разве оно не единственное, что способно, наряду с политической и религиозной свободой, породить все добродетели и весь прогресс? Так, исходя, подобно Кабанису, из доктрины усовершенствуемости человеческого существа и стремления к политической свободе, Бенжамен Констан приходит к христианству, превзойдя по пути стоицизм.
Примерно в ту же эпоху Биран завершал аналогичную, но гораздо более бурную эволюцию, которая от Кабаниса и Дестюта де Траси привела его к Бонне и Кондильяку, затем к стоицизму и, наконец, к христианству, близкому к мистицизму.
Религиозное чувство отличает человека от животного: его не следует подавлять, как и сострадание, любовь и все другие непроизвольные эмоции. Возникающее из потребности человека вступить в связь с окружающей природой и с неизвестными силами, которые, как ему кажется, ею движут, это чувство вводит мораль в религию, видоизменяя в благоприятном направлении представления о Боге, духовности и бессмертии. Но содержание — это не формы, религиозное чувство — это не религиозные институты. Любая позитивная форма, даже если она удовлетворительна в настоящем, содержит в себе зародыш будущего сопротивления прогрессу; религиозное чувство отделяется от неё и ищет новую форму. Именно через это различие объясняется последовательность религиозных явлений в летописях различных народов; через него же объясняется тот факт, что определённые религиозные формы кажутся враждебными свободе — тогда как само религиозное чувство всегда ей благоприятствует — и объясняется победа новых верований над прежними. Таким образом, Бенжамен Констан не смешивает эпохи различных религий, все из которых подчинены идее прогресса; он отвергает научные объяснения, которые ошибочно ставят выше народного или буквального смысла. Отделяя религии, находящиеся под контролем жрецов, от тех, которые сохраняют независимость от духовного руководства, он показывает, что «религии, сумевшие с наибольшим успехом противостоять жреческой власти, были самыми мягкими, самыми человечными, самыми чистыми».
Без сомнения, это произведение было преждевременным, поскольку история различных религий остаётся до сих пор неполной, и лишь теперь начинают смутно осознавать, какой она должна быть. Но это была удачная вылазка сторонников идеи совершенствования (perfectibilité) на эту территорию, и следовало бы пожелать, чтобы — здесь, как и в других областях — исследования этих мыслителей вдохновляли последующих авторов в большей степени. Безусловно, Кройцер, усовершенствованный Гиньо и столь часто цитируемый, уступает ему по ясности и точности, не превосходя его при этом значительно по эрудиции.
Наконец, эту книгу стоило бы перечитать в наше время: можно было бы подумать, что она была написана для наших современников.
Жан-Батист Сэй, исключённый из Трибуната, так и не примирился с Наполеоном. Как и Дону, он однажды обедал с ним, — не в Тюильри, а в Мальмезоне, — но отказался оправдывать финансовые меры, которые собиралось принять правительство. Он также отказался занять пост директора по сбору объединённых налогов, считая эту систему губительной для Франции. Будучи непримиримым оппозиционером, Сэй должен быть причислен к числу идеологов. В качестве редактора Décade, он анализирует там Жизнь Б. Франклина, написанную самим Франклином и переведённую Кастера, публикует Советы Лептомена о выборах, говорит об Орасе Сэе, «который разработал план сочинения об уме человека и, чтобы достойно его реализовать, начал с анализа Локка и Кондильяка» и др. Но наиболее значимым остаётся отрывок, иллюстрирующий его полное идейное родство с коллегами. Речь идёт об Элементах естественного законодательства Перро: «Вот ещё одно хорошее произведение, — писал Ж.-Б. Сэй, — вышедшее из тех центральных школ, о которых некоторые люди любят говорить с таким пренебрежением». И, показав, что в этом сочинении рассматривается человек как индивидуум, его обязанности по отношению к себе и его отношения с ближними, он добавлял: «Этому же автору публика обязана и другим высоко ценимым произведением — Опыты о физическом и моральном человеке. Настоящая работа лишь прибавит к его репутации; и, обеспечив путь своим ученикам, он теперь способен осветить путь и своим коллегам-преподавателям». По поводу этого первого сочинения, восхваляемого Ж.-Б. Сэем, Бужолен, хотя и утверждая, что автор ошибочно приписал Вольтеру атеизм, писал: «Наука метафизики в наши дни во Франции направляется таким образом; больше не дозволяется уводить её с истинного пути и терять в лабиринте теологических споров, если, конечно, хочется получить уважение просвещённых умов, которые, по примеру выдающихся метафизиков — таких, как Гара, Кабанис и др., — применяют рассудок лишь к наблюдаемым и открытым фактам». Для одного из конкурсов Института Ж.-Б. Сэй написал Олби, или Опыт о средствах улучшения нравов нации. Два года спустя появился в двух томах его Трактат по политической экономии, о котором Дестют де Траси говорил: «лучший, какой до сих пор был написан». Как и большинство идеологов, он мыслит самостоятельно и подвергает критике тех, чьим авторитетом принято было восхищаться: Кондильяка за «остроумную болтовню в книги, где почти всегда принцип основывается на произвольном предположении»; Руссо и его Общественный договор; Вольтера и Дюпона де Немура. Но при этом он цитирует у Кондильяка справедливое замечание о том, что абстрактное рассуждение — это не что иное, как исчисление при помощи иных знаков; цитирует он также Паскаля и Локка, Кондильяка, Траси и Ларомигьера — за то, что они доказали: «когда люди не придают одним и тем же словам одних и тех же понятий, они не понимают друг друга, спорят и убивают друг друга»; Кабаниса, Д’Аламбера и Сеннебье — за то, что они показали: «расчёт не может быть применён к политической экономии»; Тюрго — «чьи административные начинания, осуществлённые или запланированные, входят в число самых блистательных, какие когда-либо были задуманы государственным деятелем»; Беккариа, Верри и Смита — «до которого не существовало политической экономии», хотя он мог кое-чему научиться у французских экономистов, и при этом оставил ряд вопросов неясными или недостаточно освещёнными. Как и Кондорсе, как и Дестют де Траси, также и Сэй верит в медленный, но неотвратимый прогресс просвещения, в нынешние и будущие успехи общественного разума. Как и последний, он считает, что мораль едва ли может быть предметом публичного преподавания и что доброе поведение людей возможно лишь как результат хорошего законодательства, хорошего воспитания и хорошего примера. Подобно ему же, он придаёт большое значение дедукции. Он особенно опирается на общие факты: если он основывает их на наблюдении частных фактов, то требует не только личного свидетельства, постоянства результатов, но и того, чтобы «строгое рассуждение объясняло, почему они были именно такими». Ведь множество частных фактов недостаточно достоверны, ничего не доказывают — или даже доказывают прямо противоположное тому, что хотят ими подтвердить!
Благодаря Ж.-Б. Сэю, чей успех имел общеевропейский масштаб, доктрины и метод идеологов были переданы множеству мыслителей, которые порой и не осознавали, насколько они обязаны этой школе. Назовём Шарля Конта — зятя Ж.-Б. Сэя, бессменного секретаря Академии моральных и политических наук до Минье, друга О. Тьерри и автора Трактата о законодательстве; а также Дюнуайе, который особенно настаивал в своём сочинении Свобода труда на следующем положении: «производительные силы, как и сами продукты, относятся к сфере политической экономии и пр.».
Бастиа сравнивал Трактат Ж.-Б. Сэя с сочинениями Ларомигьера за ту лёгкость, с которой читатель переходит от одной идеи к другой, и писал в 1821 году, что из всех трудов по вопросам политической экономии он читал только Смита, Сэя, де Траси и журнал Цензор. В 1845 году он снова напоминал о теории Дестюта де Траси, который сводил промышленность к двум видам деятельности: труду, который преобразует, и труду, который транспортирует. Жозеф Гарнье, в своём Трактате по политической экономии, называет Дестюта де Траси рядом с Контом, Росси, Бастиа, Дюнуайе — среди наиболее выдающихся экономистов, продолживших дело физиократов и Адама Смита. Наконец, Джон Стюарт Милль, во многих отношениях принадлежащий к той же школе, составил весьма лестный портрет Ж.-Б. Сэя, с которым он встретился в Париже в 1820 году.
Газета La Décade в тот самый день, когда Женгене опубликовал свой последний отрывок из Гения христианства, анонсировала выход сочинения гражданина Брийя-Саварена — бывшего члена Учредительного собрания и судьи Кассационного трибунала. В своём труде Взгляды и проект политической экономии автор привлекал внимание к различным важнейшим вопросам хорошего управления и общественного благосостояния, предлагая, в частности, создание особого класса стажёров при гражданских и морских префектах, государственных комиссарах и административных структурах судов. Будучи земляком Биша (Bichat), Монгрэ (Montègre) и Ришерана (Richerand), Брийя-Саварен изучал в Дижоне право, одновременно занимаясь химией под руководством Гюйтона де Морво (Guyton de Morveau) и медициной — у отца будущего герцога Бассано. Во время Террора он бежал сначала в Швейцарию, затем в Америку. Позднее служил в штабе Ажеро, начальником которого был Шерен, и в 1798 году стал комиссаром Директории в Версале, где познакомился с Монтюкля, автором Истории математики, показавшим ему фрагменты своего Словаря гурманской географии. Отличавшийся как образованный магистрат и учёный, Брийя-Саварен, подобно Дежерандо, вошёл в состав Общества содействия национальной промышленности и представил там ирригатор собственной конструкции. Друг Андриё, сторонник неологизма и романтизма, он был любителем медицины и с удовольствием посещал защиту диссертаций, Как знаток гастрономии и признанный эксперт, он по настоянию Ришерана согласился опубликовать свои Гастрономические размышления. Несмотря на боязнь, что его будут воспринимать как человека, интересующегося только «пустяками» (особенно те, кто знает о книге только по заголовку), он нашёл утешение в том, что тридцать шесть лет непрерывной и серьёзной государственной службы уже обеспечили ему противоположную репутацию. В 1825 году он публикует свой остроумный, обаятельный, изобретательный и оригинальный труд в лёгкой, даже фривольной форме — труд, который, по словам Ришерана, все захотели прочитать. Однако книга эта полностью затмила «экономиста и юрисконсульта» Брийя-Саварена. Тем не менее, в Физиологии вкуса мы видим настоящего идеолога. Именно он выстраивает теории и факты по «аналитическому порядку», исследует происхождение гастрономии, составляет философскую историю кулинарии, говорит об аналитической гастрономии и её изысканиях относительно воздействия пищи на организм. Он открывает в человеческом языке движения «спикации», «ротации» и «йерриции» — неизвестные у животных, и излагает размышления о сне и сновидениях, ссылаясь на Рёдёрера и полемизируя с Галлем, — размышления, которые напоминают идеи Кабаниса и до сих пор представляют интерес для изучения.
Это человек, воспитанный XVIII веком, который, «заложив теоретические основания гастрономии, чтобы поместить её в разряд наук», и «точно определив, что следует понимать под гурманством, отделяя его от обжорства и невоздержанности», упрекает излишне суровых моралистов в том, что они стремились видеть порок там, где существует лишь «разумно понятое наслаждение». В его взглядах легко распознать экономиста, для которого «гурманство — это та связь, что объединяет народы посредством взаимного обмена предметами повседневного потребления».

— II —
Идеология, физика и математика, Лакруа и Био; Ланселин
Математические, физические и естественные науки продолжают следовать методу, который по их примеру приняла идеология, и сохраняют с ней свою связь. Чтобы быть исчерпывающим, следовало бы написать историю научного движения нашего века. Мы ограничимся лишь несколькими именами. Мы уже говорили о Лакруа и его взгляде на анализ и синтез. Профессор на факультете наук, после защиты центральных школ, он оставил Опыты об обучении, чтение которых до сих пор рекомендуется ученикам наших философских классов. Сент-Бёв с удивлением обнаружил, что Биo, «восхваляемый как христианин первых веков» графом Шамбором, написал в 1803 году Опыт по всеобщей истории наук во время Французской революции, где твёрдо отстаивал доктрину усовершенствования (perfectibilité), а в 1809 году, в статье о влиянии точных идей на литературные произведения, подверг критике систему конечных причин Бернардена де Сен-Пьера. Он был бы ещё более удивлён, если бы знал Био, как мы, сначала как восторженного профессора центральных школ и убеждённого редактора Декады. Но Ланселин, чьё творчество весьма мало известно, покажет нам ещё лучше, насколько идеология была тесно переплетена с науками.
Десять страниц у Дамирона, ни слова у Кабаниса, краткая заметка в Декаде, любопытное письмо, которое мы обнаружили в архивах Академии моральных и политических наук, — вот всё, что у нас есть, наряду с его сочинением, которое само по себе довольно трудно даже найти, — о Ланселине, имя которого не значится ни в одной истории философии, ни в одном биографическом или философском словаре. Родившийся в Нормандии в 1769 году, он получил превосходное гуманитарное образование в Кане и два года изучал философию под руководством самого бесстрашного из схоластов. Затем он посещал публичный курс математики, преподаваемый Лё Каню, врачом и философом, состоявшим в переписке с Д’Аламбером, и именно ему он был обязан первым пробуждением своего разума. Будучи учеником Школы морского инженерного дела, где его преподавателем был Лабе, впоследствии профессор Центральной школы при Пантеоне и (в V году Республики) переводчик Введения Эйлера в анализ бесконечно малых, он изучал там математику, полюбил свою профессию и философские изыскания. В 1789 году он уже был инженером-кораблестроителем, а с 1796 года — главным инженером. В VI году Республики он был назначен заведующим четвёртым лесным округом, простиравшимся от Дюнкерка до Луары.
Ланселин (P. F. Lancelin) утверждал, что, когда он завершал работу над своим сочинением, ему были известны лишь Опыт Локка, Логика Кондильяка и Философские и нравственные сочинения Бэкона (в V году Республики). Принять это утверждение невозможно, и хотя мы не станем приписывать его труду больше оригинальности, чем в нём действительно содержится, но и не будем по этой причине считать его менее интересным и менее любопытным.
Ланселин участвовал в конкурсе на тему о «влиянии знаков» и был удостоен почётного упоминания наряду с Прево, тогда как Дежерандо получил премию. Первая часть его труда была посвящена Бонапарту, первому консулу, «призванному осуществить замыслы философии и надежды философов», и представлена на рассмотрение Национального института, учёных обществ Европы, друзей подлинной философии, разума и истины. Рассматривая мозг как центральный орган, а наши идеи, их знаки и искусство их применения — как материалы, инструменты, рычаги мозга, он ставит себе целью восходить к происхождению наших чувств, ощущений, интеллектуальных и нравственных способностей, разложить на составляющие голову и сердце, душу или нравственную природу человека, то есть совокупность ощущений, привычек и способностей, система которых варьируется в зависимости от организации и воспитания; и тем самым — создать то, что Д’Аламбер называл «экспериментальной физикой души». Термин «идеология» он считает слишком ограниченным, поскольку анализ идей — лишь один из элементов моральной анатомии человека, и предпочитает термин «метафизика». В этой науке, которая охватывает человека, искусства, науки, вселенную и природу, которая анализирует и разлагает всё на части, чтобы ясно показать, что содержит каждая идея и каждый предмет, он видит основание публичного образования, воспитания, нравственности и законодательства. Среди метафизиков он помещает Ньютона, Франклина и Вашингтона, Локка, Кондильяка, Байи, Лавуазье и Кондорсе, Бонапарта, Лагранжа, Лапласа, Монжа, Фуркруа и Кабаниса, которые соединяют в себе точность, широту и глубину.
Сочинение состояло из трёх частей: анализа мыслящей способности, развития воли и классификации наших знаний. Первая часть, разделённая на три секции, посвящена общему развитию чувствительности, операциям духа, идеям, возникающим из них, и формированию интеллектуальных способностей, выражению идей, основаниям философской грамматики и точного языка.
Ланселин признаёт лишь одно чувство — осязание. Рука это один из главных инструментов усовершенствования. В бесчисленном множестве планет, блуждающих вокруг звёзд, должно существовать бесконечное число новых видов существ, которые различаются продолжительностью жизни, формой и организацией, в зависимости от жизненной и производящей энергии того небесного тела, которое даёт им рождение и их питает, от его массы, его расстояния от центра, от количества теплорода (калорика) и света, которое оно получает. Инстинкт это система первичных способностей; разум, в высшей степени усовершенствованный размышлением и опытом, есть расширенный инстинкт, позволяющий человеку быстро распознавать наилучший способ действия. Физическое и нравственное часто представляют собой одно и то же, обозначенное разными словами: переменные и преходящие способности, составляющие душу организованных и живых существ, это результат организации тела, как свойство показывать время является следствием конструкции часов. Материя, будь то инертная или живая, это великое целое, вселенная, совокупность всех тел; природа — это сумма тел и сил, которые их оживляют; тяготение и теплород — это совокупные силы, составляющие душу мира. К математическим и физическим наукам, которые изучают основные свойства тел, к метафизике и наукам, исследующим вторичные качества — самопроизвольное движение, ощущения, идеи, чувства — можно добавить ещё одну науку, целью которой будет точное определение изменений ощущений и способностей, соответствующих естественным или случайным изменениям материальных частей, и устранение нарушений, вызванных внешним воздействием или взаимным влиянием двух систем. Не существует ни абсолютного творения, ни уничтожения, есть лишь превращения материи, сумма которой остаётся постоянной. В бесконечном пространстве, вмещающем её, силы, вечно действующие — тяготение и теплород — сохраняют, изменяют, разрушают первичные движения больших масс: планет, комет, звёзд или солнц, а также химические явления растительности и жизни. Миры формируются и распадаются в течение длинной цепи накопленных веков; одни небесные тела угасают, другие загораются; новым скоплениям или системам предшествуют разрушенные или изменённые; тысячи живых видов исчезают, уступая место другим, которые со временем изменятся и исчезнут вследствие вековых изменений и частичного или полного распада систем, породивших их своей организацией. Материя, пространство и длительность — вечные элементы, с помощью которых природа, сумма тел и сил, производит бесконечную цепь движений, событий, превращений и метаморфоз, из которых текущее состояние вселенной есть лишь мимолётное звено. Тяготение управляет формированием и движениями великих небесных тел; вместе с теплородом оно вызывает и поддерживает растительность и жизнь; под именем сродства (аффинитета) оно формирует животных, растения, минералы; наконец, воля или сила двигаться у организованных и чувствующих существ в значительной степени является всего лишь действием тяготения.
В этой первой части, и во всём своём труде Ланселин предстает как человек, в котором перебродили все идеи, порой плодотворные, порой разрушительные, великие или наивные, чрезмерно позитивистские или дерзкие до предела, — все те идеи, что были пущены в обращение в XVIII веке. Эти идеи Ланселин воспроизводит неуклюже, но с энтузиазмом; он их преувеличивает, искажает, но порой и развивает с удачей. В этой первой секции узнаются Кабанис и Лаплас, но на ум приходят Спенсер и Тиндаль.
Во второй части вновь появляются Кондильяк и Локк, Бэкон и Дестют де Траси. Анализ — это двойственная операция, которая соединяет и разлагает: необходимо определить число и качество элементов, из которых должна состоять каждая интеллектуальная и нравственная идея, свести мыслящую силу к трём формам: разуму, воображению и памяти — и составить аналитический словарь, в котором за каждым словом, выражающим сложную идею, будут следовать все термины, обозначающие частные идеи, из которых она состоит. Третья часть напоминает Д’Аламбера. Ланселин предлагает составить словарь истины, в который будут внесены самоочевидные вещи или те, что поддаются демонстрации: утверждения, признанные истинными в геометрии, механике, астрономии, физике и т.д.; затем — системы, искусство предположения, теория вероятностей, факты и рассуждения, которые не являются очевидными, но могут стать таковыми посредством строгой демонстрации, — в рамках истории гения и воображения; наконец, собрать теорию и практику абсурда: мифологию, теологию, религии, метафизические мечтания, историю жрецов, прорицателей, магов, колдунов, шарлатанов всех видов — с целью провести демаркационную линию между разумом и безумием, между истиной и заблуждением. Если он предлагает сблизить уравнения и утверждения, привлечь учёных и философов к совершенствованию наук и языков, создать язык исключительно аналитический, посвящённый только прогрессу философии, разума и истины; ограничить образование детей раннего возраста изучением рисования — «необходимого введения ко всем профессиям и талантам»; создать школы нравственности и законодательства, народные праздники, а из философских книг извлекать всё, что в них истинно, полезно и хорошо, чтобы затем без вреда сжечь по меньшей мере три четверти из них; тщательно подбирать элементарные книги для каждой области образования — в нём без труда узнается читатель Кондильяка, поклонник Лавуазье и Эйлера, Д’Аламбера и Лагранжа, Лапласа, современник и ученик авторов закона брюмера IV года, Кондорсе, Кабаниса и Дестюта де Траси. Здесь проявляется и преувеличение тогдашних доктрин; но также и идеи, которые скорее напоминают Ламарка и Дарвина, чем де Мале или Робине. Из того, что мы не видели, как меняются живые виды, — говорит Ланселин, — мы не имеем права заключать, что они неизменны, не больше, чем роза имеет право считать вечным и неизменным садовника, которого она знала в течение тех двенадцати или пятнадцати дней, что прожила. В ходе последовательных революций Земли, эманации Солнца, наступил момент, когда в результате брожения и сближения органических молекул, в изобилии рассеянных по земному шару, зародыши самца и самки животных видов либо образовались, либо развились благодаря соответствующей температуре, прошли ряд нарастаний и метаморфоз, и в конце концов достигли того состояния, в каком мы видим ныне животных и растения. Быть может, сначала существовали бесформенные существа, чудовища, которые, не обладая достаточными способностями, не смогли ни сохранить, ни передать жизнь; быть может, природа на протяжении веков производила бесплодные попытки. Но существа более сильные, более хорошо организованные — выжили, размножились и образовали виды. Быть может, человек с самого начала был таков, каким мы его видим; а быть может, ему потребовались века и целые ряды вариаций, чтобы достичь того состояния, в котором живут дикари на островах.
Ланселин, восхваляя Бонапарта, одновременно горячо выступал в защиту неограниченной свободы печати и высмеивал все религиозные представления: неудивительно, что он был довольно холодно принят человеком, который вскоре должен был заключить Конкордат, упразднить класс моральных наук и полностью лишить прессу свободы. За несколько дней до подписания Конкордата, по постановлению первого консула, Ланселину была назначена пенсионная отставка. Болезненный и лишённый необходимых средств, он смог опубликовать вторую часть своей книги только в конце 1802 года. Он не удивляется тому, что не занял места «в уме магистрата, который должен носить Францию в своём сердце, а земной шар в своей голове». Чувствуя потребность любить всех, не завидовать никому, ненавидеть только преступления, он просит у своих врагов лишь одного — пощадить его, не губить клеветой, ядом или кинжалом, ибо он желает посвятить всю свою жизнь поиску истины и совершенствованию разума. Кондильяк и Гельвеций, Кондорсе и Кабанис, Руссо и Дестют де Траси, по-видимому, дали Ланселину большинство идей, которые он развивает во второй части. Нужно признать, что у него встречаются весьма здравые суждения — об образовании, соответствующем каждому гражданину, каждому сословию, каждому положению. Но важно отметить, что говорит Ланселин о религиях, чтобы показать, на примере человека, на которого сильно влияла среда, насколько религиозные взгляды уже подверглись глубокой трансформации. Он говорит, что «крестьянин, ремесленник, испытывают смутные желания, тревогу, которой требуется определённость, и сильную страсть к чудесному. Люди настолько несчастны, что было бы жестоко лишить их средства стать хотя бы немного менее несчастными». Им можно было бы, следовательно, дать своего рода нравственный катехизис, в котором религия имела бы своё место в форме праздников, посвящённых природе и отечеству, любви и дружбе, благодарности, гению, добродетелям, создателям наук и искусств, великим людям и всем истинным благодетелям человечества. И при всём том, что он утверждает: господствующие религии дурны, когда они нетерпимы и противоречат морали; что человек здравомыслящий и разумный, вынужденный логикой признать, что душа рождается и умирает вместе с организацией тела, будет обвинён в материализме — как будто в природе существует что-то, кроме материи и сил; как будто природа могла бы иметь Творца; как будто всякий, кто наблюдает, изучает, мыслит и рассуждает, не является подлинным материалистом, — Ланселин всё же признаёт, что религия ещё долго будет пользоваться влиянием и смягчать для многих людей неизбежные бедствия существования, и он ограничивается лишь — хотя и весьма энергично — требованием терпимости к тем, кто в неё не верит. Философия XVIII века перестаёт быть агрессивной.
Все сильнее заболевая и, возможно, потеряв ещё больше сил, Ланселин в 1803 году издал третью часть своего Введения в анализ наук. Она вовсе не является наименее интересной. Великие системы тел, — говорит он, — имели своё начало и окончатся; животные виды погибнут в результате ослабления или усиления солнечного тепла либо внутреннего калорика. Тяготение и калорик, породившие нынешнюю организацию Солнечной системы; разум и воля, управляющие формированием организованных и чувствующих существ, всё это первопричины почти всех вторичных движений, четыре великих всеобщих факта, к которым ограничивается доступ наблюдения и за пределы которых она не может подняться. Показать, как из них вытекают факты второго порядка, а из тех факты третьего порядка; восстановить скрытую нить, связывающую непрерывной цепью все факты с основным фактом, упорядочивая их в естественном ряду их происхождения или передачи производимых ими движений, — такова должна быть задача ума. Единая наука природы включает первую группу наук, которые можно назвать первичными, и которые возникают из описания тел, классификации объектов и фактов. Человек является предметом особой науки. Затем следуют регулярные или нерегулярные продукты мыслящей силы: математические и физико-математические науки, рисование, живопись, скульптура; поэзия — эпическая и драматическая; музыка и изящная словесность; космогонии и теогонии, теософия и астрология, онтология и пневматология, магия и прорицание.
Над всеми науками и всеми искусствами возвышается истинная философия, подлинная метафизика — универсальный анализ, или наука принципов. Подготовленная Аристотелем, Гиппократом и Плинием, созданная Бэконом, обогащённая Ньютоном, Локком, Кондильяком, Эйлером, Д’Аламбером, Дидро, Гельвецием, Вольтером, Кондорсе, она многим обязана Декарту, Бюффону, Лейбницу. Один человек не в силах глубоко изучить и упорядочить все науки; поэтому необходимо, чтобы учёные разделили между собой область универсального анализа и каждый из них выработал философию той науки, которой он занимается.
К этой картине человеческих знаний, восходящей к Бэкону, Дидро и Д’Аламберу, к Дестюту де Траси, но ведущей также к Амперу и Конту, Ланселин хотел бы присоединить картину вековых изменений природы, или материи и сил, которые её оживляют, рождения, картину жизни и смерти небесных тел. Убеждённый, вслед за Декартом, что существует общий и надёжный метод, применимый к решению всех видов проблем, он указывает три вопроса, которые особенно привлекли его внимание. Ни один философ не строил более обширных замыслов и не возлагал на будущее таких надежд, как Ланселин. Он уже составил, как он сам говорит, Аналитический трактат о математических языках; он думал продолжить его Духом языков, чтобы сблизить живые языки с языками точными, а также наметить Философский и беспристрастный обзор важнейших произведений человеческого духа, где отделил бы истину от заблуждения у лучших философов. Возможно, он вернулся бы к вопросу о том, в какой степени религия может быть полезна людям. Наконец, он был бы склонен взяться за осуществление того труда, которого нас лишила смерть Кондорсе! Но Ланселин умер, по-видимому, вскоре после этого, едва достигнув тридцати пяти лет: нищета, болезнь и чрезмерный труд помешали ему воплотить в жизнь эти многочисленные проекты.
В школе, взгляды которой так часто критиковали за узость и упрекали в стремлении ограничивать поле исследований, у Ланселина, безусловно, не было недостатка ни в амбиции, ни в метафизической смелости, и он считал, что не отклоняется от линии Лапласа и Кабаниса, Дестюта де Траси и Кондорсе, а следует тем же путём и применяет тот же метод.
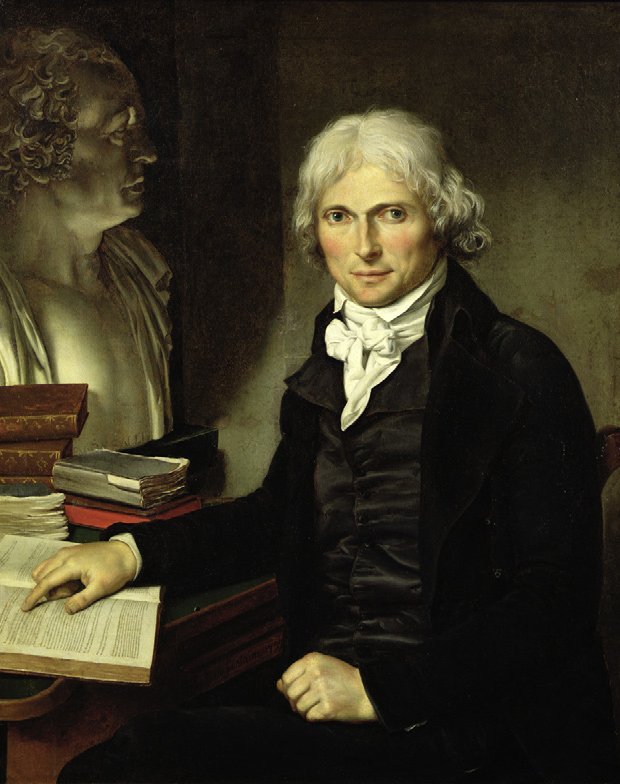
— III —
Идеология и естественные науки, Сюэ, Алиберт, Ришеран, Флуренс и др. ; Биша; Биша и Кабанис; Шопенгауэр и Гартман; Ламарк; его трансформизм и психология; Бори-де-Сен-Венсан; сравнительная идеология и философия науки, Драпарно; идеология и медицина, Бруссе
Для естественных наук потребовалось бы сочинение ещё более значительное, чем для физических и математических наук, если бы мы действительно захотели показать, какой прогресс они совершили под влиянием идеологии и какой вклад, в свою очередь, они внесли в неё. В нём следовало бы отвести место Сюэ (Süe) — сотруднику Декады, профессору и библиотекарю Медицинской школы, автору таблиц, добавленных к Отношениям физического и нравственного, — а также Русселю, автору Физической и нравственной системы женщины, незавершённой Системы физического и нравственного человека, Заметки о симпатиях, Опыта о чувствительности и Сообщения о госпоже Гельвеций. Точно так же стоило бы упомянуть Алибера (d’Alibert) и Ришерана, которых хвалили Кабанис и Брийя-Саварен, и указать, что Ришеран ещё в 1839 году, говоря о Кабанисе, выказывал восхищение, которое он не мог не передать своим ученикам; Флуренса (Flourens), которого Сент-Бёв представляет как ученика Дестюта де Траси и который доводит нас вплоть до 1867 года; Этьена Жоффруа Сент-Илера, создателя философской анатомии и отца Исидора, современника Дарвина; Эскироля и его исследования в области душевных расстройств и т. д. Так же как преемники Кабаниса, ученики Пинеля продолжают соединять философию с медициной, восхвалять анализ и ссылаться на Гиппократа: идеология остаётся госпожой медицинского факультета даже во времена борьбы между Пинелем и Бруссе. Но есть люди, которых недостаточно просто упомянуть: это — Биша, Драпарно, Ламарк, Бори де Сен-Венсан и Бруссе.
Биша (1771-1802), «все сочинения которого, — говорит Брийя-Саварен, — несут на себе печать гения, сочетал порыв энтузиазма с терпением ограниченных умов и, умерев в тридцать лет, заслужил, чтобы его память была отмечена общественными почестями». Он разделяет жизненные явления на два класса: называет животной жизнью функции, связывающие нас с внешними телами, а органической жизнью — те, что служат постоянному составлению и разложению наших частей. Этому различению двух жизней он придаёт такую чёткость, точность и значимость, которых оно не имело ни у Аристотеля, ни даже у Бюффона. Как и Бартез, не будучи ни более спиритуалистом, ни более материалистом, он провозглашает необходимость наконец-то перейти к строгому изучению жизненных явлений, отказавшись от изучения их причин. Подобно Кабанису, он считает, что нужно наблюдать ребёнка и взрослого, старика и женщину, самого человека в разные времена года, когда его душа спокойна или взволнована страстями, — чтобы получить общие результаты неоспоримой ценности. Как и он, Биша придаёт большое значение различению между церебральной системой и ганглиозной системой.
Именно при чтении Философской нозографии Пинеля у Биша возникла идея и план трактата, в котором он классифицировал оболочки. Цитируя Аристотеля, Бюффона и Бартеза, он мог бы по этому признаку быть причислен к идеологам. Но он ничего не говорит о Кабанисе. Последний, в предисловии к Отношениям физического и нравственного, упоминал «тех, кто, не колеблясь, счёл возможным присвоить себе несколько содержащихся в книге идей, не сочтя нужным указать их источник», и добавлял, что «поскольку он стремится распространять истины, которые считает полезными, он гораздо больше обязан этим авторам, чьё знание и талант придают идеям такую силу и вес, которых он сам, увы, не мог им сообщить». И тут же, в примечании, он «оплакивает смерть Биша, которая вызывает у него столь острое сожаление, что он не может не выразить его именно в этом месте». Кабанис полагал, что Биша заимствовал у него несколько идей. Был ли он прав? Бюиссон это отрицает. Говоря о различении церебральной и ганглиозной систем, изложенном в пространной сноске в Физиологических исследованиях о жизни и смерти, он утверждает, что другие — неизвестно почему — также пытались приписать это себе в то время, как это сочинение уже давно находилось в руках широкой публики. Здесь он намекает на Кабаниса. Насколько мог, он старался утвердить оригинальность Биша. Множество его отдельных тетрадей содержали в деталях различие двух видов жизни и служили основой его преподавания. Мемуары для Медицинского общества содействия, и особенно шестой из них, сделали его известным широкой публике.
У нас нет никаких оснований полагать, что Кабанис хотел приписать себе идеи других. Никто, более чем он, не стремился отдать каждому должное. Этого мы не можем сказать о Бюиссоне. Поклонник де Боналя, которого он постоянно цитирует и чьё определение человека считает превосходным, он яростно нападает на «софистов», на Сен-Ламбера и на «безумного автора Системы природы, настолько абсурдной, что она заставляет краснеть даже своих сторонников». Его политические и философские взгляды отдаляли его от Кабаниса и не оставляли ему особой возможности быть беспристрастным. Более того, если Исследования (Биша) действительно были в обращении у всех, когда Кабанис выразил свою претензию, это ещё абсолютно ничего не доказывает. Бюиссон не относит физиологические исследования Биша ранее 1798 года, поскольку до этого тот был всецело поглощён анатомией. Между тем Кабанис уже опубликовал свои Наблюдения о госпиталях, Степень достоверности медицины, преподавал в медицинской школе и зачитал в Институте большинство мемуаров, которые позже войдут в Отношения. Мемуары Медицинского общества, включая и труды Биша, были представлены как «приложение его идей». Наконец, Тюро публиковал в Декаде своё второе письмо о Кабанисе в то же самое время, когда та анонсировала Исследования Биша. Как он мог заимствовать у Биша доктрины, которые уже давно обнародовал сам? Что Биша не упомянул Кабаниса — это можно объяснить различием политических взглядов. Быть может, он считал своими теории, изложенные учителем, чьи курсы он мог посещать. В любом случае, абсолютно бесспорно, что эти идеи были впервые представлены и развиты Кабанисом, и попытки умалить его оригинальность были вызваны желанием бороться с идеологами.
Шопенгауэр не ошибался. Намекая на то, что Биша с талантом развил доктрины Кабаниса, он сблизил их в тот момент, когда уже было невыгодно ссылаться на последнего. Хотя он говорит о прогрессе физиологии, достигнутом благодаря Мажанди, Флуренсу, Беллу и Маршаллу Холлу, он считает, что эти успехи были недостаточны для того, чтобы Биша и Кабанис казались устаревшими. Он не желает, чтобы писали о соотношении физического и нравственного, прежде чем не усвоят Кабаниса и Биша in succum et sanguinem — до полного растворения в соках и крови. Он признаёт, что после Канта именно Гельвеций и Кабанис стали для него вехами в жизни. И это тем более заслуживает внимания, что Шопенгауэр рассматривал свою философию как метафизический перевод физиологии Биша — то есть доктрины двух жизней, а саму эту доктрину — как физиологическое выражение своей философии. Что Шопенгауэр нашёл у Биша более полное, более физиологическое изложение, очищенное от философских тенденций, которыми пронизана теория у Кабаниса, — мы нисколько не отрицаем; что Биша был оригинальным учеником — мы в это верим. Но мы также считаем, и доказали это, что он был учеником именно Кабаниса.
Шопенгауэр, не отделявший Кабаниса от Биша, показывает, что невозможно не связать их с другими мыслителями, с которыми мы их уже сопоставляли. Сильное влияние на него оказал также Гельвеций, на которого он ссылается, чтобы его не считали учеником Гегеля; Вольтер, Дидро и Шамфор; Ламарк, имя которого часто соседствует у него с именем Кабаниса. Но Кабанис, кроме того, придавал большое значение бессознательным впечатлениям и инстинкту, сближая его одновременно с тяготением и с чувствительностью. Шопенгауэр поставил волю выше разума, тем самым подготовив теории своего преемника Гартмана. Не является ли Кабанис — пусть не прямо, но уж во всяком случае косвенно — одним из предшественников «мифологии бессознательного»?
Де Бональд, как и Шопенгауэр, сблизил Кабаниса и Ламарка. Жан-Батист Пьер Антуан де Монне, шевалье де Ламарк (1744-1829), ученик иезуитов из Амьена, военный, а затем служащий у банкира, находился в отношениях с Бюффоном, который способствовал печати его Флоры Франции и поручил ему сопровождать своего сына в Голландию, Германию и Венгрию. Бедный и вынужденный работать на книжных издателей, он описал в Методической энциклопедии все растения от буквы A до P, дал характеристики 2000 родов, исследовал гербарии, ботанические сады, книги и обращался ко всем путешественникам. Соннера подарил ему великолепный гербарий, собранный в Индии; Вольней привёз ему из Америки камни, наполненные раковинами. Назначенный в 1794 году ответственным за беспозвоночных в Музее естественной истории, он имел перед собой огромный объём работы — и выполнил его. Он пролил свет на неведомый мир и нашёл в изучении этих животных, чья организация отличается особым разнообразием и своеобразием, средства для решения проблем естественной истории и философии. Первая из этих проблем — это проблема вида; вторая касается причин, благодаря которым возникает и сохраняется жизнь, а также поразительной прогрессии, которую можно наблюдать у животных как в усложнении их организации, так и в количестве и развитии их способностей.
Заслуги этого естествоиспытателя никогда не оспаривались, даже со стороны Кювье. Флора Франции, статьи в Методической энциклопедии, Естественная история беспозвоночных животных (7 томов) и классификация, предложенная Ламарком с 1794 по 1807 год, поставили его в первый ряд. Мы должны показать, что сделал Ламарк для естественной философии и психологии. Изучать его следует прежде всего по Зоологической философии. Без сомнения, он уже высказывал в своей Гидрогеологии и в Рассуждениях или исследованиях об организации живых тел (1802) ряд идей, которые вновь встречаются в Зоологической философии.. Но сам он говорит нам, что последняя работа — это не что иное, как новая редакция, переработанная, исправленная и значительно расширенная версия Исследований, в которой он использовал материалы, подготовленные для Биологии, от написания которой он отказался.
Как человек, близкий к Бюффону, который — до и после де Мале и Робине — предлагал различные решения вопроса о происхождении видов, Ламарк, после того как он изучил богатые коллекции и огромное число беспозвоночных, оказался неспособен надёжно установить границы видов среди множества полипов, лучевых, червей и насекомых, и не смог найти для их разграничения иные признаки, кроме мельчайших, а порой и вовсе детских особенностей. Именно это привело его к утверждению, что виды не обладают абсолютной постоянством, не столь древни, как сама природа, но подвержены изменениям обстоятельств, которые с течением времени вызывают изменения в их признаках и форме. Дарвин назвал Ламарка своим предшественником; Геккель поставил его рядом с Гёте и Дарвином и особо отметил его заслугу в том, что тот попытался доказать происхождение человеческого вида, по линии эволюции, от млекопитающих, близких к обезьянам. М. де Катрфаж сосредоточился в основном на слабых местах его учения, тогда как Мартен высветил его вклад в формулировку трансформистской доктрины: влияние среды на организм и наследственную передачу признаков, по его словам, принадлежат Ламарку, который, кроме того, предвосхитил и довольно чётко описал борьбу за существование — не увидев, впрочем, бесконечных последствий этого принципа и той огромной роли, которую он играет в природе. Людовик Карро особо отметил ту осторожность, с которой Ламарк представлял трансформизм как теорию, которую и спиритуалисты могли бы принять: неспособность материи к ощущению, природа как орудие высшей воли, различение идеи и ощущения. По мнению Перье, Ламарк никогда не хотел сказать, будто «животное всегда в конечном итоге получает орган, которого оно желает», но он приписывал трансформации видов стимулирующему воздействию внешних условий, выражающемуся в форме потребностей, и таким образом объяснял то, что мы называем адаптациями. Перье также подчеркнул важность теории актуальных причин, пришедшей на смену идее катаклизмов или всемирных бедствий, а также колебания Ламарка в вопросе о человеке — «о котором можно было бы думать, что он лишь видоизменённый четверорукий примат, если бы его происхождение не отличалось от происхождения животных, но который, тем не менее, поскольку отличается от высших животных в психологическом плане лишь в степени, должен происходить от них, как и они — от самых простых форм». Таким образом, трансформистская теория Ламарка была представлена во всех своих аспектах, и мы ограничимся тем, чтобы кратко напомнить её основные положения.
Ламарк различает то, что он называет «частями искусства» — систематические распределения, классы, отряды, семейства, роды, номенклатуру — и законы и действия природы, которая создала лишь отдельных индивидов, сменяющих друг друга и подобных тем, кто их породил. Подчёркивая важность изучения взаимосвязей, он сравнивает не только классы, семейства, виды, но и части, составляющие индивидуумов — органы чувств, дыхания, кровообращения и т. д. Таким образом, он видит в животном мире разветвлённый ряд, неравномерно градуированный, который не имеет разрывов в своих частях — или, по крайней мере, не всегда их имел, если верно, что исчезновение некоторых видов привело к их образованию.
За очень длительное время природа произвела все организованные тела, начиная с самых простых, возникающих в результате самозарождения в подходящих местах и при соответствующих условиях. Функции и органическое движение, установившиеся в этих зачатках, постепенно развивали органы и разнообразили живые существа. Над животными наименее совершенными, которые движутся только в ответ на внешние раздражители, обладая лишь раздражимостью без чувства и воли, поднимаются те, кто, испытывая ощущения, обладает смутным ощущением собственного существования и подчинённой, вынужденной волей; затем — те, кто наряду с раздражимостью и ощущениями имеет внутреннее чувство бытия, способность формировать смутные представления и определяющую волю, хотя всё ещё подвержен склонностям, влекущим к определённым объектам; и, наконец, — самые совершенные животные, обладающие ясными и точными идеями, способные сравнивать и комбинировать их для формирования суждений и сложных понятий. Каждая новая способность проистекает из добавления специального органа, из усложнения организации. Природа создаёт организацию, жизнь, чувство; она умножает и разнообразит органы и способности исключительно через потребность, которая устанавливает и направляет привычки. То, что мы делаем с домашними животными, природа осуществляет — только за счёт времени — со всеми существами: климат, пища, характер и качество местности, словом, разнообразие или изменение среды порождают новые потребности, которые требуют иных привычек, вызывают развитие тех частей, что используются чаще, или же — усилиями внутреннего чувства — создают новые части. Изменение, происходящее таким образом — удлинение шеи у жирафа, языка у муравьеда, появление рогов — передаётся всем последующим особям, подверженным тем же обстоятельствам. Следовательно, природа последовательно произвела все виды: она начала с наиболее несовершенных, или самых простых, и закончила наиболее совершенными, постепенно усложняя их организацию. Животные распространились по всем обитаемым регионам земного шара. Каждый вид, под влиянием условий, в которых он оказался, приобрёл те привычки, которые мы ныне ему приписываем, и те изменения в своих частях, которые показывает наблюдение. И чтобы опровергнуть этот вывод, нужно было бы доказать, что ни одна точка земного шара никогда не меняется — ни по своей природе, ни по экспозиции, ни по положению, ни по климату; а затем — что ни одна часть животного организма не изменяется, даже спустя большое количество времени, под действием изменения обстоятельств!
Не менее интересна, хотя и гораздо менее известна, психология Ламарка, которую, впрочем, невозможно отделить от его физиологии. С особым удовольствием он развивает вторую и третью части своего труда (с. 18). По методу он восходит к Декарту, Кондильяку, Кабанису, Бюффону. Но он обладает и своей оригинальностью. Изучение беспозвоночных привело его к трансформизму и позволило ему найти причину жизни: это органическое явление, результат взаимоотношений между частями тела, содержащимися в нём жидкостями, возбудительной причиной движений и изменений, происходящих в организме. Под действием тепла живые молекулы растягиваются и удаляются друг от друга: из этого особого состояния напряжения, или оргазма, рождается раздражимость. Под действием электричества оргазм прекращается — и мышца сокращается. Поэтому Ламарк не может согласиться с Кабанисом и его учеником Ришераном в том, что жить — значит чувствовать, что чувствительность и раздражимость это явления одного и того же порядка; ибо если это и верно для человека и наиболее совершенных животных, то у беспозвоночных, обладающих нервной системой, жить едва ли значит чувствовать, а у растений и низших форм животного мира это вовсе не чувствовать. Кабанис, следовательно, ошибся, когда, желая показать общее происхождение физического и нравственного, начал с изучения человека, в котором — именно из-за сложности явлений — крайне трудно уловить их истоки. Идя дальше Дестюта де Траси, Ламарк хотел бы, чтобы внимание было обращено прежде всего на организацию самых простых животных, с тем чтобы затем постепенно восходить к человеку. В то же время он считает, что было уделено недостаточно внимания влияниям нравственного (морального) на физическое. Натуралист, который приписывал потребностям способность создавать органы, должен был, по более чем одному пункту, отойти от Кабаниса и Дестюта де Траси.
Внутреннее чувство (sentiment intérieur) является результатом совокупности внутренних ощущений, порождаемых витальными движениями и взаимосвязью всех участков нервной жидкости, образующих единое целое. Это внутреннее чувство служит связующим звеном между физическим и нравственным: оно предупреждает индивида об ощущениях, которые он испытывает, и даёт ему осознание его идей и мыслей. Кабанис лишь смутно предвидел механизм ощущений, не изложив ясно его принципов; он неправильно понял природу инстинкта, выводя его из внутренних впечатлений, тогда как инстинкт, по Ламарку, проистекает из того, что вслед за эмоциями, вызванными потребностями, внутреннее чувство побуждает индивида к действию без участия воли. Кабанис также ошибся относительно меланхолии: именно постоянные и обоснованные огорчения вызвали те изменения в брюшных органах, с которыми он связывал её происхождение. Внутреннее чувство, кроме того, представляет собой производящую силу, которая даёт начало произвольным действиям. Однако воля предполагает суждение, сравнение идей, мысли или впечатления; следовательно, воля никогда не бывает по-настоящему свободной и не является столь надёжным проводником, как инстинкт.
Ламарк расходится со своими предшественниками и современниками и в вопросе о разуме. Разум, по его мнению, требует наличия особой системы органов: внутреннее чувство должно привести в движение нервную жидкость в гипоцефале, чтобы могли происходить операции разума. Поэтому, хотя всякая идея происходит из ощущения, не всякое ощущение способно породить идею; для этого необходим особый орган и участие внимания. Галль хотел доказать слишком многое, и в результате — как реакция — ничего из его теории не было принято, хотя она и содержала значительную долю истины. Дестют де Траси смешал собственно ощущения с осознанием идей, мыслей и суждений. Кондильяк доказал, что знаки позволили человеку расширить круг своих идей, но он не установил, что они участвуют в формировании самих идей. Главные акты разума — это внимание, мышление (или размышление), память и суждение. Внимание есть акт внутреннего чувства, который подготавливает часть органа разума к какому-либо акту интеллекта и делает её способной воспринимать впечатления, а также вновь делать ощутимыми и актуальными идеи, уже запечатлённые в нём. Без него ни одна из операций разума не может осуществиться, и совершенно очевидно, что внимание не является ощущением, как утверждал Гара. Образование развивает человеческий разум только путём сосредоточения внимания на столь разнообразных и многочисленных объектах, которые могут воздействовать на его чувства.
В резюме: Ламарк был выдающимся естествоиспытателем, которого его позитивные исследования привели к утверждению — задолго до Дарвина — что виды изменяются под влиянием окружающей среды, и что такие изменения передаются по наследству; к отстаиванию, вслед за Аристотелем, необходимости начинать изучение жизни с растений и низших животных; к дополнению учения Кабаниса, с бо́льшим учётом влияний нравственного начала; к формулированию, до современных авторов и после Аристотеля, плана сравнительной психологии, начинающейся с самых примитивных животных; к признанию, прежде, чем Ларомигьер разработал свою теорию, решающей роли внимания в операциях разума и в образовании. Дарвин, Льюис, Спенсер, Бэйн, Рибо воспроизводили, развивали и дополняли — зачастую не ведая того — идеи, уже высказанные Ламарком.
Рядом с Кабанисом, Биша и Ламарком следует поставить Бори де Сен-Венсана, автора книги Человек. Зоологический очерк о роде человеческом, которая вышла в 1825 году, после того как первоначально была опубликована в виде статьи в Классическом словаре естественной истории. «Из всего, что было написано о человеке до Кабаниса и Биша, — говорит он, — едва ли можно было бы найти, за исключением Локка и Лейбница, хотя бы полоктаво, заслуживающего сохранения».
Интеллектуальный человек, как «следствие человека-млекопитающего», должен, чтобы познать самого себя, проникнуть в устройство своего организма и организм животных, а также сравнить различные изменения, которые вносят в него возраст, здоровье или болезнь. Он настаивает на последовательном появлении морских форм жизни, затем растений, травоядных и хищников; сближает орангутана и человека и видит в различии большого пальца на стопе «лишь один из тех многочисленных переходов, посредством которых природа обычно соединяет все существа в бесконечном целом своих гармоний». Он вводит, по словам де Катрфажа, новое положение — влияние, которое оказывают на закрепление видовых признаков действия предков, находившихся сами в устойчивых условиях существования.
В своём десятом Мемуаре Кабанис упоминал Драпарно — профессора общей грамматики в центральной школе Монпелье, естествоиспытателя и философа, достойного уважения в обоих качествах. Он напоминал о прекрасном плане опытов, с помощью которых тот хотел определить степень интеллекта или чувствительности, присущей различным расам, и составить их идеологическую шкалу. Дестют де Траси высказывался ещё более точно и восторженно. Как сообщает Декада, Драпарно был кандидатом в секцию идеологии, конкурируя с Прево и Дежерандо. Что касается его учения, то у нас есть лишь два текста, чтобы составить о нём представление: две речи, произнесённые в X году Республики — одна при открытии центральных школ, другая при открытии курса зоологии.
Первое из этих выступлений посвящено философии наук. После того как Драпарно воздал хвалу центральным школам и выразил протест против врагов философии, которые напрасно будут противиться распространению просвещения и не смогут остановить постоянное движение человеческого духа к совершенствованию, он переходит к рассмотрению самой философии, стараясь определить её природу, отличая её от схоластики: «Философия, достойная нашего изучения, — говорит он, — это чисто эмпирическая наука, более плодоносная по своим результатам, более способная вести к полезным открытиям и всегда деятельная в своих замыслах и усилиях, подобно самой природе, которая и является постоянной целью её исследований и устремлений: это, одним словом, философия наук, или естественная философия».
Он включает в неё все человеческие знания и начинает с рассмотрения источников истины, то есть наших реальных и положительных знаний, а затем переходит к источникам заблуждений, то есть наших ложных и химерических представлений. Источниками истины являются чувства, наблюдение и опыт; разум, индукция, вычисление или рассуждение. Без ощущений рассуждение неустойчиво или иллюзорно; без разума чувства почти ничего не дают. Драпарно говорит о наблюдении в превосходных выражениях. Ещё до Ламарка он настаивает на важности внимания и почти готов утверждать, немного изменив знаменитую формулу Бюффона, что гений — это всего лишь высокая степень внимания. Наблюдатель должен не только сосредоточить своё внимание на изучаемом объекте, но и повторять наблюдение, чтобы избежать, как сказал бы Декарт, поспешности; и, прежде всего, он должен освободиться от всякого духа системности и забыть все теории. По этой причине наблюдение легче в физико-естественных науках, чем в науках нравственных. Действительно, воздействие наших внешних чувств и впечатления, производимые физическими объектами на эти чувства, постоянно побуждают нас выходить за пределы самих себя. Лишь одно чувство побуждает нас наблюдать происходящее внутри нас самих. Через это внутреннее чувство мы вполне способны воспринимать свои идеи, свои знания, свои страсти, все состояния внутренних органов. Но те впечатления, которые дают нам внешние ощущения, более живые, более разнообразные и более чёткие, чем те, что являются плодом внутренних ощущений или размышлений; потому нам легче направлять внимание на действия природы, чем на действия собственного духа. Вот почему естественные науки уже были развиты, когда метафизика и другие нравственные науки всё ещё находились в зачатке. Только в наше время последняя стала по-настоящему экспериментальной наукой, основанной на наблюдении. Опыт рождает феномены, варьирует их, комбинирует, умножает, повторяет, противопоставляет, соединяет. Все фактические истины исходят из наблюдения или опыта; из рассуждения, которое собирает факты, сравнивает их, классифицирует, комбинирует и выводит из них принципы, происходят истины дедуктивные. В толковании природы всё сводится к тому, чтобы переходить от чувств к разуму и от разума к чувствам, входить в себя и снова выходить из себя. Но нельзя придавать реальность абстрактным понятиям — причинам, началам, силам, способностям; нельзя считать их существующими сами по себе.
Драпарно сводит математический или рациональный анализ к анализу эмпирическому; он считает, что синтез и анализ всегда должны быть соединены как в операциях природы, так и в операциях духа. Но синтез — это ни хорошая индуктивная методика, ни удачный способ изложения. Существует лишь один метод расширения человеческих знаний и ускорения их прогресса — это наблюдать, а не воображать; анализировать, а не определять.
О второй части этой речи мы скажем немного. Драпарно справедливо утверждает, что не существует ошибок чувств, что все ошибки проистекают из суждения и имеют четыре основные причины: мы судим либо не располагая достаточными данными, либо не умея ими пользоваться, либо не желая их использовать, либо руководствуясь ложными правилами вероятности. Он желает, чтобы подлинные системы строились на достоверно установленных фактах. Следуя за Д’Аламбером и предвосхищая О. Конта, он считает, что вся задача физических наук состоит в установлении связи между феноменами и объяснении фактов через факты, поскольку принцип — это всего лишь факт, принимающий последовательно различные формы. Нужно ограничиться наблюдением и экспериментом, крайне умеренно использовать гипотезы и абстрактные принципы: философское сомнение, — говорит он, ссылаясь на Томаса Рида, — есть одно из лучших средств предохранения от ошибки и самое надёжное её исцеление.
Вторая речь посвящена жизни и жизненным функциям; это своего рода краткое изложение сравнительной физиологии. Драпарно выступает против тех, кто видит в жизненном начале нечто иное, кроме как абстрактный принцип — родовое название, под которым объединены явления одного порядка. Жизнь, по его мнению, есть результат организации: анатомия, химия, физика и наблюдение за различными живыми существами позволят нам, таким образом, раскрыть скрытые механизмы жизни. И Драпарно говорит о взаимосвязи наук, о совершенствуемости человека — как подлинный ученик Декарта, Д’Аламбера и Кондорсе.
Не менее заслуживают внимания соображения, которые Драпарно — примерно в ту же эпоху, что и Ламарк — высказывает относительно значения классификаций и, косвенно, иерархии наук. Когда внимательно изучаешь все индивидуальные существа, говорит он, становится очевидно, что в природе нет классов и что невозможно приписать каким бы то ни было установленным классам чёткие и однозначные признаки. Так, чувствительность у зоофитов развита крайне слабо, тогда как некоторые растения реагируют на прикосновения и внешние раздражения; существует аналогия между жизненными функциями животных и растений. Даже между неорганическими и органическими телами, как и между проявляемыми ими феноменами, нельзя провести чёткой границы, поскольку идея самозарождения не противоречит разуму, и ряд наблюдений даже, кажется, свидетельствует в её пользу. Если до сих пор не удалось объяснить все жизненные явления исключительно посредством механических и химических законов, то это объясняется лишь тем, что механизм живых тел ещё не изучен в совершенстве. За прогрессом физических наук последует и прогресс физиологии: если не ограничиваться наблюдением отдельных видов, не довольствоваться только аналогией, а прибегать к тщательному наблюдению и эксперименту, делать меньше теорий и собирать больше фактов, то можно значительно продвинуться в познании жизненных явлений. Ведь теории — это лишь общие формулы, служащие для связывания известных фактов, но один-единственный новый факт может их изменить; они должны приниматься лишь временно, до появления лучших. Теории заслуживают благожелательного отношения только в той мере, в какой они способствуют наблюдению, проясняют опыт и позволяют делать выводы, ведущие к новым фактам.
Драпарно упоминает Дестюта де Траси как первого метафизика, который детально разработал способ влияния, оказываемого двигательностью на формирование наших идей и возникновение знаний. Покидая область сравнительной физиологии ради идеологии, он, подобно Кабанису, придаёт большее значение инстинкту и, на примере куриных (gallinacés), утверждает, что Кондильяк приписал слишком большое влияние осязанию в операциях зрения: «Эти размышления и многие другие, рассеянные в данном небольшом трактате, — добавляет он, — составляют часть труда, который я намереваюсь опубликовать под заглавием Сравнительная идеология (Idéologie comparée), и в котором я буду рассматривать мышление и интеллектуальные функции у различных организованных существ, так же как в настоящем я рассматриваю жизнь и жизненные функции. Я уже упоминал об этой новой отрасли идеологии в плане курса метафизики, который в своё время был принят с большим одобрением министром внутренних дел (Люсьеном Бонапартом) и Комитетом народного просвещения. В то время правительство пригласило меня опубликовать мой курс полностью; я охотно бы откликнулся на это почётное приглашение, если бы иные литературные труды и обязанности на новом посту не отняли у меня на это времени».
Что стало с этой Сравнительной идеологией, которую призывали к жизни Дестют де Траси и Кабанис? Что стало с Курсом, одного лишь плана которого оказалось достаточно, чтобы Дестют де Траси и его друзья выдвинули кандидатуру Драпарно в Институт? Этого мы совершенно не знаем, несмотря на все наши поиски. Тем не менее, уже того, что у нас есть, достаточно, чтобы потребовать для него того места, которое было бы менее скромным, если бы он прожил дольше, но которое и так остаётся весьма почётным. Следуя за Д’Аламбером, но в более определённой форме, и предвосхищая Огюста Конта, он свёл всю философию к философии наук, ограничил физические науки изучением связей между явлениями и подчинил физиологию физико-механическим наукам. Относительно внимания и классификаций он высказал идеи, аналогичные тем, которые принесли славу Ламарку. Наконец, он задумал Сравнительную физиологию и Сравнительную идеологию, которые, возможно, могли бы направить умы по пути, богатому на открытия, интересные для познания человека. По всем этим основаниям его имя заслуживает сохранения в истории французской философии и науки.

В тот самый год, когда Дамирон и Кузен хотели «покончить с сенсуализмом», Бруссе пришёл на помощь Андриё, Валетту и Дону, которые с не меньшей отвагой, пусть и не столь успешно, вели ту же борьбу против Кузена. Друг Биша и ученик Пинеля, военный врач при Империи, он своим преподаванием в Валь-де-Грас и на улице Фуэн разрушил влияние Брауна, поколебал авторитет Пинеля и добился признания своей физиологической медицины. Раздражимость, приводимая в действие внешними агентами, стимулирует органы к усилению их функций; изменённая же вследствие чрезмерного или недостаточного воздействия этих агентов, она становится источником болезни, которая исчезает лишь тогда, когда чрезмерную раздражимость ослабляют ослабляющими средствами или когда слишком слабую раздражимость усиливают возбуждающими средствами.
Став главой школы и любимым учителем пылкой молодёжи, Бруссе счёл своим долгом защитить философию, соединённую с науками и особенно с медициной, которую почти с одинаковой яростью атаковали как теологическая, так и эклектическая школы. Разве не означало это одновременно защиту целостности «его власти» и попытку вернуть на свою сторону тех противников, кто всё ещё был учеником Кабаниса — а может быть, и тех, кто сохранял уважение к Пинелю? Бруссе прекрасно понимал, что речь шла о расколе между философией и науками.
Бруссе, родители которого были убиты шуанами, направлял свою борьбу против иезуитов и священников, против фанатизма и христианства, «склонного к гордыне и нетерпимости»; против «умного человека», воспевшего религиозное чувство, — и который, хоть и весьма плохо его объяснил, зато сделал его модным и влиятельным; и против другого знаменитого автора, воспевшего христианство и нашедшего его более поэтичным, чем мифологию. Но прежде всего он направлял свою резкую и настойчивую полемику — не гнушавшуюся ни презрения, ни оскорблений — против «канто-платоников», как он называл Кузена, Жуффруа и Дамирона. Он упрекал их в том, что они впустую «вставляют душу в мозг», как клавесинист — своего рода «душу» в инструмент, и создают «физическое идолопоклонство», вновь воздвигая «пантеон онтологии». Возвращаясь к идеям Кабаниса и соединяя их с собственной теорией раздражимости, он в L’Irritation et la folie («Раздражение и безумие») объяснял все интеллектуальные явления возбуждением мозговой субстанции. Внешний поток, исходящий от органов чувств, устанавливает связь мозга с внешним миром и приносит впечатления от предметов; внутренний поток, идущий от внутренних органов, устанавливает связь индивида с самим собой и сообщает о потребностях инстинктов. Реагируя на эти два вида возбуждения, мозг преобразует впечатления в идеи, а инстинктивные стремления — в произвольные действия, так же как желудок, реагируя на раздражения, вызываемые пищей, превращает её в хилус.
Книга имела колоссальный успех. «Сенсуализм, — писал Дамирон, посвятив Бруссе втрое больше места, чем Кабанису, — не приобрёл благодаря этой книге ни одного нового сильного аргумента, но обрёл мужество, вновь ожил, и хотя это, по сути, скорее заслуга ораторская, чем рациональная, тем не менее, нельзя отказать г-ну Бруссе в признании». Выжившие представители идеологической школы приравняли его к Дону. «Это произведение, написанное с талантом, — говорил Валетт (Aristide Valette), — будет грозным оружием против г-на Кузена, потому что оно отстаивает экспериментальный метод». «Эта учёная и изобретательная работа, — отмечал Тюро (Thurot), — может предложить спиритуалистам, которые с пренебрежением отвергают все достижения физиологии, мудрые советы и полезные уроки». Бруссе, в Академии моральных и политических наук, до самой своей смерти отстаивал против Дамирона, Жуффруа и особенно против Кузена ту философию, которую он выбрал и которой стал поборником.
Но Дамирон сказал о системе Галля, противопоставляя её системе Бруссе, что ни одна другая, по своим следствиям, не соответствует лучше спиритуализму. И действительно, Галль, особенно в своём Трактате о врождённых предрасположениях души и духа, боролся — хотя и не раз с похвалой цитировал — с Дестютом де Траси, Гельвецием и Ламарком; он часто ссылался на Мальбранша и Отцов Церкви и утверждал, что его система не ведёт ни к материализму, ни к фанатизму. Бруссе захотел отнять у эклектиков эту опору; он принял систему Галля и на этих новых доктринах обосновал выводы своего Трактата об раздражении и безумии. Эта работа была опубликована уже после его смерти, в 1839 году. Не будучи оригинальным философом, Бруссэ вновь сделал популярными доктрины Кабаниса и Дестюта де Траси, вернул врачам интерес к психологическим исследованиям, сохранил и подготовил аудиторию для тех, кто в наши дни возродил физиологическую психологию.
— IV —
Идеология и новаторы; Бюрден, Сен-Симон; Фурье, Леру, Рейно, Конт, Литтре; бывшие ученики Кабаниса и Д. де Траси; Дроз; Франсуа Тюро; союз филологии и идеологии, защитник школы Тюро; Ампер — христианин и либерал, философ и ученый; «Очерк по философии науки»; Биран
Когда уходили из жизни Дону и Бруссе, школа, которая казалась мёртвой, уже преобразилась — благодаря своей исключительной жизнеспособности — так, чтобы предложить новые доктрины новому времени. Уже отмечалось, что некоторые из тех, кто основал или хотел основать новые школы, заимствовали у идеологов отправную точку своих построений; остаётся теперь установить несомненную и точную преемственность этих доктрин.
Реабилитация народа, улучшение положения самого многочисленного и самого бедного класса волновали большинство тех, кто участвовал в Революции, так же как волновали и Кондорсе. Но в 1813 году Сен-Симон считал, что четыре наиболее значительных труда в области науки о человеке принадлежат Вик-д’Азиру, Кабанису, Биша и Кондорсе, и он намеревался свести эту науку в один труд, включающий две части, каждая из которых должна состоять из двух разделов. Первая часть должна была быть посвящена отдельному человеку, вторая — человеческому роду; разделы первой части представляли собой физиологическое и психологическое резюме, в котором автор должен был следовать за Вик-д’Азиром и обсуждать его взгляды; разделы второй части должны были составить Очерк истории прогресса человеческого духа до настоящего времени и начиная с современного поколения, в котором подвергались бы разбору идеи Кондорсе. Можно ли яснее изложить замысел продолжить труд идеологов, «связывая, комбинируя, организуя, завершая идеи Вик-д’Азира, Биша, Кабаниса и Кондорсе, чтобы сформировать из них систематическое целое»? Более того, именно доктор Бурден, по его словам, открыл ему важность физиологии. В одном разговоре, который часто вспоминается, тот будто бы сказал ему, что науки начинали с гипотез и все в итоге становились положительными; что астрономия и химия уже стали таковыми; что не составит никакого труда первому гению сделать физиологию наукой положительной, если он просто приведёт в систему труды Вик-д’Азира, Кабаниса, Биша и Кондорсе. Тем самым он сделает положительными мораль, политику, философию и усовершенствует религиозную систему, которая, как доказал Дюпюи, всегда основывалась на научной системе. Бурден рекомендовал выстраивать серии сопоставлений между структурой неорганических тел и тел организованных, между человеком и другими животными в разные эпохи; серии прогресса человеческого духа. Именно в 1798 году Бурден предложил Сен-Симону совместно осуществить то, что впоследствии было реализовано или намечено Дестютом де Траси, Кабанисом, Драпарно и др.. Кто же такой этот Бурден, которому так многим обязаны Сен-Симон и Конт? La Décade даёт о нём некоторые сведения. В VIII году (1799/1800) Моро упоминает его, напоминая о трудах Кабаниса. В XI году он сообщает о выходе Курса медицинских исследований в пяти томах, принадлежащего перу некоего г-на Бурдена, «врача, уже известного по нескольким работам», — и собирается проводить гальванические опыты в его пневматическом кабинете, тогда как Décade публикует письмо последнего по поводу бешенства. Было совершенно естественно, что друг идеологов рекомендовал изучение Вик-д’Азира, которого хвалил Кабанис, самого Кабаниса, который его цитировал, Биша и Кондорсе. Если он обратился к философу, чтобы довести до конца задуманное им дело, то потому, что в 1798 году Дестют де Траси ещё не выполнил для идеологической части того, что Кабанис сделал для части физиологической. А если Сен-Симон потом о нём больше не упоминает, то потому, что проект, о котором он думал, был в значительной мере осуществлён.
Шарль Фурье, автор фаланстерской системы, своей концепцией «страстного влечения» напоминает Гельвеция и Гольбаха, в то время как сама цель, к которой он стремится — счастье человечества — в общем связывает его с философами XVIII века. То же самое можно сказать о Пьере Леру и Жане Рейно: оба, придавая значительное место идее усовершенствования, восходят к Тюрго, Кондорсе и Кабанису; однако автор Опровержения эклектизма и Человечества вдохновляется, быть может, больше Дестютом де Траси и Ларомигьером, своей триадой — ощущение, чувство, знание — тогда как автор Земли и Неба, Зороастра скорее напоминает Кабаниса из Письма о первых причинах.
Мы только что указали на один из источников позитивной философии — и не из наименее значительных: на закон трёх стадий, в общих чертах сформулированный одним из тех, кто шел по тому же пути, что и идеологи. Мы видим, как он зарождается и медленно формируется у Тюрго, Даламбера и Кондорсе, у Кабаниса, Дестюта де Траси и Тюро, Ампера, Дежерандо, Ланселина и других. Существуют и иные истоки. Говорили о Бруссе. Но Конт выразил основные идеи Курса позитивной философии уже в 1822 году, в Системе позитивной политики, а затем — в 1826 году — в серии лекций, прерванных психическим расстройством и возобновлённых в 1829 году в присутствии Фурье, де Бленвиля, Бруссе и Эскироля, «которые с почтением приняли эту новую философскую попытку». Разве это не было удачным ответом тем, кто говорил об «школах» сенсуалистской, эклектической, теологической, — дать первой из них новое, выразительное имя — «позитивная», а пренебрежительно оставить наименование «метафизической и теологической» тем, что напоминают детство человечества? В этом отношении, следовательно, Конт ничем не обязан Бруссе. Тем, что он ему действительно обязан — как и сам Бруссе был обязан Галлю, Кабанису или Биша, — а значит, что опять возвращает нас к идеологам, является подчинение психологии физиологии. Что касается «социальной физики», учреждение которой казалось ему необходимым для завершения философии науки, то это чисто идеологическая традиция: Институт, и особенно Дестют де Траси, вслед за Кондорсе, трудились над тем, чтобы придать общественной науке ту же степень достоверности, какую имеют математика и физика. Точно так же классификация наук отсылает нас к Институту и Политехнической школе, к Даламберу, Дестюту де Траси, Ланселену, Драпарно. Действительно, Конт, земляк Драпарно, был воспитанником Политехнической школы.
Но если Конт и продолжает идеологов, в этом нет сомнений, то обнаруживается, что, подобно Фурье и Сен-Симону, он отличается от них поразительным невежеством в «идеологии» и в истории, которое, по-видимому, он стремится компенсировать «безграничной уверенностью» в собственных силах. Можно подумать, что в эти времена догматической реакции сомнение абсолютно изгнано из всех школ: каждая из них утверждает свою доктрину как прямое откровение свыше и рассматривает как «неверных» всех, кто не принимает её безоговорочно. Как бы то ни было, легко понять, что Литтре, воспитанный отцом, чьи убеждения были близки к идеологам, и сам приученный к научной методике и исследованиям, нашёл в позитивизме философию всей своей жизни: разве не стремился он научным путём ответить на все те вопросы, которые человеческий разум может, если не поставить, то, по крайней мере, разрешить?
В то время как Сен-Симон и Фурье, Леру, Рейно и Конт заимствовали у идеологов часть их теорий, чтобы преобразовать их в соответствии с потребностями новых поколений, другие писатели, ранее бывшие их верными учениками, отходили от них, приближаясь к философским и религиозным доктринам, вновь вошедшим в моду после Реставрации. Таковы были Дроз и Тюро, Бирaн и Ампер, чьё изучение позволяет нам увидеть, с одной стороны, какова была с 1796 по 1810 год сила влияния Кабаниса и Дестюта де Траси, а с другой — насколько мощным оно оставалось и после этого периода, даже на тех, кто не всегда осознавал, что подвержен ему.
Дроз (1773-1850), преподаватель центральной школы Безансона, опубликовал Опыт об искусстве красноречия и выставил свою кандидатуру в Институт; в 1803 году он обосновался в Париже, где сблизился с Пикаром, Андриё и Кабанисом, и по совету двух последних написал роман Лина, затем Опыт об искусстве быть счастливым и Похвалу Монтеню. В 1823 году он издал труд под названием О нравственной философии, или о различных системах науки о жизни, который Жуффруа охарактеризовал как «обращение к эклектизму», а Дамирон поставил его рядом с Руайе-Колларом и Кузеном. После своей книги Царствование Людовика XVI он опубликовал Мысли о христианстве и Признания христианского философа, где изложил, вместе с историей, мотивы обращения, напоминающего обращение Био. Этот эклектический и христианский моралист оправдывал своё сочинительство на тему применения морали к политике, ссылаясь на «мирную, медленную, но надёжную революцию, которую вершит время и которая ведёт род человеческий к лучшей судьбе». Именно он возглавлял комиссию, уполномоченную судить конкурс по Урокам философии Ларомигьера, после того как подписался под созданием памятника Бруссе, по-видимому, в знак признательности за энергичную апологию того человека, которого он сам когда-то прославлял с такой горячей эмоциональностью.
Франсуа Тюро (1768-1832) никогда полностью не отдалялся от Кабаниса и Дестюта де Траси, и, кроме того, представляется нам фигурой более значительной, чем Дроз, «обладавший редким искусством быть счастливым»: Тюро один из тех скромных людей, чьими трудами активно пользуются, но которых почти не цитируют. Никто в той мере, как он, не способствовал столь плодотворно прогрессу философских и грамматических исследований; и, пожалуй, никто не был столь быстро забыт, когда ради отказа от идеологов — обратились к шотландцам или немцам. Будучи учеником школы мостов и дорог, подпоручиком пожарной охраны Парижа, домашним учителем в Отёе и гостем мадам Гельвеций, он посещал в Нормальной школе лекции Сикара и Гара, а затем по поручению Исполнительной комиссии по народному просвещению занялся переводом Гермеса Гарриса. Этот перевод, снабжённый примечаниями и Предварительной речью, где с истинным мастерством были изложены успехи грамматической науки и связь между философией и грамматикой, был посвящён Гара, которому Тюро воздавал величайшую похвалу «как философу и как литератору». Кабанис, Дестют де Траси, Дону высоко отзывались как о труде, так и об авторе. Сам Тюро, превознося Бэкона, Локка и Кондильяка, уже тогда упоминал Платона как одного из величайших умов Греции. В «тьме средневековья» он выделял имена Симплиция, Филопона, Аммония, Боэция, Алкуина; указывал на религиозные споры XVI века как на фактор прогресса для французского языка и высоко оценивал труды Порт-Рояля, Бурура, Бюффье, Данжо, Дюмарсе, Жирара, де Бросса, Тюрго и Кур де Жеблена.
В феврале 1797 года Тюро открыл в Лицее для иностранцев курс общей и сравнительной грамматики, от которого до нас дошли программа и несколько лекций. В них, по словам Дону, содержится новая структура, меткие наблюдения, остроумные идеи. В первой лекции Тюро исследует происхождение и очерчивает историю грамматики, показывает, как анализ, аналогия и этимология способствовали формированию языков, как грамматика связана с идеологией. Он совершенно справедливо утверждает, что начинать следует не с изучения латинского языка и грамматики, а с изучения родного языка, потому что по отношению к нему имеется больше данных, больше естественных и приобретённых средств. Во второй лекции он рассматривает соотношение между элементами и формами языка и нашими интеллектуальными способностями, их действиями, привычками и различными типами идей, которые они позволяют нам усвоить и которые мы нуждаемся выразить. Совершенство искусства речи, — говорит он, — в существенной степени зависит от той степени достоверности, которую приобрели метафизика (читай: идеология), а особенно логика. И далее, суммируя взгляды спиритуалистов и материалистов, он добавляет: «Мне кажется, что тот, кто в таком случае имеет благородную смелость признать, что не знает, — по крайней мере, самый благоразумный». Третья лекция посвящена учреждению знаков; четвёртая и пятая — различным классам слов. Пятая, шестая и седьмая должны были включать применение принципов к французскому языку и анализ образцов прозы и стихов; восьмая и девятая — сравнение французского языка с латинским и греческим, а затем — с некоторыми новыми европейскими языками.
По приглашению Лекультё де Кантлё, чьих сыновей он обучал, Тюро перевёл Жизнь Лоренцо Медичи Роско, потому что «история — это школа народов, она предлагает им полный курс экспериментальной науки о человеческом сердце», и потому что она даёт результаты, из которых можно вывести выводы, бесконечно полезные для счастья и совершенствования человеческого рода. Если бы история трактовалась людьми гения с той же строгой методологией, какая уже существует в некоторых науках факта, она могла бы дать полное учение, способное утвердить социальное счастье на его подлинном основании — то есть на позитивном знании связей, объединяющих людей между собой.
Сторонник свободы, противник «абсурдных систем теологии или утончённой и тёмной метафизики», Тюро с воодушевлением встретил труды Кабаниса и Дестюта де Траси. Два восторженных отклика были им написаны в VIII году (1799/1800) по поводу первых Мемуаров Кабаниса, чтобы отметить тот прогресс, который они давали человеческому разуму, проливая столь же ценное, сколь и неоспоримое просветление на позитивную науку морали. Напоминая об основных ошибках Кондильяка, Гельвеция и Бонне, которые были исправлены Кабанисом, и высоко оценивая его глубокие познания в физиологии и ум — одновременно точный и обширный, — он утверждает, что наука о человеке в этих трудах была рассмотрена с совершенно новой точки зрения; что открыт был необъятный и весьма соблазнительный простор для аналитического и исследовательского духа. С присущей ему смелостью он заявляет, что был сделан большой шаг вперёд, поскольку наблюдения, касающиеся инстинкта, были связаны с философским анализом; что пассаж, в котором мозг сравнивается с желудком и который он цитирует целиком, представляет собой анализ столь же остроумный, сколь и строгий, способный пролить свет на механизм ассоциации впечатлений и идей. Затем, проанализировав эти новые и дерзкие доктрины, «которые необычайно сужают власть сокрытых качеств и расплывчатых абстракций, оставляя при этом по-прежнему необъяснённым сам принцип действия, в котором, следовательно, позволительно помещать грёзы, питающие воображение слабых умов», — он возмущается посредственностями, которые неспособны оценить труд, «не принадлежащий к числу наименее выдающихся памятников философии этого века».
В отзыве на Идеологию мы находим почти столь же много восхищения и энтузиазма, если не доверия. Принимая все доктрины, «счастливо продвигаемые» Дестютом де Траси в этой книге, которая, содержащая всё, что известно положительного и существенного о знаках, «станет вехой в истории французской философии», он утверждал вместе с автором, что последняя (идеология) чрезвычайно далека от всякого духа секты или партии и должна входить во всё, что совершается во благо, поскольку она не что иное, как просвещённое и методическое применение разума к различным предметам, которыми способен заниматься человеческий ум.
В 1802 году Тюро стал директором Школы наук и изящной словесности, основанной профессорами Политехнической школы — Лакруа, Пуассоном и другими друзьями «здравого образования». В этом заведении он в основном занимался языками, литературой и историей. Вероятно, именно в этот период он написал свою Речь о пользе древних языков, особенно для молодых людей, предназначенных к свободным профессиям. Развивать следует те зачатки доброты, чувствительности, великодушия, которые природа вложила в ребёнка. Точные науки к этому не приспособлены; итальянский, английский, немецкий языки, при всех их достоинствах, не могут заменить древние языки как средство совершенствования вкуса и развития умственных способностей. Изучение выдающихся произведений гения Корнеля, Расина, Боссюэ, Вольтера, Бюффона и стольких других писателей, составляющих славу нашей нации, не может и не должно освобождать нас от изучения шедевров Гомера, Вергилия, Цицерона, Демосфена и других знаменитых греков и римлян — точно так же, как знакомство с творениями Микеланджело, Рафаэля и современных живописцев или скульпторов не может заменить для художника изучение Аполлона Бельведерского, Лаокоона и других уцелевших произведений античного искусства.
В то же время Тюро следил за печатью Отношений (Rapports) и анонсировал их во Французском гражданине, настаивая — с целью успокоить робкие умы, устрашаемые тем, что им представляют как пагубное и опасное в материализме, — на различии между наукой о человеке и теологией, последняя из которых имеет в своём ведении «бездонную бездну, в которой теряется и уничтожается человеческий разум». «Язык Кабаниса, — говорил он, — когда тот рассуждает как врач и философ о различных органах человека, о влиянии полов, куда более целомудренен, чем язык Шатобриана в главе, посвящённой целомудрию; этот факт может показаться странным тем, чьи религиозные или иные предрассудки внушают столь жалкие и странные представления о том, что они называют философией и философами».
В 1803 году Тюро женился на мадемуазель Татте, дочери биржевого маклера. В том же году он составил три извлечения из Грамматики Дестюта де Траси. Начиная с 1804 года, Тюро, как и Дону, и многие другие, проявляет меньше уверенности, энтузиазма и решительности. Анонсируя второе издание Идеологии, он говорит о Логике, которая придаст всему зданию значительную прочность. Автор окажет философии важную услугу и заслужит признательность тех, кто заинтересован в совершенствовании науки о человеке и методов, пригодных для управления его умом. Но Тюро не знает, каков будет «окончательный приговор потомства». Ещё более колеблющимся он выглядит, анализируя перевод Библиотеки Аполлодора: «Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что философский дух… мог бы, если бы его перенести, так сказать, в область учёности, придать ей в некотором роде новое лицо».
Тем не менее, публикуя и комментируя Апологию Сократа по Платону и Ксенофонту, Тюро по-прежнему вдохновляется теми же заботами, что и все друзья философии: Сократ, говорит он, намекая на «яростные тирады и чудовищные обвинения», стал жертвой своей любви к философии — философии, которая с тех пор была прославляема просвещёнными и добродетельными людьми всех времён и народов, но преследуема и поругаема злыми или безумными.
Став свободным после закрытия Школы наук и изящной словесности, которая «не сделала своего директора богатым», Тюро начинает сотрудничать с Меркурием. Отзываясь о переводе Илиады Сен-Эньяном, он вновь высказывается утвердительно, когда речь заходит о Кабанисе: тот, по его словам, «отличается широтой и разнообразием знаний не меньше, чем редчайшими душевными качествами, исключительно гибким талантом, самым утончённым вкусом и глубочайшим чувством прекрасного». В этот период (1809) он, подобно Дону, сближается с Наполеоном в его борьбе с Папой. Затем он хвалит преподавателей старого Университета и утверждает, что «по знаку от выдающихся деятелей, которых выбор монарха поставил во главе, французские учителя, воспитанные этим Университетом, придадут нашему народному образованию всё блеск и развитие, на которое оно способно». Но в то же время он добавляет: «обращаться следует к другим нациям Европы, а не к книгам старого Университета, чтобы возродить и распространить изучение и вкус к древней литературе».
Именно к этому времени относится ссора Тюро с Гайлем, недовольным тем, что премию десятилетия за перевод отдали не ему, а Кораю (Coray): Тюро, если бы захотел, мог бы быть весьма «остроумен и язвителен». Став помощником Ларомигьера, он говорит о «могучей руке, которая избавила нас от диких и грубых людей, творивших в революцию, и которая восстановила, посредством торжественных учреждений, изучение языков и истории греков и римлян — благодеяние, за которое потомство не должно быть менее благодарным, чем нынешнее поколение». Затем, после издания Финикиянок Еврипида, он в 1814 году анонсирует второе издание Политической экономии Ж.-Б. Сэя, «издание которой было запрещено полицией правительства, взявшего себе в задачу подавление всякой полезной истины». Он не прощает Наполеону того, что тот торжественно объявил, будто во всём виновата идеология — в то время как причиной бедствий была его собственная слепая и жестокая амбиция. Преподавая в Коллеж де Франс, он комментирует Платона, Ксенофонта, Марка Аврелия и ищет у Гомера философские или религиозные традиции древней Греции, а затем публикует Горгия. В 1818 году он открывает свой курс в факультете словесности Речью о философии, в которой Дону усмотрел зародыши великого труда, опубликованного двенадцать лет спустя, хотя и не развитие тех доктрин, о которых мы уже говорили и которым предстоял удивительный успех. Все наши реальные, положительные и полезные знания происходят из наблюдения, посредством которого мы определяем неизменную последовательность фактов или событий, предлагаемых нам природой или обществом: разум лишь мечется от ошибки к ошибке, когда предполагает факты, реальность которых не подтверждается никаким опытом, никаким наблюдением. Алхимия уступила место химии, стала положительной наукой, лишь тогда, когда отказалась от философского камня и Великого делания, чтобы заняться наблюдением явлений и анализом составов с целью познания их частей. То же самое относится и к другим наукам: «Всякая реальная наука, всякое положительное знание состоит только в более или менее обширных сериях тщательно наблюдаемых фактов, порядок и последовательность которых были подтверждены многочисленными и разнообразными опытами, позволяющими нам во многих случаях с уверенностью предсказать, что должно последовать из таких-то или иных данных и известных обстоятельств, сами же эти обстоятельства — не что иное, как факты, реальность которых удостоверена нами либо непосредственно, либо косвенно». Ошиблись ли мы, утверждая, что у Тюро были идеи, которые ему не приписывали, и что позитивизм лишь продолжил линию идеологической школы?
При либеральном министерстве Тюро возвращается к надеждам своей юности: он верит в торжество истины и терпимости, в прогресс всеобщего разума, в ощутимое и скорое улучшение участи человечества. Он уже тяготеет к шотландцам в вопросах внутреннего наблюдения. Излагая историю логики и её древние достижения, он полностью анализирует Органон и трактат Порфирия, даёт правила индукции и изучает источники нашего знания — сознание, восприятие, свидетельство и индукцию, — критикует трансформированное представление о чувственности у Кондильяка, а также попытку Кондорсе и Лапласа применить исчисление вероятностей к обществу, и в то же время широко вдохновляется (хотя и судит свободно) трудами Дестюта де Траси, логику которого он анализирует как «превосходящую логику всех его предшественников». Он курирует издание Локка и подаёт в отставку с должности доцента факультета; переводит — в пользу греков — Мораль и Политику Аристотеля, Наставления Эпиктета, Таблицу Кебета и Речь Ликурга против Леократа. В Энциклопедическом обозрении он рассматривает Парадоксы Кондильяка и Философские фрагменты Кузена, «который выступил с твёрдым намерением реформировать философские доктрины, не зная, однако, какую другую систему ему следует поставить взамен». Он напоминал, что Императорский университет имел задачей «поддерживать всё, что способствовало дискредитации философских и политических воззрений XVIII века»; что многие заслуженные люди содействовали этим установкам, не желая того, и что Кузен лишь последовал этим различным импульсам, когда атаковал Локка и Кондильяка. Читая Кузена, Тюро отмечал выражения вроде «печальная философия», «философия чувства», «сенсуализм», употреблённые этим писателем, «слишком риторичными и недостаточно философскими», что он представлял старые вещи как новые, а довольно банальные мнения как ценные открытия. В его трудах, добавлял Тюро, нет ни одного существенного наблюдения, принадлежащего ему самому; напротив, он, кажется, с презрением обошёл те наблюдения, которые были сделаны до него; он считает, что с помощью мистических и образных выражений решает вопросы, которые тем самым лишь затемняет, и принимает слова за вещи. Эта статья не понравилась и не могла понравиться Кузену: Тюро оказался замалчиваем в Опытe, где, однако, Дамирон отвёл место Ланселину, Азэ, Берару, Кератри. Тем не менее, Тюро не складывает оружия, так же как и Дону или Бруссе. В 1828 году он с одобрением упоминает труд Туссена (Toussaint), «принадлежащего к французской школе, которую в последнее время столь старательно стремились опорочить», и приветствует намерение автора вернуть идеологии её истинную природу — быть, как и все другие естественные науки, наукой о фактах.
В феврале 1830 года выходит труд, который, по словам Дону, обеспечивает Тюро выдающееся место среди писателей своего времени — Введение в философию. В этом сочинении виден человек, которого изучение древних и новых философов сделало менее категоричным и который в определённой степени испытал влияние философской и религиозной реакции; но вместе с тем — это всё ещё прежний ученик Кабаниса и Дестюта де Траси, противник эклектизма. Аристотель и Платон, Цицерон и Сократ, Боссюэ и Паскаль, Тюрго и Кондорсе, Кондильяк, Декарт и святой Августин, Лейбниц и Рид, Юм и Локк, Гоббс и Беркли, Ларомигьер и Флёри, Мальбранш и Дугалд Стюарт, Бюффье и Бэкон, Д’Аламбер и Лакруа, Эйлер и Хартли, Пинель и Ансиллон, Руссо и Хатчесон, Фенелон и Вольтер, Смит и Арно — все эти мыслители были хорошо знакомы Тюро и почти каждый из них давал ему «некоторые ценные указания». Так, в первой части, которая, по его словам, представляет собой краткое изложение учения о восприятиях, он следует Риду и принимает различие между восприятием и ощущением, а также идею приобретённых восприятий. Далее он утверждает, что физическое и нравственное всегда останутся разделёнными между собой «несоизмеримым расстоянием», отделяющим факт сознания от модификации материи. Но он не идёт дальше признания существования двух различных порядков явлений и не представляет себе, «что означало бы для души существовать отдельно и независимо от тела» — даже отдельно от способностей или функций, по которым она распознаётся. Тем не менее, он верит в бессмертие, потому что чувство, побуждающее нас надеяться на награду или бояться кары в будущем, в зависимости от того, повиновались ли мы нравственному закону или нет, — неуничтожимо. Вместе с Бенжаменом Констаном он рассматривает влияние религиозного чувства на добродетель и счастье; а с Мальбраншем принимает идею первой причины, всесильной и всеразумной.
По многим пунктам Тюро думает иначе, чем в 1800 году; однако он не покинул школу. Он по-прежнему отсылает к Кабанису и Дестюту де Траси, когда речь заходит о привычке: именно Отношения — несомненно, одно из самых достойных произведений философии XVIII века, написанное с большим талантом искренним другом человечества и добродетели — он цитирует, чтобы доказать необходимость соединения физиологии с идеологией. Вслед за Дестютом де Траси, которого он ставит в логике выше перипатетиков и Кондильяка, он предпочитает название идеология терминам психология или метафизика; он выделяет особое место чувству движения, критикует Монтескьё и усматривает в потребностях источник прав человека, а в средствах источник его обязанностей. Он оправдывает то, что занялся политикой, ссылаясь на Комментарий к Монтескьё и на том, в котором Дестют де Траси изложил «с не меньшим интересом, чем методичностью» принципы социального порядка и политической экономии. Он опирается на Дону — «одного из самых учёных людей, самых выдающихся умов и лучших писателей нашего времени», — чтобы осудить нетерпимость и изложить гарантии индивидуальной свободы. Он ссылается на своих близких — Дюнуайе и Шарля Конта, Бентама и Дюмона из Женевы, а также на самого Бруссе, хотя и упрекает последнего за попытку свести идеологию к физиологии. Все они упоминаются и хвалятся как учёные, изобретательные и проницательные мыслители.
Тюро, напротив, жалуется на то, что был изобретён термин, внушающий женщинам и светским людям мысль о том, будто сенсуалисты сочиняли непристойные книги или, по крайней мере, трактаты по гастрономии. Ему не нравятся те, кто говорит с восхищением о себе и своих доктринах, а о противоположных мнениях — с презрением и высокомерием, используя такие выражения, которые заставляют видеть в этих взглядах нечто безнравственное и опасное. Он не увлекался теми возвышенными метафизическими спекуляциями об абсолютном, бесконечном, которые так занимали немцев, потому что нашёл в них многое, превосходящее его понимание, а также многое уже давно сказанное. Он выступает против тех, кто изобретает новые или необычные выражения для уже известных вещей: априорные формы, чистая чувствительность, категории чистого рассудка, чистый разум — и тем самым приводит других к тому, чтобы говорить, что «я полагает само себя», обращаться к понятию интеллектуальной интуиции, возрождать схоластические и варварские термины — вместо того чтобы пользоваться философским языком Декарта, Паскаля, Боссюэ и Мальбранша. И он задаётся вопросом, отнесут ли его к «сенсуалистам» или к «эклектикам», замечая при этом, что всякий человек, занимающийся ремеслом, искусством или профессией, неизбежно становится эклектиком — то есть выбирает те средства, которые кажутся ему наиболее полезными или наименее неудобными.
Июльская революция 1830 года представлялась Тюро как реванш и продолжение 1789 года, но вскоре он, как и Дестют де Траси, и Дону, с сожалением констатировал, что «торжество справедливости и свободы было вновь отложено на неопределённый срок и что единственное изменение состояло в замене старшей ветви Бурбонов младшей». Он умер в 1832 году от холеры, оставив, как пишет Шарль Тюро, репутацию ума «в высшей степени рассудительного, умеренного, справедливого, убеждённого в том, что истину следует искать ради неё самой и ради улучшения человеческого состояния». Добавим, что он не был мыслителем без оригинальности и обладал довольно редкой заслугой — тесно соединить филологию с идеологией, к огромной пользе и для той, и для другой.
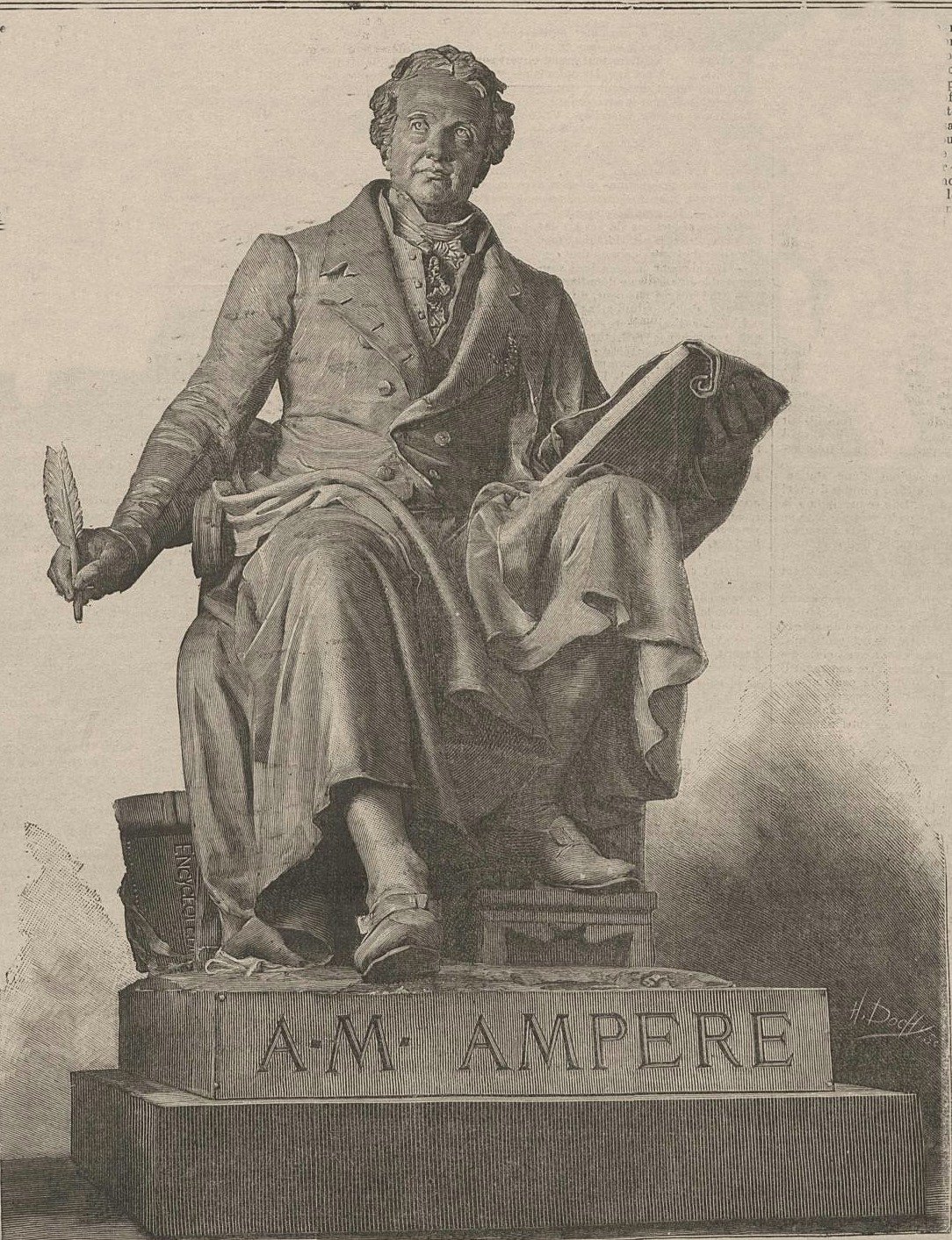
Отец Тюро, восхищавшийся Локком, подготовил своего сына к тому, чтобы тот стал учеником Кабаниса и Дестюта де Траси. Ампер не находился в тех же условиях. Его мать была глубоко религиозна, и его первое причастие стало «одним из важнейших событий его жизни». Его отец, мировой судья в Лионе до 1793 года, был гильотинирован и завещал своим детям: «всегда иметь перед глазами страх Божий, который внушает нашим сердцам невинность и справедливость». Ампер испытал и другие влияния. Чтение Похвалы Декарту, написанной Тома (Antoine Léonard Thomas), пробудило в нём вкус к физическим и философским наукам; взятие Бастилии произвело на него глубокое впечатление; Энциклопедия, «в которой он даже изучал геральдику», познакомила его с философией XVIII века.
Христианин и либерал, философ и учёный — таков был Ампер всю свою жизнь; однако на первый план он выдвигал то одну, то другую из этих сторон своей личности. После смерти отца он вышел из «состояния почти идиотии», в которое впал, благодаря ботанике, вкус к которой ему привили письма Жан-Жака, а также латинской, итальянской и греческой поэзии. Со своими друзьями он читает Трактат о химии Лавуазье, к которому испытывает восхищение, ещё более усиливающее в нём вкус к анализу — методу, рекомендованному Лавуазье вслед за Кондильяком. Влюблённый в мадемуазель Каррон, происходившую из католической и роялистской семьи, он женится на ней сначала по церковному обряду — 15 августа 1799 года, а спустя несколько недель — и по гражданскому праву. Баланш, в прелестном прозаическом эпиталамии, которым он воспевает этот брак, сам предстает перед нами как человек, испытанный влиянием XVIII века. Бог в этом тексте упоминается часто, но автор не забывает уточнить, что «зрелище счастливой жизни, прожитой в исполнении долга, это наилучшее произведение, какое человек может предложить божеству».
В декабре 1801 года Ампер становится профессором физики и химии в центральной школе города Бур. Его жена, ставшая матерью и тяжело больная, остаётся в Лионе. Именно тогда он произносит ту речь, которую опубликовал А. Бертран, усматривающий в ней набросок Опыта о философии наук. Ампер говорит о прогрессе человеческого духа в нашу новую эпоху; он различает свойства материального существа и модификации разумной субстанции, которые дают начало двум классам наук, внутри которых наблюдаются одни и те же градации и одни и те же деления. Затем он работает над Опытом о математической теории игры, который вызывает интерес Баланша и Дежерандо. Тем временем здоровье его жены всё ухудшается, и она сталкивается с финансовыми трудностями. Ампер возвращается к религиозным идеям. Он узнаёт, что в лицеях будет учреждён курс трансцендентной математики, и готовится к конкурсу. Дежерандо пишет в его поддержку «дружеское письмо» экзаменаторам — Деламбру и Вийяру. Те сообщают ему, что его место в Лионе. Назначенный в лицей, он возвращается к умирающей жене: 15 мая 1803 года он впервые с момента смерти своей сестры идёт в церковь Полемьё, 19 мая присутствует на торжественной мессе, 22-го запрашивает адрес священника, 28-го беседует с ним в исповедальне, 6 июня получает отпущение грехов и 7-го пишет, что «этот день определил всю остальную его жизнь». Но 14 июня он записывает «духовное причастие», 4 июля присутствует на «мессе Святого Духа», а 13-го записывает строки, которые Сент-Бёв сравнит с пергаментом Паскаля.
14-го числа он потерял свою жену.
Со своими лионскими друзьями он создаёт католическое общество для научного изучения оснований христианской религии, доказательств её божественного происхождения и откровения. Баланш и он проявляют в этом деле большую активность. Ампер обращает в веру Бредена. Барре, ставший впоследствии иезуитом, пишет ему в 1805 году, что «после Бога» именно он оказал сильнейшее воздействие на дух его брата и побуждает его попытаться сделать то же с их младшим братом. Но скорбь терзает его: он хотел бы найти облегчение своей боли, сменив обстановку и место. Тем временем он занимается «почти исключительно исследованиями разнообразных и увлекательных явлений, которые человеческий разум предлагает наблюдателю, освободившемуся от влияния привычек». Он работает для Института над Мемуаром о разложении мышления, фрагменты которого опубликовал Б. Сент-Илер. Дестют де Траси уже издал свою Идеологию и Грамматику; Кабанис — Отношения; Биру — О влиянии привычки; Дежерандо — О знаках и Сравнительную историю систем, в которой он возражал против теории Дестюта де Траси. Будучи тогда глубоко религиозным, Ампер, несомненно, испытывал определённую неприязнь к Отношениям, а также недоверие к Дестюту де Траси. Его предпочтения склонялись к Биру, который старался «не наносить ущерба ничему уважаемому и по-настоящему достойному уважения», и к Дежерандо, которого он знал и любил. Таким образом, он принимает точку зрения Лакруа, с которой соглашались Биран и Дежерандо, а именно: что Локк, Бонне, Кондильяк пришли к открытиям, сделавшим их бессмертными, посредством синтеза, несмотря на то, что в изучении способностей они применяли анализ — тот самый, который произвёл революцию в химии. Для каждой из способностей, рассматриваемых как элементарные, он хочет: 1° дать ясное представление; 2° выяснить, какое представление она нам предоставляет и какие физиологические явления можно предположить как «содействующие» её возникновению; 3° как соединяются представления, составляющие сложное представление, и что нам известно о физиологических причинах и законах, управляющих этими ассоциациями; 4° какое чувство реальности сопровождает это представление; 5° какие аффективные чувства оно возбуждает; 6° в какой степени осуществление способности зависит от внутренней активности; 7° требует ли оно развёртывания внешней активности.
Вслед за Бирaном он различает способность воспринимать и способность испытывать аффективные состояния, хотя и утверждает, что существует крайне мало ощущений, в которых действовала бы только одна из этих двух способностей. Однако он не признаёт никакого другого Я, кроме совокупности всех наших восприятий всех видов, и определяет, вместе с Дежерандо, мышление как составленное из восприятий или идей. Как Локк и Дежерандо, он называет рефлексивными восприятиями те, которые дают способность замечать наши собственные действия; вместе с последним он принимает существование суждений без сравнения, посредством которых мы соединяем чувствительные или рефлексивные восприятия. Если он признаёт четыре способности — воспринимать, чувствовать, связывать и хотеть, — то вторую он понимает так же, как Бирaн. Он не желает, как некоторые авторы, считать внимание особой способностью и замечает, вслед за Дестютом де Траси, что абсурдно поступать так, определяя внимание в духе Кондильяка. Отмечая, что именно Дестют де Траси первым указал на злоупотребление словом сопротивление, допущенное Кондильяком и его учениками, он разбирает седьмую главу Идеологии и считает, что автор поднялся недостаточно высоко, чтобы объяснить формирование наших первых суждений; но если целью было — из исходного суждения заключить существование объектов вне нас, то он приблизился к цели ближе, чем кто-либо из своих предшественников. Вслед за Дестютом де Траси он использует термин идеология и критикует кондильяковскую теорию тождественности; однако, развивая теорию идеологического принципа абстрактных истин, он вдохновляется именно Дежерандо, — «и эта теория была бы полной, если бы Дежерандо ограничился рассмотрением отношений зависимости, возникающих из того, что группы, между которыми эти отношения существуют, образованы из тех же самых идей, но комбинируемых по-разному, хотя и эквивалентно». Таким образом, именно Дежерандо он в значительной степени обязан той «способности усматривать связи», которой он придаёт столь важное значение.
Ампер также ссылается на Канта и вводит физиологические соображения при рассмотрении любого вопроса; но он утверждает, что идея бесконечного «вовсе не противоречива»; что мыслящее существо может занимать место внутри бесконечной мысли; что необходима душа, чтобы сравнить два удовольствия — «от бокала вина и от теоремы геометрии».
В вандемьере XIII года (осенью 1804 года) Ампер, назначенный репетитором по анализу в Политехнической школе, переселяется в Париж, всё ещё скорбя по Жюли. Он устанавливает тесные отношения с Бирaном, иногда обедает в Отёе вместе с Траси и Кабанисом, которых часто видит и которые проявляют к нему даже больше дружбы, чем математики. Единственное удовольствие, которое он испытывает, — это спорить о метафизике. Некоторые его идеи крайне отличаются от взглядов месье де Траси; тот, однако, по-видимому, ценит его исследования и придаёт больше значения его метафизике, чем сам Ампер ожидал. «Насколько же восхитительна наука психологии!» — восклицает он.
Друзья из Лиона присылают Амперу молитвы, которые он старается распространить в Париже — среди тех, кто ещё не забыл о своём Боге. Баланш, размышляющий о том, чтобы принять духовный сан, испытывает тревогу. Сам Ампер предупреждает нас, что его религиозный пыл угас. Из Лиона, где он проводит каникулы, он пишет Бирану, что обсуждал вопрос о происхождении чувства «Я». Он верит в ноуменальное я, существование которого доказывается тем же способом, что и существование других субстанций, и он стремится устранить всякое сомнение относительно «этого существования, лежащего в основании надежды на загробную жизнь». Ампер и Биран расходятся только по одному пункту: последний отождествляет чувство усилия и мышечное ощущение.
Друзья считают, что Ампер изменился. «В прошлом году, — пишет Бреден, — это был христианин, а теперь это уже просто человек гения, великий человек… у него гордость исследовать таинственные глубины человеческого разума… он видит в цивилизации только развитие сил и способностей, средство для продвижения наук, гражданской свободы, независимости наций». Можно ли яснее указать на влияние Кабаниса и Дестюта де Траси?
Вернувшись в Париж, Ампер возобновляет свои беседы с Бираном; но тот вскоре возвращается в Бержерак. Печаль и сомнение снова овладевают Ампером. «Вы, кто так ясно понимаете, что нет противоречия между благостью Творца и осуждением проклятых, — пишет он Бредену, — постарайтесь меня в этом убедить». Он не сомневается в бессмертии души, «достоверность которого может быть доказана лишь через откровение», но ад живёт в его собственной душе. Баланш хочет, чтобы он вернулся в Лион, чтобы преподавать философию или происхождение всех гуманитарных наук в «Салоне искусств Камиля Жордана» и создать себе новый очаг. Но Ампер отказывается возвращаться в те места, где прошли его детство и годы счастья. С Бираном он всё больше занимается метафизикой. Труд последнего это целиком духовная метафизика, как у Канта, может быть даже ещё дальше отстоящая от всего, что связано с материализмом. Что касается собственной концепции интеллектуальных феноменов, то она, как он сам говорит, проще и ближе к фактам. Вопреки своим друзьям из Лиона, он защищает метафизику — ту, что порой возвращала ему душевный покой и отдых, и которая всегда будет для него предметом слишком достойным, чтобы её оставить. Религиозное чувство почти угасло в нём и уступило место неуверенности: он колеблется между самыми противоположными мыслями. Он продолжает общение с Дестютом де Траси и с Бираном, которому сообщает о своём курсе в Афинее, наполовину математическом, наполовину метафизическом. Заимствуя у Дестюта де Траси и особенно у Дежерандо, он выстраивает психологию как науку о детерминациях, действиях, идеях, координациях. Он связывает с ней мораль, экономику, идеологию, логику и распределяет явления на пять систем: актуальную (интуитивную), меморативную, волевую, доверительную и интеллектуальную. Одновременно он излагает классификацию всех наук, приняв в основу отношения между идеями, из которых состоит каждая наука. Дежерандо просит у него небольшой текст для своего Обзора прогресса философии с 1789 года и сводит его с новой женой. Но это брак несчастный: жена недостойна его, она «считает его сумасшедшим, безумным, одержимым нелепыми принципами, потому что у него в голове и в душе живут идеи и чувства, которые, по его мнению, составляют нравственную красоту и добродетель, потому что он не думает исключительно о деньгах». Ампер вновь обращается к Богу и молится ему с жаром, но вспоминает противоречия и невозможности, которые, как он считал, существуют в христианстве. Он сожалеет о времени, когда верил твёрдо и хотел укрыться в монастыре. Он посылает Бирану изложение своих главных психологических идей и возвращается к науке, которую он любит, той самой, что уже однажды принесла ему душевный покой. Он навещает Дестюта де Траси после пяти месяцев полного уединения. Но теперь он уже не видит причин, по которым когда-то верил, что католическая религия вдохновлена Богом, тех причин, которых прежде было достаточно, чтобы обратить Бредена! А тот, увидев его в сентябре 1808 года ещё целиком охваченным глубокой скорбью, от которой, как ему казалось, Ампер никогда не сможет избавиться, говорит нам: «Стоит только слову „метафизика“ сорваться с его губ — и перед нами уже совсем другой человек. Он с невероятным, неиссякаемым увлечением начинает развёрнуто излагать свои системы идеологии. Его ребёнок спрашивает название какого-то растения, и он тут же объясняет ему системы Турнефора и Линнея и так далее, астрономия, религия, всё».
Разлучённый со своей женой и живя с сестрой, сыном и дочерью, рождённой во втором браке, он теряет свою мать (1809), и это последнее горе вновь открывает множество старых ран.
Инспектор общего надзора Университета, профессор Политехнической школы, Ампер, по-видимому, почти полностью возвращается к христианству. Его полностью захватывают химия и метафизика. Он просит Биранa допустить существование связей между ноуменами, «чтобы не сделать психологию врагом здравого смысла шотландцев, наук и утешительных идей, которые поддерживают добродетель и мораль». Затем он сводит к четырём число систем, в которые укладываются явления, и утверждает, что, «за исключением врождённых идей, Декарт — один из тех метафизиков, чьи теории ближе всего к его собственным». Бирану он рекомендует Локка и Канта, «искажённых Дестютом де Траси и Дежерандо», и одновременно напоминает ему, «что ощущение движения у Д. де Траси, как он сам признал, это явная логическая ошибка (паралогизм)». Однако Ампер остаётся в тесных отношениях с Д. де Траси именно в тот момент, когда создаётся Философское общество. Это общество, впрочем, изначально вовсе не носит анти-идеологического характера, поскольку в его числе состоят Дежерандо, братья Кювье, Биран, Форьель, наряду с Руайе-Колларом и Гизо, до прихода Кузена и Луаисона. Тем не менее Ампер «предчувствует великую религиозную эпоху» и сокрушается о том, что ему не суждено будет увидеть, какой она станет. Бредену, который советует ему читать Ансилона, он отвечает: «Будет ли он принадлежать к великому движению умов и сердец к небу?» Он размышляет над Евангелием, читает Якоба Бёме, пророков, Отцов Церкви, и пытается обратить Бредена, который «снова пребывает в нерешительности» и «не хочет считать церковью ту, что стремится к господству и властвует лишь через учёность, пышность и гордость». Он причащается на Пасху и советует Бредену поступить так же, «говоря при этом о неизбежном результате неуклонно ускоряющегося движения человеческого духа». Он видится с Бираном и Кузеном: Биран заложил основы теории, доказывающей объективную реальность, делая её одновременно независимой как от чувственности, так и от скептической гипотезы кантовских и шотландских «форм» или субъективных законов. Ампер развил эту теорию. Кузен преподаёт ту часть, которую нашёл Биран, дополняя её Ридом и Кантом. Биран не знает, чей «комплемент» ему принять — Ампера или Кузена; он подумывает опубликовать статью в Archives, «чтобы предупредить предположения о материализме, которые могли бы быть сделаны на основании его Мемуара об привычке», и в итоге не публикует ничего из своей теории. Ампер продолжает в первую очередь думать о психологии и публикует схему, в которой резюмирует свои теории. Кузен использует его идеи, не называя имени. Затем в 1818 году Ампер читает курс в Нормальной школе, из которого он намеревается сделать Элементы логики, куда войдут все основы его психологии и за которым должен последовать ещё один труд — О первых проявлениях человеческого духа. Но в то же время он предаётся своим выдающимся исследованиям по электромагнетизму, считает, наблюдает и засчитывает доклады в Институте (в 1820 году). Тем не менее он продолжает трудиться над полным решением великой проблемы объективности, которую он разъясняет и дополняет вот уже восемнадцать лет. Став в 1824 году профессором экспериментальной физики в Коллеж де Франс, он всё ещё занимается своей классификацией наук, которую он снова изменяет в 1830, 1832 и 1833 годах, и умирает в 1836 году.
Его сын опубликовал в 1838 и 1843 годах «Опыты по философии наук» (Essai sur la philosophie des sciences). Первая часть содержит в предисловии резюме его психологической системы по состоянию на 1833 год. Различая сенситивные и активные феномены, а также примитивные концепции, он называет их объективными, ономатическими и объяснительными. Ампер усматривает очевидную аналогию между двумя родами феноменов — сенситивными и активными; и двумя великими объектами всех наших знаний — миром и мыслью, которые, в свою очередь, дают начало двум группам наук: космологическим и ноологическим. Не менее поразительной ему кажется аналогия между четырьмя типами концепций и четырьмя точками зрения, с которых каждое царство природы (в научной классификации) делится на четыре ветви: Первая включает всё, что мы познаём непосредственно; вторая — то, что скрыто за этими явлениями; третья — то, где сравниваются свойства тел или интеллектуальные факты с целью установления общих законов; четвёртая — то, что основано на взаимозависимости причин и следствий.
Бросается в глаза, насколько искусственной является классификация, составленная подобным образом. Однако не забудем, что Литтре заявил, будто эта таблица «удовлетворяет уму так же, как и глазу». Безусловно, он был прав, и это можно повторить ещё раз: с интересом и пользой прослеживаешь развёртывание ряда наук — и, особенно, добавим мы, — находишь наиболее плодотворные идеи именно там, где классификация удовлетворяет наименьшим образом. С сожалением, вместе с Сент-Бёвом, отмечаем, что Ампер позволил себе «быть унесённым течением идеи», что не собрал вместе ни психологические случаи, ни подлинные открытия в деталях, которыми он усеивал свои лекции; что он не оставил после себя описания и перечисления различных групп фактов, где человеческий интеллект представал бы гораздо более богатым и разнообразным, чем в системе разделения по факультетам. Сожалеют также, что он не выполнил тот замысел, который в несколько ином виде ставил перед собой и Дестют де Траси: дать понимание фундаментальных истин, на которых покоится каждая наука, и методы, которые необходимо применять для её изучения или для её развития, а также указать, каких успехов можно ожидать в зависимости от уровня её развития, отметить новейшие открытия, обозначить цели и основные результаты труда выдающихся учёных, которые этой наукой занимаются — с тем, чтобы удовлетворить того, кто, интересуясь науками, не ставит себе безумной задачи изучить их досконально, но хотел бы иметь о каждой из них достаточное представление. Прочитав более чем одну страницу этого труда можно было бы узнать читателя Энциклопедии и друга Дестюта де Траси.
Биран способствовал тому, что Ампер полюбил психологические исследования, и был с ним в тесной связи, возможно, по причине определённого сходства в их положении. Сын врача, ученик доктринёров, быть может, даже Лаканаля, он познакомился с философией Кондильяка, которую изучал во время Террора, одновременно с Бонне и многими другими вещами. В IX году Республики его Мемуар о привычке был отмечен Институтом: в нём он выступает как восторженный ученик Дестюта де Траси и Кабаниса. Он остаётся им и в X году, хотя уже с большей независимостью, но в XI году сближается с Кондильяком и Бонне. Он поддерживает тесные отношения с Кабанисом до самой его смерти; с Дестютом де Траси — до того момента, вероятно, когда, по выражению Ампера «он даёт себя улестить, опасается не угодить определённой партии» и, чтобы предупредить подозрения в материализме, которые могли бы быть выведены из его Мемуара о привычке, критикует Уроки философии Ларомигьера, не желая, однако, чтобы все знали, что нападение исходит от него. Но, переходя от Кондильяка к стоицизму, от стоицизма к мистицизму, заходя, таким образом, по тому же пути куда дальше, чем Кабанис, Бенжамен Констан, Тюро и сам Ампер, его сочинения сохранили навсегда, как он и предвидел, «отпечаток глубокого переворота, который сочинения Дестюта де Траси и Кабаниса произвели в его уме», и тем самым передали определённые доктрины идеологов тем, кто не заимствовал их у них напрямую.
— V —
Идеология, письма, история: Вильмен, Лерминье, Сенанкур, Борда-Демулен, Фабр и др. ; Форьель, ученик Кабаниса; О. Тьерри и его отношения с Дону, де Траси, Форьелем; Виктор Жакмон; Анри Бейль — ученик Д. де Траси; Сент-Бёв — поклонник Дону, де Траси, Ламарка и др.; идеология в Англии, Дугалд-Стюарт; Томас Браун; Джон Стюарт Милль
Другие писатели, менее специально занятые философией или менее тесно связанные с Дестютом де Траси и Кабанисом, распространяли, полностью или частично, их доктрины и методы во всех направлениях умственного мира. Вильмэн (Villemain), который иногда присутствовал на собраниях в Отёе, восхвалял в своём Обзоре литературы XVIII века — труде, который и поныне полезно читать, — Кондильяка, Вольтера и Дестюта де Траси, искусного диалектика, комментировавшего Дух законов; он также содействовал тому, чтобы Дону принял звание пэра. Лерминье (Lerminier), автор Философии права, в своих Философских письмах выступал против Руайе-Коллара, «вся философская карьера которого сводится к импорту одной лишь теории Рида», а также против Кузена, который, строго говоря, не является философом, но был поочерёдно шотландцем и кантианцем, александрийцем, гегельянцем и эклектиком. Зато, говоря о влиянии философии XVIII века на законодательство и социум XIX века, он хвалит Кондильяка, Дюпюи, Кондорсе, Кабаниса, Биша, Дестюта де Траси, Бенжамена Констана, Вольнея и Гара, Ларомигьера, Бруссе и Мажанди. Именно от французской медицины он ожидает появления философии природы и человека, способной обогатить Францию. Но его восхищение направлено прежде всего на Дону и Дестюта де Траси .
Сенанкур, автор Обермана, был сравнен Сент-Бёвом, с Шатобрианом, с Бернарденом де Сен-Пьером и сближен с Ламарком; его можно было бы сблизить и с Шопенгауэром. Борда-Демулен, земляк Биранa, поклонник Грегуара и противник эклектизма, друг Жюля Рейно и Пьера Леру, «вновь подхватил несколько идей, намеченных Дестютом де Траси, и последовал за ним вплоть до той войны, которую тот объявил логике как пустому и бесплодному подражанию математическому исчислению». Упомянем также Викторена Фабра, которого Сент-Бёв, хоть и чересчур сурово, называл «раздутым ритором» или «водянистым выкидышем», но справедливо — «запоздалым учеником школы»; Мериме, друга Виктора де Жакмона, Стендаля, Форьеля, Сент-Бёва и других. Но мы не можем столь бегло пройти мимо Форьеля и Огюстена Тьерри, Виктора Жакмона, Стендаля, Сент-Бёва и Брауна.
Поклонник Вольнея, друг мадам де Кондорсе, Кабаниса и Дестюта де Траси, связанный с мадам де Сталь, Бенжаменом Констаном, Мандзони и Шлегелем, доверенное лицо или советник Огюстена Тьерри, Ампера, Мериме и Бейля, знавший немецкий, итальянский, испанский, баскский, кельтский, диалекты Юга Франции, арабский, санскрит, древнегреческий и новогреческий языки — Форьель стал, для Сент-Бёва, поводом для одного из тех точных, проницательных и изысканных исследований, секрет которых он знал. Однако он отвёл Форьелю слишком большое место в школе, потому что не задался вопросом, чем сам Форьель был обязан своим друзьям и наставникам.
Форьель, родившийся в 1772 году в Сент-Этьене, получил образование, как и Дону, у ораторианцев. Около 1789 года он состоял в обществе, известном под названием Шамбарáн, где читал Руины Вольнея. Был подпоручиком в роте Ла Тур д’Оверня, затем муниципальным чиновником в Сент-Этьене; с 1795 по 1799 год, как представляется, жил в уединении, неустанно работая и занимаясь. Ещё до 18 брюмера он сблизился с Франсэ из Нанта, который познакомил его с Фуше; впоследствии он стал личным секретарём последнего, когда тот занимал пост министра полиции, и оставил его во времена пожизненного консулата. Пока он работал с Фуше, он опубликовал в Декаде рецензию на Литературу, рассмотренную в её связи с социальными институтами и представил мадам де Сталь как ученицу Кондорсе. Затем он выступал в защиту философии с соображениями, которые, по словам Сент-Бёва, отнюдь не были тривиальными.
В 1802 году он поселился в Мезоннет, недалеко от Мёлана, рядом с мадам де Кондорсе, с которой познакомился в Ботаническом саду. Он продолжал поддерживать отношения с Кабанисом и его друзьями, но виделся также и с мадам де Сталь, которая представила его Шатобриану. В то же время он становится другом Вийе и, особенно, Бенжамена Констана, который держит его в курсе своей работы над О религиях, пишет ему своё мнение об Отношении физического и морального и просит отзыв о своём Вальштейне. Именно тогда Форьель пишет статьи о Шольё и Ла Фаре, о Ларошфуко, которого он сравнивает с Вовенаргом и объясняет Максимы опытом и воспоминаниями автора. В Декаде он рецензирует Опыты о духе и влиянии Реформации Вийе (1804): «Оскорблённый, — пишет он, — как и многие другие лица (в частности, г-н де Траси), которые, впрочем, отдают вам должное и чьё признание не должно быть вам безразлично, некоторыми чертами пристрастия, которое, по-моему, мало философично, я откровенно выразил своё мнение». Эта откровенность не понравилась Вийе, который впоследствии также остался недоволен статьёй Тюро о его Докладе 1810 года и считал странным, что французы, которых он без конца упрекал в легковесных и поверхностных доктринах, не желали принимать те, что он привозил им из Германии.
Находясь в тесных отношениях с Кабанисом, Форьель поделился с ним своим проектом написать Историю стоицизма. Кабанис, противопоставлявший Гомера и греков Гению христианства, встретил эту идею с энтузиазмом. Однако неверно, как утверждает Сент-Бёв, будто Форьель оказал влияние на Кабаниса и вдохновил его на его «последнее слово», будто Форьель первым попытался ввести историю философии в недра идеологии. Тюрго, Д’Аламбер и Кондорсе уже отвели значительное место беспристрастной истории; Дежерандо опубликовал Сравнительную историю систем; Кабанис примкнул к доктрине совершенствования и уже написал Историю медицины. Да и Письмо о первопричинах, если читать его внимательно, принадлежит мастеру, а не ученику. Форьель был лишь посредником, благодаря которому Кузен лучше узнал идеи Тюрго, Д’Аламбера, Кондорсе, Кабаниса, Дежерандо, стремившихся использовать историю философии для самого её построения.
Форьель собрал материалы и начал работу над Историей стоицизма; но прекратил её и отвернулся от философских занятий после смерти Кабаниса. Он даже отказался от обширного очерка, который намеревался посвятить своему другу, как говорит Сент-Бёв, из-за своего чрезмерного стремления к совершенству и из-за избытка чувствительности; быть может, добавим мы, также и потому, что Кабанис и его учение подвергались суровому суждению со стороны некоторых его новых друзей.
Дестют де Траси настаивал, чтобы Форьель завершил Историю стоиков, посылая ему в подарок свой Трактат по политической экономии. Он уже сообщал ему о своём Комментарии к Монтескьё. В 1821 году Огюстен Тьерри, находясь в Параи-ле-Фрезиль, праздновал; г-н де Траси всё спрашивал его, пишет ли Форьель свою Историю провансальской цивилизации, которая будет опубликована лишь частично, десять лет спустя.
— Он пишет, — отвечал Тьерри.
— Значит, он записывает, — иронично говорил де Траси, знавший, каков был Форьель под влиянием того демона прокрастинации, о котором писал Б. Констан, и которому не суждено было увидеть выход этой книги. В 1810 году Форьель переводит Парфенеида Баггезена, живя в Марли и будучи связан с идеологами. Его Вводная речь напоминает ученика Кондорсе и Кабаниса, особенно когда он говорит о «золотом веке», стране идиллий, который, быть может, — замечает он, думая о противниках доктрины совершенствования, — ещё более химеричен в прошлом, чем в неопределённом будущем. Став другом Мандзони, внука Беккариа, Форьель пишет итальянские сонеты, изучает новогреческий, санскрит и арабский языки, ботанику и провансальскую цивилизацию. В 1823 году он публикует перевод трагедий Мандзони, год спустя после смерти мадам де Кондорсе; затем, в 1824 году — Народные песни Греции. Его влияние сказывается на Ампере, которого он побуждает изучать литературные истоки; на Мериме, которому внушает идею перевода испанских романсов; на Бейля, которому он рассказывает арабские истории для его «маленького идеологического трактата о любви». С другой стороны, в 1821 году он — слушатель и доверенное лицо Огюстена Тьерри, который каждый вечер делится с ним мельчайшими подробностями хроник и легенд, вдохновляющих его на создание Истории завоевания Англии норманнами; в 1820 году он оказывал ту же услугу Гизо. С 1821 по 1823 год он наблюдает за печатью санскритских книг для Шлегеля или сличает рукописи в Королевской библиотеке. Став профессором зарубежной литературы на филологическом факультете в 1830 году, он публикует в 1832 году двенадцать книг Об истоках рыцарской эпопеи в средние века, приписывая её заслуги провансальцам; в 1834 — Жизнь Данте; в 1836 — вторую часть своего большого труда О южной Галлии; в 1839 — Жизнь Лопе де Вега. Он умирает в 1844 году.
Тэн сказал о Биранe, что его первая книга прекрасна и останется в истории, потому что, сдерживаемый влиянием Кондильяка (мы бы сказали — Кабаниса) и Дестюта де Траси, он начал с изучения фактов и с точного стиля. О Форьеле, напротив, остаётся сожалеть, что он не оставался дольше под руководством обоих. Вместо того чтобы рассеиваться во всех направлениях, он мог бы сосредоточить свои силы на прекрасном труде, который уже начал, — и тогда мы имели бы Историю стоиков, которой нам всё ещё недостаёт, написанную одним из самых свободных, проницательных и искренних умов.

Часто вспоминают предисловие к Меровингским рассказам, где Огюстен Тьерри рассказывает, что момент энтузиазма, который он испытал, читая о битве франков с римлянами, быть может, стал решающим для его будущего призвания. Сент-Бёв задавался вопросом, что же такое «порыв, о котором забывают на протяжении нескольких лет», и отмечал, что Тьерри, ученик Вальтера Скотта и Сен-Симона, «был тогда, как и многие другие, в отношениях с Шатобрианом, с которым они взаимно обменивались похвалами и комплиментами». Но он забыл указать на другое влияние, которое не принималось во внимание, когда те, кто его оказывал, уже утратили признание. Достаточно взглянуть на великолепное предисловие к Десяти годам исторических исследований, на строки, где речь идёт о Форьеле — «друге, верном и надёжном советнике», чьи сдержанные и тонкие суждения «были его руководством» в минуты сомнений, чьё сочувствие побуждало его идти вперёд. Только в 1821 году Тьерри вступил в столь тесные отношения с Форьелем. В 1819 году он написал отзыв о Курсе истории Дону в Коллеж де Франс и увидел в профессоре, который открыто заявлял о своей священной обязанности перед наукой преподавать её во всей полноте, двойную гарантию — патриотизма и знания, точность учёного, широту философа, дар писателя, мягкость филантропа и строгость гражданина. Он представляет себя как ученика Дону, принимавшего участие в советах, которые профессор давал молодым людям, и подчёркивает, что то, что сформировало характер его наставника, возвысило его душу и расширило его мышление, — это сорок лет уединения и учёных занятий. Разве не возникает искушение, читая эти строки, сравнить их с прекрасными страницами, где страдающий и ослепший Тьерри превозносил самоотверженность, посвящённую науке, как нечто более ценное, чем материальные удовольствия, чем богатство, чем даже здоровье?
В 1820 году Тьерри выступил, анонсируя труд Гара, который хвалил, как преемник Рёдерера, и утверждал, что Франция была обагрена кровью не потому, как это ошибочно утверждают, что философы XVIII века были услышаны народом, а потому, что их философия не стала популярной. И он, тот самый, кто способствовал превращению исторических исследований в характерную черту нашей эпохи, выражает надежду, «что XIX век отнимет у XVIII этот благородный титул — век философии». В том же году он часто встречался с Мандзони, христианским поэтом, называвшим Кабаниса «ангельским Кабанисом», а также с Форьелем и Кузеном. Наконец, Тьерри, который на некоторое время стал учеником Сен-Симона, цитировал, вслед за Дону, глубокое и ясное различие, установленное между типами правления Дестютом де Траси, «философом, которым гордится наша эпоха», и осенью 1821 года находился в Параи-ле-Фрезиль.
Отец Виктора Жакмона состоял в родственных связях с Лафайетом. Будучи идеологом, он входил в состав Совета народного образования и принадлежал к секции анализа ощущений. Как член Трибуната, он голосовал против ордена Почётного легиона и был исключён вместе с Бенжаменом Констаном, Сэем, Дону, Ларомигьером, Андриё и другими. Возглавляя бюро наук при Министерстве внутренних дел, он служил связующим звеном между Моро и Дону, Кабанисом, Шенье, которые замышляли свержение первого консула. «Около 1809 года, — пишет его сын, который только пожимает плечами, когда кто-либо пытается вызывать жалость к судьбе Бонапарта на Святой Елене — с его восемью слугами, четырьмя придворными, двенадцатью тысячами франков годового жалованья и десятью лошадьми, — некие полицейские, вооружённые ордером Фуше, в воскресенье ворвались в наш дом; они забрали книги, бумаги, обыскали всё в поисках следов заговора, а затем увели моего отца. Одиннадцать месяцев он провёл взаперти в тесной и тёмной комнате, которую я запомню на всю жизнь, ибо в течение всех этих одиннадцати месяцев я навещал его два раза в неделю — насколько это было дозволено. Именно там я научился читать и писать. В тюрьме у отца не было слуги, кроме жалкого арестанта, который приходил по утрам брить его и причёсывать, потому что ему не разрешалось иметь ни ножей, ни бритв. Спустя одиннадцать месяцев его наконец отпустили, но лишь для того, чтобы он отправился в ссылку, длившуюся столько же, сколько и Империя». Кабанис, рассказав о том, что сделали Дестют де Траси, Дежерандо, Ларомигьер, Ланселин, добавляет, что Жакмон выработал план, ещё более обширный, чем у последнего. И действительно, если верить его сыну, который часто в письмах возвращается к «тому самому знаменитому учению, воздвигнутому на руинах всех прочих», план должен был быть поистине грандиозным. «Если я женюсь в Индии, — пишет Виктор Жакмон мадемуазель Зое Нуазе, — на дочери какого-нибудь наба́ба с несколькими миллионами, то один миллион я потрачу по возвращении, чтобы напечатать двести восемьдесят томов отцовского красноречия, и ты тогда узнаешь, что такое ощущение». Но он понимает и объясняет, какую пользу его отец находил в этих занятиях: «Вы слишком скромно говорите о своих Реальных эссенциях, — пишет он отцу, — Что может быть реальнее того, чем вы им обязаны? Невинное развлечение последних двадцати лет?.. Господа индустриалы, разумеется, отрицали бы их полезность, потому что они слишком глупы, чтобы понять, что обладание идеей или чувством может быть источником наших наслаждений столь же сильно и даже куда более, чем обладание фраком из самой лучшей ткани от господина Терно; и что наибольшая полезность в жизни это удовольствие. Так продолжайте же дистиллировать эти драгоценные Эссенции!».
Мы знаем, кроме того, что отец и сын в философии придерживались взглядов, весьма близких к взглядам Дестюта де Траси и Кабаниса.
Нет ничего более увлекательного, чем чтение писем Жакмона, написанных из Америки, с Гаити, из Индии, — писем, отличающихся жизнерадостностью, остроумной простотой и нравственным возвышением. Прочитав их, невольно проникаешься к нему той же симпатией и уважением, какие испытывали к нему не только его друзья во Франции, но и англичане, с которыми он тогда впервые встречался. Обладая умом столь же ясным и точным, как у Вольнея и Бернье, он не успел вычеркнуть из своих Писем того, что составляет их главную ценность: суждений о людях и о вещах — и тем самым позволяет нам читать его жизнь и сердце как открытую книгу.
Чисто спекулятивные исследования его мало затрагивают. С тех пор как он увидел Америку, страну, в которой, по его словам, царит отвратительное лицемерие и где имя Франклина даже не произносят, потому что он был «неверующим», он считает Библию её бедствием. Он не христианин, даже не деист. Леди Бентинк пытается обратить его: они беседуют «о добром Боге — она “за”, он “против”, — попутно обсуждая Моцарта, Россини, живопись, мадам де Сталь, счастье и несчастье». Он от этого лучше не становится и опасается, что она, хоть и меньше, чем прежде, но всё ещё уверена в своей правоте. Санскрит, по его мнению, представляет лишь филологический интерес, так как послужил только для сочинения теологии, метафизики и прочих бредней такого рода: галиматья в трёх слоях — для сочинителей, потребителей, а особенно — для иностранных потребителей; галиматья в степени 1/0. Он велит перевести для себя названия томов тибетской энциклопедии в 120 томах. Первые девятнадцать посвящены исключительно атрибутам Бога, первым из которых является непостижимость, — что, по его мнению, может избавить от необходимости узнавать о всех остальных. Остальное смесь теологии, плохой медицины, астрологии, фантастических легенд и метафизики: «ужасная галиматья, которая даже не обладает достоинством оригинальности». Европейская метафизика ему тоже не по вкусу: он находит сходство между нелепостью Бенареса (Варанаси) и нелепостью Германии, «у стенографированного Кузена». Новые религии он терпеть не может и прощает религии Анфантена и Базара, которая кажется ему геометрически абсурдной, лишь в силу самой её нелепости. Поэтому молодому человеку, который просит у него совета в чтении, он рекомендует начать с Дестюта де Траси и Гельвеция, а американцам советует читать Смитa и Комментарий к Монтескьё, а не свои газеты.
Его страсть — быть полезным; но он понимает полезность весьма своеобразно. Кювье, который направлял или вновь направлял научные исследования в философское русло, который открывал факты и создавал науки благодаря своей поразительной способности к обобщению; Вальтер Скотт, Канова и Россини, которые дарили другим приятные ощущения, не вызывая при этом у кого-либо неприятных, — вот, по его мнению, истинно полезные люди, а не те, кто служит лишь удовлетворению физических нужд — откармливая быков, готовя обеды или производя хорошие шляпы, хорошие фраки и хорошие ночные горшки. Ведь моральные устремления занимают в его жизни значительное место.
Существует, — говорит он, — между нежными и великодушными душами всех стран нечто вроде естественного и святого франкмасонства, которое позволяет им мгновенно узнавать и понимать друг друга сквозь внешние различия возраста, языка и национальности». Он читает раджe «небольшой курс морали и политической экономии, который, несомненно, пришёлся бы весьма не по вкусу его министрам». Осуществление власти, — утверждает он, — в нашей стране на протяжении сорока лет было неизгладимым пятном, потому что все наши правители презирали закон. М. де Полиньяк, нарушивший закон, должен быть наказан: «Я его ненавижу, но испытываю к нему и некоторую жалость». М. де (Талейран?) — это персонаж, которого честный король не должен был бы принимать. Вместе со своим старым отцом Жакмон возмущается, когда после 1830 года общество предстает в виде зрелища, «более отвратительного, чем когда-либо, из-за яростной войны, которую ведут друг с другом все честолюбия и все алчности»; он с сожалением отмечает, что слава, кажется, оправдывает проступки: «Дело не в том, чтобы ставить Вашингтона выше Наполеона: уважение или презрение, симпатию или ненависть мы должны основывать не на качествах ума; талант сам по себе ни достоин уважения, ни недостоин — он не несёт в себе никакой обязательной нравственности; а ведь именно нравственность заслуживает уважения, а безнравственность, какими бы исключительными талантами она ни сопровождалась, заслуживает лишь презрения». И он не может не сокрушаться по поводу того, что столь прославлены политическое приспособленчество и угодничество Кювье, «заветная шарлатанщина» Гумбольдта — «двух первых людей интеллектуального мира»!
Заболев в августе 1832 года и «убитый деятельностью своей мысли», он чувствует, что прекрасные арии Моцарта, исполненные хорошим скрипачом, могли бы его очаровать и «позолотить пилюлю». Он собирался пригласить музыканта, более чем сносного, «чтобы умереть под музыку», когда лекарства вызвали реакцию. 7 декабря он написал своё последнее письмо; этот труд его истощил: «Прощайте, — писал он отцу и братьям, — о, как сильно вас любит ваш бедный Виктор! Прощайте в последний раз». 7 декабря он умер, «с утешением, что он, насколько мог, способствовал прогрессу науки, в которой ещё многое оставалось несовершенным».
Среди его корреспондентов, помимо отца и братьев, встречаются почти все имена, упомянутые нами в истории идеологии: Мериме, написавший введение к двум томам писем, изданным в 1867 году; Бейль (Стендаль), передавший ему рукопись О любви; мадам Лакюэ и мадам Лебретон; Дюнуайе, «который стремился воспитать политически всю нацию»; месье и мадам Виктор де Траси, с которыми он поддерживал самые тесные отношения. Дестют де Траси очень любил Виктора Жакмона, и тот платил ему полной взаимностью. Уже в 1820 году, в возрасте девятнадцати лет, Жакмон обращается к нему из Мобёжа с длинным письмом, в котором описывает состояние культуры в северных провинциях Франции. Из Индии он пишет ему в 1831 году: «Воспоминание о первых годах моей юности часто возвращается в моё сознание, и я всегда с той же нежностью вспоминаю подлинно отеческую заботу, которую имел счастье тогда получить от Вас. Я всегда буду признавать её с сыновним чувством».

В 1824 году Виктор Жакмон писал мадам Виктор де Траси, говоря об одной книге Стендаля: «Публика ещё не созрела для этих идей, её нужно хотя бы подготовить… Если бы рукопись была разборчива, я бы попросил её для себя, для вас и для очень небольшого числа друзей, которым она чрезвычайно понравилась бы, — их он называет людьми 1860 года». Однако Бейлю (прим. настоящая фамилия Стендаля) потребовалось меньше времени, чтобы стать знаменитым. Тэн назвал его великим романистом и величайшим психологом века. Вслед за ним Поль Бурже назвал его «нашим учителем» и до сих пор заставляет его читать и им восхищаться. «Бейль, — говорит он, — всю свою жизнь оставался идеологом в духе кондильякианцев, романтиком в манере испанцев эпохи Ренессанса и циником по отношению к женщинам, в духе распущенных вольнодумцев XVIII века». Этот идеолог, друг Мериме и Жакмона, принадлежит только нам. Дестют де Траси, как справедливо заметил Сент-Бёв, был одним из духовных крестных Бейля, который всегда сохранял к нему признательность и до конца жизни питал к нему восхищение; школа Кабаниса и Дестюта де Траси была его школой, которую он, к удивлению многих, не скрывал даже в наименее подходящие моменты. Его дед, доктор Ганьон, дал ему читать Гельвеция, «который распахнул перед ним двери человеческой природы настежь». Он учился в центральной школе Гренобля, был подпоручиком в драгунском полку, а затем подал в отставку. Он хотел формировать себя «с помощью анализа» и, после одной комедии и одной трагедии, посвятить жизнь философии. Материализм представился ему во всей полноте в следующей формуле: всё существующее — это кристаллизованное. В то же время он становится тревожно скептическим, в духе Пиррона. Он изучает связь идей у Гоббса, в качестве образца берёт эпикуреизм Шапеля. Чтобы «избавиться от Руссо» в своих суждениях, он хочет читать Дестюта, Тацита, Прево из Женевы, Ланселина, и примерно в то же время оказывается втянут в заговор Моро, с которым были связаны Кабанис, Шенье, Дону, Жакмон. Он покупает «первую часть сочинений Дестюта де Траси», читает 112 страниц с величайшим удовольствием, так легко, как роман, и, находя его рассуждения превосходными, отмечает множество новых зародышей мыслей — счастливые плоды идеологии. Вольней, как он рассказывает, ответил Бонапарту, когда тот сказал ему, что народу нужна религия, что тогда народу понадобился бы и Бурбон; за это он получил пинки, заболел, но готовил для Сената большой доклад, от которого отказался, «чтобы не быть убитым». Затем он сближается с Алибером и сыном де Траси, продолжает читать отца, к которому присоединяет и Бирана, «который учит его вспоминать свои естественные чувства».
В 1811 году, будучи слушателем в Государственном совете и генеральным инспектором короны, он всё ещё верит, вместе с Дестютом де Траси и древними греками, что Nosce te ipsum — «познай самого себя» — есть путь к счастью; в Италии он говорит о Дестюте де Траси ученику Песталоцци и готов был бы держать пари, что в 1913 году о Шатобриане уже не будет идти речи. Позднее он напишет, что изучал в Брауншвейге немецкий язык и немецкую философию и что это внушило ему изрядное презрение к Канту, Фихте и другим, «великим людям, которые не сделали ничего, кроме учёных карточных домиков».
О любви — это «Опыт идеологии». И он небезосновательно причисляет себя к этой школе за столь тщательное и проникновенное исследование: в нём он цитирует Вольнея, «одного из наших самых любезных французских философов», Кабаниса, Форьеля, который, «будучи учёным, как десять немцев, излагает свои открытия ясными и точными словами», Дестюта де Траси и его главу Dell’Amore в итальянском переводе Идеологии, где содержатся идеи куда более глубокого философского значения, чем всё, что он сам говорит; Женгене и его Историю литературы Италии; Бентама и Анализ аскетического принципа. Немецкие системы кажутся ему лишь «тёмной и плохо написанной поэзией», и он мечтает основать в Филадельфии «академию, которая занималась бы исключительно сбором материалов для изучения человека в его первобытном состоянии, прежде чем эти любопытные народы будут уничтожены».
Все произведения Стендаля — Красное и чёрное, Пармская обитель и др., с их персонажами, Жюльеном Сорелем и Анри Брюларом, как и Заметка Мериме и О любви, показывают нам ученика, а местами даже преемника и защитника, mutatis mutandis, идеологов. Мы сожалеем, что месье Рибо, указавший на исследования Спенсера об идее любви, и месье Марион, посвятивший этой теме обширную статью в Grande Encyclopédie, не вспомнили о Стендале. Этот идеолог, взявший на себя задачу завершить незаконченный раздел Дестюта де Траси, был, в степени, которую трудно переоценить — вдохновителем или предшественником всех тех, кто, с большей или меньшей удачей, стремился, как Гонкуры, Золя, Мопассан, а также Бурже и многие другие, чтобы роман опирался на тщательно и добросовестно наблюдаемые факты.
Сент-Бёв был «весьма текуч и разнообразен». Но месье Тэн легко объяснит в своём столь ожидаемом очерке «его на первый взгляд странную переменчивость и пёструю карьеру», если учтёт различные и зачастую противоположные политические режимы, к которым ему приходилось приспосабливаться. Нам же достаточно указать на ту сторону его деятельности, которая сближает его с идеологами. Он задумывал написать ту самую историю, которую мы предприняли, и если он не завершил её в виде связного целого, то, по крайней мере, попытался изложить её «отдельными главами и фрагментами, вразброс».
Друг Форьеля и Дону, он, как сам говорит, начал прямо и без обиняков с самого радикального XVIII века, «с Дестюта де Траси, Дону, Ламарка и физиологии; вот, — добавляет он, — моя подлинная основа». Поэтому он очень хорошо понял, что философия XVIII века не сводится к одному лишь Кондильяку. Более того, он в определённой степени выступил с апологией Гольбаха. Неудивительно, что он проявлял большую симпатию к Дестюту де Траси, к Форьелю и особенно к Кабанису; что он указал на одну философскую несправедливость, которая проникла и укрепилась после 1817 года и в последующие годы: «Кузен, чтобы обозначить враждебную XVIII веку школу, которая связывала идеи с ощущениями, назвал её сенсуалистской. Для точности следовало бы сказать сенсационистской. Слово сенсуализм естественным образом вызывает представление о практическом материализме, который отдаётся наслаждениям чувств; и если это ещё можно было бы, в каком-то отношении, отнести к таким философам XVIII века, как Ламетри или Гельвеций, то к Кондильяку и ко всем почтённым ученикам его школы — идеологам Отёя и их последователям, Тюро, Дону, самой сдержанности — это не имело никакого отношения».
Сент-Бёв окончил так, как и начал. В 1865 году он пишет месье Дюруи, что чистый спиритуализм — это учение, наиболее противоположное его собственным устремлениям. Два года спустя он скажет Троплону, когда месье де Сегюр д’Агессо назовёт скандальной номинацию месье Ренана в Коллеж де Франс: «Мы значительно откатились назад, господин председатель, по сравнению с Сенатом Первой Империи, в состав которого входили Лаплас, Лагранж, Сийес, Вольней, Кабанис, Траси… Неужели теперь уже нельзя принадлежать к философской религии этих людей? Вы, столь просвещённый, судите сами». Немного позднее Апология неверующего Виардо представляется ему во всех отношениях точной и строгой, и он ставит её автора в религиозном отношении в один ряд с Демокритом, Аристотелем, Эпикуром, Лукрецием, Спинозой, Бюффоном, Дидро, Гёте, Гумбольдтом — словом, в довольно достойную компанию. На следующий год он отвечает мадам Жубер, дочери Кабаниса: «Я очень часто, — пишет он, — слышал о вас от моего почтенного учителя и друга, месье Форьеля. Самая нежная награда для меня — это свидетельство, подобное вашему: я сохраню его как драгоценность, мадам, в качестве ученика, без сомнения, весьма слабого, далёкого, но не недостойного той славной общества Отёя, к которому возраст мой не позволил мне быть причастным, но чья живая традиция была мне передана непосредственно ещё в детстве — сначала месье Дону, а затем Форьелем».
Жуффруа приводит, в предисловии к первому тому Рида, хронологический список шотландских профессоров, в котором он указывает, что взгляды Мильна, второго преемника Рида, в целом воспроизводят мнения месье де Траси. То же самое он вполне мог бы сказать и о Томасе Брауне, преемнике Дугалда Стюарта.
Дугалд Стюарт, прибывший во Францию в третий раз в 1806 году вместе с лордом Лаудердейлом, сблизился с несколькими идеологами, а особенно с Дежерандо, и впоследствии поддерживал с ними отношения. Браун — врач и поэт не меньше, чем философ — зашёл гораздо дальше. В своих Лекциях по философии человеческого разума, опубликованных уже после его смерти и имевших грандиозный успех, он говорит о философии Рида и Стюарта как о совокупности заблуждений, столь странных сами по себе, что только их всеобщее признание в качестве истин могло быть ещё более странным. Психология, по его мнению, — всего лишь одна из ветвей общей физики: подобно Кабанису, Траси, Бруссе или некоторым из их современных последователей, он занимается Физиологией духа, и следует методу натуралистов. Ощущение движения занимает у него, как и у Дестюта де Траси, центральное место. В рассуждении о простой и относительной ассоциации (suggestion), которые он считает основными интеллектуальными феноменами, он также заимствует доктрину Дестюта де Траси. Теория обобщения у Брауна и у Ларомигьера совпадает до такой степени, что английский текст первого зачастую выглядит как просто перевод с французского второго. И ещё один аргумент в пользу того, чтобы рассматривать влияние Ларомигьера и Дугальда Стюарта как дополняющее влияние Дестюта де Траси, — это то, что у Брауна есть естественная теология, в которой он излагает доказательства существования Бога и перечисляет его атрибуты.
Гамильтон тоже не ошибся и не приписал Брауну всей той оригинальности, которую ему приписывали его поклонники: «Браун, — говорит он, — не единственный шотландский метафизик, который присвоил себе, не сказав ни слова, множество психологических анализов школы Кондильяка. Дестют де Траси, со своей стороны, вполне имел бы право многократно потребовать своё обратно у доктора Джонга, профессора философии в колледже Белфаста, чьи доктрины, часто совпадающие с доктринами Брауна, отнюдь не являются плодом той удивительной оригинальности, в существование которой он хочет нас убедить, нас, кто знает источники, из которых черпали и тот и другой». И когда он, в своей знаменитой статье, оспаривает у Рида и Брауна ряд положений, находя в них лишь ошибки, заимствования, заблуждения и неточности, он не забывает подвергнуть критике и сам термин идеология — «двойная ошибка, и философская, и греческая», ставший во Франции особым и отличительным названием той философии, которая выводит все наши знания исключительно из ощущения. Со своей стороны, Кузен говорил о поверхностном, по сути скептическом и сенсуалистическом учении Томаса Брауна и рекомендовал на кафедру логики и метафизики Гамильтона, которого он признавал «союзником» в борьбе против сенсуализма, в то время как Бруссе добивался назначения Жоржа Комба — автора Трактата по френологии и главу шотландских френологов. Таким образом, борьба между двумя французскими школами продолжалась… в Шотландии.
Борьба ещё не была завершена. Джон Стюарт Милль, воспитанный своим отцом в духе идей XVIII века, провёл год во Франции — «с огромной пользой для своего образования» (1820). Некоторое время он жил у Ж.-Б. Сэя — «прекрасного образца подлинного французского республиканца, честного, благородного, просвещённого». В Монпелье, на родине Драпарно и Конта, он посещал курсы химии у Англада, зоологии у Провансаля, и «курс, который представитель философии XVIII века месье Жергон вёл по логике под названием Философия наук». Затем он читал Кондильяка и Трактат о законодательстве, где Дюмон из Женевы излагал основные доктрины Бентама — поклонника Гельвеция. «Это был один из интеллектуальных кризисов в истории его сознания». Позже последовали Опыты Локка, Дух Гельвеция, Наблюдения о человеке Хартли — всё это, по его признанию, заставило его почувствовать недостаточность сугубо словесных обобщений Кондильяка и нащупывающих, хотя и поучительных рассуждений Локка в области психологических объяснений. Беркли, Юм, Рид, Дугалд Стюарт, Причина и следствие Томаса Брауна, Анализ влияния естественной религии на временное счастье человечества — вот книги, которые, по его словам, оказали значительное влияние на ранние этапы формирования его мышления. Поэтому «философы XVIII века были для него и его друзей образцом, которому они стремились подражать», и они надеялись не уступить им в значимости. Тот же вдохновляющий эффект, который так много благодетелей человечества испытывали при чтении Жизнеописаний Плутарха, он испытал, читая Жизнь Тюрго в изложении Кондорсе. Увидев, что Тюрго держался в стороне от энциклопедистов, потому что всякая секта вредна, Милль «отказался от названия “утилитарист” и перестал выставлять сектантский дух напоказ». Когда в 1826 году у него наступил «кризис в убеждениях», это были Мемуары Мормонтеля, которые озарили солнечным лучом мрак, в котором он пребывал. Около 1829 года он был особенно поражён логической связностью идей в теории естественного порядка прогресса человечества у сенсимонистов, особенно у Огюста Конта — «ученика Сен-Симона». Когда он писал свою Логику (1837), он читал первые два тома Курса позитивной философии и извлёк из них большую пользу; но затем он отходит от Конта, который, «как социолог», утрачивает из виду свободу и индивидуальность. Логика — это нападение на философов интуитивной школы. Идеи, которые Милль развивает в Принципах политической экономии, частично пробуждены в нём сенсимонистскими доктринами. Наконец, он вступает в решительную полемику с Гамильтоном — «главной крепостью в Англии интуитивистской метафизики, воплощающей реакцию XIX века против XVIII», — и утверждает, что Браун, против которого Гамильтон особенно направлял свои стрелы, был деятельным и плодотворным мыслителем, оказавшим философии гораздо больше услуг.
Со своей стороны, книги Стюарта Милля, дополненные трудами Бэйна, Спенсера и Льюиса, все из которых продолжают линию Брауна, были во Франции проанализированы, процитированы, переведены месье Тэном, Казелем, Рибо, и другими, которые, не без успеха, стремились вернуть в почёт философию опыта. Разве не стоит напомнить тем, кто об этом не знает, что Браун, а в определённой степени и Милль, Бэйн, Спенсер и Льюис восходят к нашим идеологам?
Продолжение: Глава VIII. Спиритуалистическая и христианская идеология
