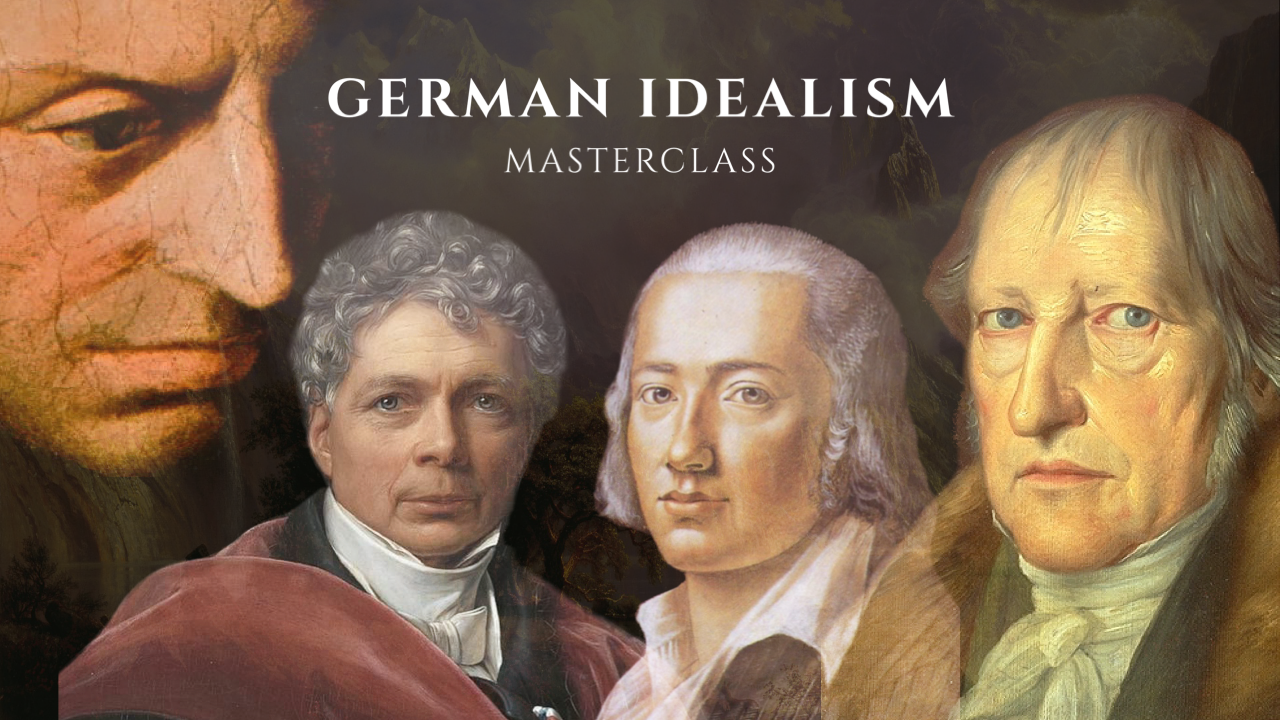
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Версия на украинском языке
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
Отвлекусь немного на Бурик, которая выкатила итоговую статью за последний год своих теоретических метаний, и попытаюсь рассмотреть ее работу буквально построчно. Начинает она следующим пассажем:
Сущность человека не есть абстракт, присущий каждому отдельному индивиду, в своей действительность она не есть также совокупность всех общественных отношений. Совокупность общественных отношений — это совокупность явлений этой сущности. Сущность человека заключается в универсальной деятельности, специфически характерной только для человека. В этой деятельности человек производит все условия своей жизни и все общественные отношения, создает противоречивые, взаимоисключающие, борющиеся тенденции развития общества. В этой деятельности человек и является субъектом, то есть действительным человеком.
Конечно, на слове «Сущность» можно было бы сразу закрыть эту статью, как теоретический мусор, который продолжает существовать в парадигме дуализма «сущности» и «явлений», и не вышел за переделы самого примитивного картезианства. Но так было бы совсем не интересно. И если придать этому хоть какой-то смысл, то она говорит, буквально, следующее:
Сущность человечества это то, что делает человека — человеком, и это не «Человечество как таковое», не платоновская абстракция, которая проявляется в каждом отдельном индивиде. Это не так, потому что Бурик наконец-то поняла, что это банальная теология и идеализм. Но это даже не совокупность отношений между индивидами, потому что совокупность отношений, это совокупность проявлений «человеческого», и вообще в идеалистическом марксизме (!) стоит табу на сведение «целого» к совокупности частей. Так что же тогда такое это «человеческое», если не абстракция Платона? И что же такое этот конкретный человек, как не проявление человеческого? Человечность — это «специфическая» деятельность по преобразованию природы, в которой человек становится творцом.
Отрицая платонизм как мем про «эйдосы», она пришла к платонизму как логике реализации «творчества». А если еще проще, то Бурик пытается перенести вопрос о сущности человека из абстракции о человечестве вообще (т.е. как об опыте и творениях, которые передали нам наши предки за сотни поколений + то, что мы уже успели сделать сами) на, в общем-то, такую же абстракцию о «человеческой сущности», состоящей в преобразовательной деятельности. Акцент смещается с итогового результата на текущий процесс.
Но суть, в общем-то, осталась такой же, потому что человек обретает себя, как и раньше, только посредством некой вне-его стоящей «сущности», существующей по своим собственным законам, и к которой созданию под названием Homo нужно еще приобщится, чтобы получить право быть «настоящим» Человеком с большой буквы. И это не что-то присущее прямо таки каждому индивиду, потому что тогда сознательными творцами были бы все и каждый. Даже если эта сущность заложена как потенция в каждом из нас, её ещё нужно в себе раскрыть. Но сама эта сущность выступает как детерминанта человека, сначала ты должен её раскрыть, иначе умрешь недочеловеком, а раскрыв — должен творить благие дела. Мы уже встречались с этой концепцией в ильенковском марксизме Бурик, но раньше Бурик, по наивности, пыталась доказать, что быдло может стать «настоящим» человеком только после приобщения ко всему опыту наших предков (правда на деле этот опыт был уже якобы абсорбирован Гегелем, а поэтому достаточно было только понять Гегеля), и усвоив этот опыт — мы бы начали действовать уже в «новом» пространстве, творить что-то действительно актуальное, создавать что-то такое, чего наши предки еще не сделали. Таким образом, посредством таких личностей «человечество в целом» (или т.н. «Абсолютный дух») делало свои дальнейшие шаги.
Тем не менее, в такой схеме человек действует в контексте «Человечества» и только ради него. «Человечество» использует такого индивида как инструмент для саморазвития. Индивид теряется в этой схеме. Поэтому Бурик пытается уйти от обожествления «Человечества», чтобы не создать, как Огюст Конт, секту «Церкви Человечества». Раньше она семимильными шагами к этому шла, а теперь пытается обойти эту опасность. Теперь дело не только в том, чтобы обрести все знания, накопленные за всю историю мира (т.е. изучить Гегеля), а в том, чтобы стать свободным творцом. Возможно, как второй этап после обретения знаний. Но этот этап стал совершенно необходим. И акцент переносится со служения чему-то внешнему, на служение своей якобы внутренней сущности (но на деле такой же внешней и приказывающей). Как мы уже отметили, в сущности здесь мало что изменилось. Она и раньше говорила о том, что суть бытия человеком — в преобразовании природы под себя. И весь каркас ее построений в целом мало изменился.
Это понимание предполагает выявление той инварианты, наличие которой принципиально отличает деятельность человека от слепого действия сил природы, в том числе и очеловеченной — переработанной в социальный мир, состоящий из мира вещей и мира общественных отношений с его объективными независимыми законами. Такой инвариантой, то есть тем, чего нет в несубъектных действиях человека, является свобода. Субъектная, то есть специфически человеческая, деятельность — это деятельность по меркам свободы.
Как и говорилось выше — мы живем в мире дуализма природы и общества, быть человеком, это значит быть демиургом, возвышенным над природой. Но Бурик осознала, что растворяя человека в материи, не наделяя его ничем «особенным» (т.е. квази-душой), она ступает на путь детерминизма, где человек не является чем-то вне-природным, а значит подчиняется механистическим законам материи (о нет! это же фу, материализм). По многим соображениям практического характера (о чем она говорила своей группе множество раз), детерминизм ей не нравится, и поэтому она не находит ничего лучшего, чем просто указать на наличие у человека свободы. Эта свобода не доказывается в общем-то никак, она просто самоочевидна. Животное от голода бежит к кормушке, а человек может хоть сутки повременить или даже сознательно довести себя до голодной смерти. Таких примеров она не дает, но в общем-то это близко к сути.
В каком-то смысле она повторяет шаги, сделанные в античное время атомистом Эпикуром. Правда Эпикур для этого не создавал раздвоенный мир природы и общества, всё было природой. Чтобы обозначить специфику человека, ему было достаточно только констатации разделения естественных и искусственных предметов, которые все состоят из атомов, подчиняются единым законам механики и являются частью природы. Свободу он точно также констатировал без доказательств, но по крайней мере ему для этого не нужно было отрывать общественный мир от природы, или отказываться от атомистической картины мира. Бурик не выдерживает такого уровня и откатывается к дуализму, что автоматически делает человека «особенным». Но она тоже пытается, как видно по цитате выше, разделять рукотворную природу (те же искусственные вещи) и естественную природу. Правда они обе живут по своим, отдельным от человека законам, и поэтому одинаково «несвободны», запрограммированы.
Поразительно здесь только то, что в общественном мире действуют в общем-то люди, и наверное это должно было бы как-то сказываться на свойства этого мира. Но Бурик настаивает, что там нет никакой свободы. То есть, пытаясь избежать теологии «Человечества» (в которую развился позитивизм Огюста Конта), она все равно обожествляет «общественные отношения» (то, чем страдали Фейербах и Маркс) до такой степени, что в их рамках человек не более чем статистическая единица. А что такое человек вне общественных отношений? Что такое «свобода»? Уже здесь все это становится очень похожим на философию крайнего субъективизма по типу Фихте. Отчетливо видно, что Бурик пытается, не называя Фейербаха по имени, действовать строго в логике его гуманизма и антропологизма, хотя также видно и то, что она опасается фейербахианского обожествления общественных отношений. Поэтому вместо материалистической трактовки детерминизма, мы уходим в классический немецкий идеализм, т.е. в немецкий вариант возрождения платонизма.

Свобода всегда конкретно исторична. Свободная деятельность осуществляется в определенных условиях, но сама она состоит в отрицании этих условий, как утверждении человека во всей полноте его чувственности, нравственности и мышления, как реализация непосредственного интереса. Свобода, таким образом, не может быть верно понята ни как необходимость (пусть даже и осознанная), ни как чистая спонтанность. Полностью последовательное проведение обеих этих позиций в конечном счете обессмысливает сами понятия свободы и человеческой субъектности.
Здесь она просто констатирует свою мотивацию. Исторический материализм слишком напирает на том, что «общественные законы» реализуются, используя людей как свои пешки на шахматной доске; но Бурик хочет, чтобы человек действовал сам, чтобы от наших решений что-то зависело. Отчасти это практическая проблема, потому что вера в действие «законов» снимает с человека ответственность, и вместо того, чтобы действовать — такой человек сидит и ждет, пока «законы» сами начнут реализоваться. От него же ничего якобы не зависит! Само собой, что ожидание ни к чему не приведет, и нужно действовать, чтобы что-либо начало «реализовываться». Но чтобы действовать — нужно хотя бы поверить в свою значимость, в значимость своей воли. Пассивность марксистов на пространстве СНГ — это основная предпосылка для всей этой теоретической работы. Бурик всего-то пытается, путем сложных словесных комбинаций, оторвать левых от диванов и заставить делать хоть что-то. Цель её абсолютно практическая. Об этом она в общем-то и продолжает дальше говорить:
Свобода — это, каждый раз выход за пределы той определенности, в которой действует человек. В этом смысле она определяется условиями, но лишь негативно. Осуществление свободы — это отрицание всей совокупности имеющихся условий деятельности не только по логике этих условий, но и по универсальной, а значит в пределе бесконечно-разнообразной логике утверждения человека в мире. Свобода означает не только отрицание обстоятельств, но и самого налично-достигнутого характера (состояния) деятельности. Человек отрицает консервативную сторону своего собственного способа жизни, утверждая себя в этом отрицании. Реализация свободы — это всегда борьба за освобождение как с имеющимися обстоятельствами, так и с самим собой. Поэтому свободная деятельность всегда саморазорвана, всегда является борьбой разнонаправленных взаимоисключающих тенденций, другими словами, она всегда противоречива. И человек поэтому всегда противоречив, саморазорван. Его субъектность это самопреодоление, борьба тенденций в нем.
Человек-субъект — это человек в своей деятельности выходящий за исторически сложившиеся ее формы. Субъектность — это выход за наличные пределы и отрицаемого, и отрицающего субъекта, а не действия исключительно в рамках определенности и в соответствии с нею, как бы широко эти рамки не раздвигались в сознании, даже до масштабов материи.
Правда выход за пределы установленных отношений (т.е. совершение «отрицания» по Гегелю) — это тоже часть детерминированного механизма из серии «отрицаний». Если за черным должно следовать белое, то оно должно будет следовать, это детерминированный механизм. В чем здесь собственно свобода, не совсем ясно. Но зато ясно, что Бурик намерена подготовить почву для атаки на материализм, и уже не только на «вульгарный» атомизм, но и на «утонченный» диамат. Следующей ее целью становится понятие самой материи, которое она пытается демистифицировать также, как и понятие о человечестве.
Материя — это абстракция, но абстракция разумная поскольку под материей понимается мир взятый со стороны его единства. Материализм заключается в том, чтобы положить материю в основу теории. Это означает что идеальное (воля, сознание, чувственность), не может рассматриваться в отрыве от мира как самостоятельная сущность, а должны быть поняты из него и вместе с ним.
Материя не есть ни субстанция, ни субъект. (Парафраз претензии Гегеля к Спинозе).
Здесь она просто признает континуальное понимание материи, констатирует, что она все еще «холист», т.е. «философ Целого», иначе говоря — последователь Спинозы. Как правило, это автоматически толкает философа к конструированию из «материи» — нового Бога, в котором и через которого мы все живем, и чью волю исполняем. Если материя — целое, а мы — части, то по отношению к материи/природе мы является тем же, чем являются клетки по отношению к организму человека, или даже пальцами и руками в организме природы (в согласии с тем фактом, что человек «творец»). И якобы своими руками (т.е. людьми) природа преобразует саму себя. Без рук она бы не могла этого делать, но вот, в какой-то момент природа «захотела» себя переделать, и создала для себя инструмент, человека. Без шуток, так и думала Бурик раньше, как и ее учителя, включая Пихоровича. Конечно не в таких глупых выражениях, но концепция выглядела именно так. И за это я много лет над ними уже насмехаюсь. Но вдруг, даже Бурик смогла осознать, что это проблема, и решила от этой проблемы уйти.
И поэтому, ОПЯТЬ ничего в сущности не меняя, и оставаясь холистом, она надеется обойти все проблемы, которые из этого холизма проистекают (ну прямо как в марксистских мемах, где мелкие буржуа надеются построить утопию без ликвидации капиталистического фундамента).
Материя не есть субстанция. Под субстанцией в истории философии понималось то, что является причиной самого себя, или то, что не нуждается во внешнем основании для своего существования. Материя не является субстанцией не в том смысле, что нужно искать внешнюю причину или основание для ее существования, а потому что для мира в целом вообще не нужно искать никаких причин и оснований. Категория причинности, точно так же, как и понятия начала и конца и уж тем более цели, не применимы к материи, если последовательно проводить выше обозначенное понимание.
Итак, ещё раз, внимательно читаем. «Субстанция это то, для чего не нужна причина», так говорит Бурик. «Но для материи не нужны причины и так», — добавляет она. Следовательно — материя не субстанция. Это настолько тупо, что я даже не знаю что тут еще сказать. Она буквально сказала — «поскольку материя субстанция, то она не субстанция». Она хочет снять с материи теологический статус, но не знает как это сделать, не отказавшись от холизма. Со своей стороны я бы сказал, что сама идея субстанции — мусор, как и вся метафизика в принципе.
Но отсюда она переходит к той самой шизе ее учителя Пихоровича, где материя — как живое существо, которое хочет себя изменять, пользуется нами, как инструментами. Нанести удар по этому бреду для нее куда более важно. Это необходимо, чтобы «освободить» человека от рабского служения природе, а себя саму от паталогической тупости Пихоровича.
Материя не есть субъект. В мире есть субъектность, потому что человек часть мира, а не потому, что она характерна для мира как такового и только проявляется в человеке, как не его собственная субъектность, а воплощение субъектности материи. Субъектность относится к миру в целом, а не к определенной его части (к индивиду и даже к обществу), в том смысле, что человек универсально перерабатывает природу, в пределе превращая все во все, утверждая себя в этом и через это. Поэтому и чувственность, и мышление человека носят универсальный характер, то есть в мышлении и в чувствах люди могут делать своим предметом все в мире и весь мир. Но человек тем не менее является человеком, а не миром в целом. Его (человека или общество) неправомерно отождествить с материей, точно так же как неправомерно будет отождествлять с материей какое-либо существо, вещество, вещь или комплекс вещей и т.д. (любое конечное).
Но как мы видим, она ничего не изменила. Буквально: «Субъектность относится к миру в целом», даже если после этого следуют какие-то уточнения. Даже после этих уточнений, индивид все еще мусор, а значение все еще имеет только целое. Фашизм/коммунизм в мышлении спасен, либералы не смогут использовать это для своего буржуазного индивидуализма, фух! Но почему, освободив человека, он все еще не субъект как индивид? Потому что его деятельность, та самая штука, которая является «сущностью человека», и которая существует как бы даже вне индивида, и через приобщение к которой мы получаем право зваться «человеком» — позволяет преобразовать «всё во всё». В этом есть некая универсальность.
Как от этой универсальности перекидывается мостик к тому, что субъектность относится к миру в целом? И почему из этого следует, что человек, к которому субъектность все еще относится опосредовано — свободен? А никак, это просто констатация, связанная с семантикой слов «универсальность», «субъектность» и «всеобщее». Т.е. буквально словесные трюки. На самом деле она хочет сказать, что человек свободен от целого, а мир в целом не обладает субъектностью. Но она не может этого сказать, для нее это будет слишком греховно.
Итак, материя это только все и сразу, а значит любой конкретный конструкт из материи — это уже не сама материя (т.е. не все и сразу, а только часть). В рамках атомизма это бы еще звучало разумно: более сложные системы атомов обретают различные свойства, поэтому итоговые крупные составные тела — не полностью тождественны друг другу, хотя и состоят из одного материала. Но в случае с холизмом — это так не работает. Принцип-то Бурик использует такой же, как и в атомизме, но сама структура материи в ее представлении такова, что ее превращения — не иначе как магия. Один бесконечный пластилин в одном всеобщем качестве просто произвольно на отдельных своих участках трансформируется в другие вещи, и при этом такие вещи уже якобы не являются самим этим пластилином. Но эту тему (про дискретную и континуальную материю, их общие и различные черты) раскрывать долго, а мы нацелены на статью Бурик, а не на все косвенно связанные с ней вопросы. Даже если бы все работало с холизмом так, как и с атомизмом — Бурик пришла к выводу, что не только людей, но и любые отдельные существа «неправомерно будет отождествлять с материей». Материя стала вообще не нужна, мы оперируем только конкретными индивидами, и различаем их по степени свободы. То, что все мы материальны — это мы нарочно игнорируем, как вещь не важную, ибо это лишило бы нас метафизической свободы. Удобно? — да. Разумно? — нет.
Материя принципиально не завершена. В этой незавершенности заключается основание и возможность человеческой субъектности. Человек не меняет мир в целом, а всегда имеет дело с определенным предметом, но если этот предмет меняется, то и мир, и человек не остаются прежними. Противоречивость постоянно становящегося принципиально незавершенного мира проявляется в универсальной деятельности человека в чистом виде, поскольку человек не только (в пределе) может превращать все во все, но он отрицает не только предмет в его наличном бытии, но и свою собственную деятельность. Своими действиями человек создает новую реальность, то есть новые условия своей деятельности (своей борьбы).
Материя все еще страдает от того, что хочет себя изменять, она все еще хочет использовать своих «деятельных рабов». Но Бурик решила, что человек реализует эту потребность материи по своей собственной воле, и в каком-то смысле даже «случайно». Мы не специально целимся именно на преобразование вселенной, просто оно так само выходит. Цели человека меньше и локальнее, но метафора «невидимой руки» отлично направляет его к всеобщему благу. Главное отметить, что нигде, включая тезис о материи как целом организме, Бурик не отошла от первоначальной шизы по сути дела, а просто несколько переформулировала ее, чтобы увеличить роль человека и сделать Природу менее божественной.
А дальше, не желая ничего менять, она просто повторяет тезисы «идеалистического марксизма» о трансформации материального и идеального, оставляя на месте сам дуализм души и тела, и все рудименты эпохи Декарта/Спинозы. То, что именно поэтому возникла вся та шиза, которую она не очень удачно и убедительно пыталась оспорить — это ее не волнует. То, что сохраняя эти рассуждения — она неизбежно вернется к вышеуказанным проблемам — ей все равно. Главное как можно меньше изменить любимые концепты.
В субъектных действиях человек всегда делает свою собственную деятельность предметом, то есть отличает себя от своей собственной деятельности и противопоставляет себя ей, поэтому субъектная деятельность осуществляется в переходах материального в идеальное и обратно (Смотреть понимание идеального у Ильенкова). Создается идеальная сторона деятельности: самосознание как единство воли и интеллекта, чувства, желания, цели, понятия человека как о нем самом, так и о мире, в котором он живет. Другими словами, субъектность предполагает соответствующую субъективность и осуществляется через нее. Субъектность осуществляется как субъективность личности: как ее желания, ее волевые решения, постановка целей, поиск средств. Это давало основание классикам идеализма (Фихте, Гегель) рассматривать субъектную деятель как реализацию самосознания (или Я), то есть идеального в мире. Для нас же это означает, что в мире нет никаких целей, кроме человеческих, и никаких нравственных измерений деятельности, кроме человеческих. “Вынесение” их в бога (или в материю) соответствует отказу от собственной субъектности или, что то же самое, отчужденности от нее человека.
При чем разделив материальное и идеальное, и убрав материю на задворки, человек реализует теперь не потенцию природы к самосовершенствованию, а созданную собой же «идеальную» природу. Нас интересует идеальное и только идеальное, что и дарует нам свободу. А то, что оно возникло из какой-то там малозначимой материи, это только важная предпосылка, чтобы тебя не обвинили в идеализме. В самих рассуждениях материя больше ничего не значит, но и выбросить ее нельзя, чтобы сохранить статус «материалист». Совершив такой недосказанный «каминг-аут» в качестве идеалиста, Бурик переходит уже к вопросу самой личности-субъекта.
Субъектность — это всегда межсубъектность (Фихте и Гегель). Нельзя жить в обществе и быть свободным от него (Маркс), но можно (и только так и можно) жить в обществе и быть свободным вместе с ним. Человеческая деятельность носит коллективный характер, преобразование деятельности и изменение ее условий — соответственно тоже. Субъект-личность существует исключительно в пространстве межсубъектности. Действительным субъектом исторического действия личность может быть только вместе с такими же свободными, то есть освобождающимися, личностями. Это означает, что саморазорванность, противоречивость субъекта, осуществляющаяся как борьба различных и разнонаправленных тенденций развития общества, имеет место и в каждой личности, и в коллективе-субъекте, и во взаимодействии таких коллективов. Субъектность — это постоянное самоотрицание сложившихся коллективных форм деятельности. Свобода угасает в окостенении коллективности.
Чтобы не показаться солипсистом и не получить обвинения в «робинзонаде» (хотя в этом нет ничего плохого, но марксисты явно обвинят), Бурик спешит оправдаться, что в своем субъективном идеализме по Фихте (можно назвать это фихтеанским марксизмом) — она все же допускает важность и субстанциональность других личностей, и может реализоваться только вместе с ними. Так что, пускай и на идеалистической основе, но мы будем строить все же коллективизм, это самое важное. Кто бы не строил коммунизм для блага всех людей — идеалист (Бурик) или материалист (вульгарные дураки), если они что-то такое смогут построить, то они будут молодцы! Можно заметить, что в начале статьи она говорила, что общественные отношения как взаимная деятельность всех индивидов тоже отдают душком детерминизма, теперь она снова к ним вернулась. Чтобы снова.. по второму кругу, пытаться отсюда выбраться. Ее борьба с тональностями (Человечество, Материя) теперь уже добралось и до божества под именем Коллектив, переименованных общественных отношений. С этим новым божком индивиду тоже нужно бороться, но поскольку без него индивиду не выжить (см. «холизм»), то и бороться нужно в меру.
Подлинно-человеческой, а значит свободной, целью может быть только человек. Утверждение человека в его свободе — вот единственно возможная нравственная цель, какие бы разнообразные формы она не принимала. Она требует всегда считаться со свободой другого, с его субъектными действиями. Это определяет выбор соответствующих средств. Попытки “осчастливить насильно” не только неэффективны, но и безнравственны.
Классический либеральный тезис про свободу, которая заканчивается там, где начинается кончик носа другого человека — Бурик воспроизводит почти в точности, но я надеюсь, что это бессознательно, ибо так было бы даже смешнее наблюдать ее переход к фихтеанской версии либерализма (который, кстати говоря, является тем же националистическим фашизмом, но зато на основе свободы индивида). Этот фрагмент ценен разве что тем, что здесь она выступает как морализатор, и очень печется о нравственности тех или иных действий. К счастью, пока что без строгих критериев нравственности. Смеяться над этим нам еще предстоит в следующих ее опусах., и я надеюсь это будет что-то достойное заповедей строителя коммунизма. Зато из хорошего, принятие либерализма оздоровило даже такого закоренелого фашиста, как Бурик, и она уже не хочет проводить над людьми эксперименты и «осчастливить насильно».
В конце концов, речь идет о развитии свободной деятельности в общественную норму. В движении деятельности нужно ставить на ее освободительную тенденцию. При этом следует учитывать, что победив эта тенденция становится консервативной, “застывает” в виде достигнутых форм и препятствует дальнейшему развитию свободы.
В общем, развиваться надо всегда, даже после победы коммунизма, двигаться к новому и новому, почти как в «НЭТ» Ивана Смеха, которую тусовка Бурик яростно осуждает. Но это я уже слишком ехидничаю, понятно что «новое» должно быть новым по сути, а не по форме (ауф!). Дальше нам просто с разных ракурсов раскрывают все уже сказанное выше, чтобы мы ненароком не попали обратно в рабство к материи/природе, от которой нас только что освободили.
Свобода — это отрицание всего костного в деятельности человека. Любые (даже самые “правильные”) идеологические “скрепы”, привязывающие людей к определенной деятельности, — это идеальное выражение превращения человека в средство, то есть идеологическая форма людоедства реальной жизни.
Казалось бы, пускай в целом мало что изменилось в буриковской шизе, и реализация ее «реформы» это скорее пыль на мошонке монгола из анекдота Жижека — но сама попытка через индивидуализм и констатацию свободы — заставить людей действовать, неплохая. Ну, по крайней мере как задумка, а не в плане реализации. Только она тут же все убивает, насильно пихая в свой анализ классовую борьбу и прочие нафталиновые штампы из кондового марксизма. Оказывается вот ради чего мы должны жить и действовать, товарищи, не ради тех абстракций, о которых речь шла раньше, а ради других абстракций из сферы «общественных отношений»:
В масштабах всего общества в современных исторических условиях субъектность не может быть ничем иным, кроме как классовой борьбой пролетариата. То есть любая субъектность, любой выход за рамки существующего положения вещей в конечном счете окажется такой классовой борьбой. Пролетариат имеет в ней шансы на успех, если борется главным образом с самим собой. Победивший свою косность, свою ограниченность современным общественным разделением труда, свой собственных пролетарский характер деятельности, пролетариат победит буржуазию как класс, ведь тем самым будут уничтожены общественные условия, которые воспроизводят не только ее господство, но и ее саму. Это означает, что революционность пролетариата не может носить чисто политический характер, более того, она не может носить политический характер даже по преимуществу. К тому же революционными не являются те формы борьбы пролетариата, которые направлены исключительно на его воспроизводство как класса (улучшение условий торговли рабочей силой).
Бороться за улучшение жизни — фу, реформизм, мерзкие соц.-демы. Внутренний сталинизм Бурик (а ее тусовка, включая таких учителей как Пихорович, иногда даже не стесняются зигануть за «Виссарионовича») дает о себе знать. Но бороться надо в сфере самосознания, а не в политической сфере. Это феноменальный синтез из сталинизма, фихтеанства и младогегельянского инфантилизма. Если до сих пор мы говорили что все ее опусы пронизаны простой апологетикой революции и ностальгии по СССР, и можно было подумать, что это натяжка, потому что строго говоря эта тема не поднимается и она скрыта за стеной гегельянских терминов, то благо, Бурик не стесняется разжевать все самостоятельно и даже не скрывает, что в ее опусах философия полностью подчинена политическим целям (впрочем, это нормально для марксиста).
Революционность пролетариата складывается из множества дел, где люди (личности) выходят за те рамки, которые в их жизни ставит капитал, отказываются играть по предложенным правилам, действуют вопреки всем сложившимся обстоятельствам и предлагаемым современными условиями готовым вариантам ради самой человеческой жизни в многообразнейших ее проявлениях. Субъектная (свободная) деятельность состоит в том, что люди выходят за рамки сложившейся культуры в самом широком смысле этого слова (и материальной, и духовной), борются с этими рамками, отталкиваясь от уже достигнутого, создают новую культуру и отношения, не заданные господствующим способом производства. В этом процессе личность является субъектом своей собственной жизни и истории, функционируют и развиваются пространства (островки) межсубъектности. Такая революционность далеко не обязательно является политической по форме. Наоборот, политическая форма может мешать и гарантированно мешает ее становлению, если это воспроизводящаяся старая форма (косплей). Адекватная форма действительной революционности определяется самой сутью субъектной деятельности, тем, что именно люди создают и что именно отрицают. Успешная пролетарская политика возможна только как политическое выражение действительной субъектности.
Так стараясь пробудить левака к деятельности, она тут же призывает его отказаться от политической борьбы (не вообще, конечно, а только в нынешних условиях, когда «объективно» сложилось так, что действовать невозможно). Левых и так хлебом не корми, так дай ходить кружки по чтению литературы. Но Бурик решила, что этого недостаточно, потому что они еще до сих пор, эдакие наглецы, смеют думать о чем-то, кроме самопознания! Поэтому надо напомнить «пролетариату» (на деле, левым деклассированным элементам, преимущество студентам), что настоящая деятельность — это как раз чтение Гегеля на кружках! Нечего унывать, что вы не движуете в политическом смысле, Гегель важнее! Сначала познай Гегеля, и только потом политика, иначе провалишься в своей борьбе. Правда, это уже пахнет какой-то совсем анти-марксистской темой. И Бурик это поняла, поэтому следующим же абзацем призывает нас не верить в ее собственные слова:
Действительная революционность не идет от идеологии.
Здесь надо понимать, наверное, что ее призывы к Гегелю — это ни разу не «идеология», а что-то более значимое и священное, откуда уже идет действенная революционность. Она хотела сказать, что раз дело не в идеологии, то тут не важно, коммунист ты или нет. Материалист ты или нет — главное то, способствуешь ли ты эмансипации человека. Вот здесь она уже почти совершила каминг-аут в фихтеанский марксизм, и борьбу за коммунизм на фундаменте философии идеализма (то, чего я уже пол года жду от ее трансформаций, и что обязательно случиться, если только она не вернется к классическому марксизму).
… Следовательно, она [революционность] далеко не обязательно и далеко не на всех этапах предполагает идеологическую самоидентификацию ее субъектов как коммунистов. Более того, такое самоопределение часто не мешает людям быть крайними реакционерами на деле. Соответственно, не на самоидентификацию должны в первую очередь работать и опираться сознательные сторонники пролетариата. В первую очередь следует способствовать развитию действительной субъектностии межсубъектности, а межсубъектность в современном обществе предполагает интернационализм в отношениях между людьми. В этом деле нужно ориентироваться на то, что люди на самом деле делают, а не на то, что они думают сами о себе, опираясь на ту или иную, не связанную с их непосредственной деятельностью идеологему. Сторонники пролетариата должны опираться на пролетариат. Это не значит, что не надо заботиться о том, чтобы люди становились сторонниками определенных идей. Конечно надо, это важная часть борьбы. Но следует всегда учитывать, что идея действительно способна овладевать массами и стать материальной силой лишь в том случае, если она выражает действительные интересы и действительное движение масс. Развитию этого движения во всем разнообразии мы и должны в первую очередь способствовать. Каждый на своем месте.
Поэтому всем, кому кажется, что Бурик отходит в сторону «вульгарного материализма» и философии Эпикура, допускающего материю, которая является не «всем», а только составной частью человека, и допускающего свободу воли — смею вас заверить и успокоить, Бурик такой закоренелый враг материализма, что она никогда этого не допустит. То, что вы видите — это просто трансформация, или «регресс», смотря с какой точки зрения смотреть, из марксизма в фихтеанство. Либерализм здесь проваляется постольку, поскольку сам Фихте был либералом, и это прямо связано с философией индивидуализма, к которой он близок. Но Бурик скорее помрет, чем примет индивидуализм без 100500 костылей и полумер. Поэтому бояться нечего, это все еще кондовый коммунист и коллективист, просто под маской гуманизма. А вариантов тут только два, либо дальнейшая трансформация в субъективного идеалиста а-ля Фихте (с попытками выдавать это за позицию а-ля Фейербах), либо возврат к классическому марксизму. Третьего не дано (ну разве что Эпикур, но это грех).
