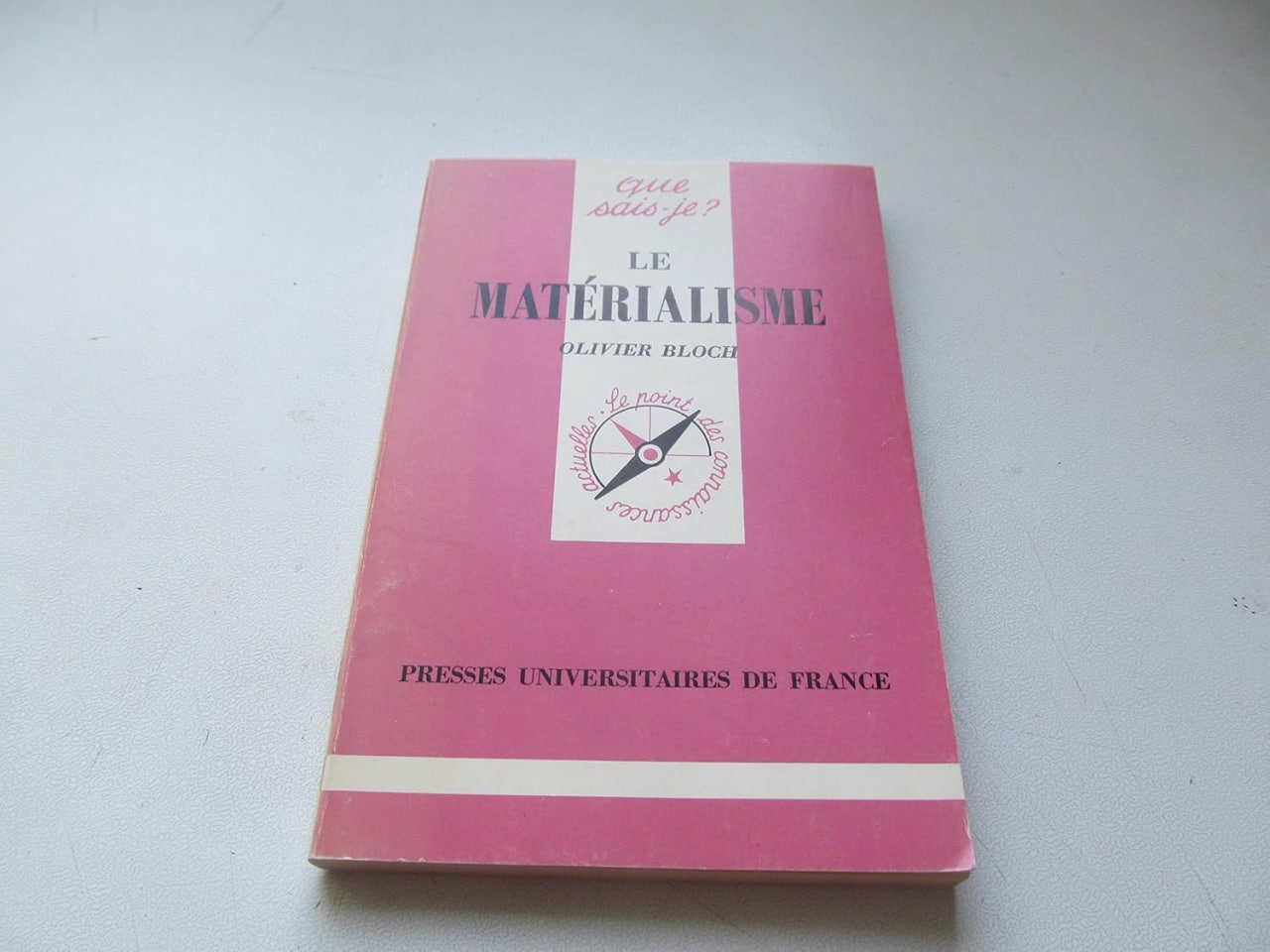
Конспективный краткий обзор книги французского историка материалистической философии Оливье Блоха (1930-2021).
Не очень большая книга, скорее брошюра на 120 страниц, в которой Блох пытается дать не только краткую историю материализма, но и показать сложность этого понятия и многообразие возможных позиций и их освещения в истории. Очень долго и нудно автор начинает с того, что термин «материализм», строго, говоря, сравнительно новый, и что мы называем этим словом людей из античности и средневековья, которые сами себя так не называли. И даже если говорить о современности, то разновидностей материализмов есть очень много, и их тяжело описать одной меркой. Вроде бы и окей, но такое длинное вступление про базовые термины воспринимается всё таки слишком тяжело. Тем более что начинает он издалека, приводя для иллюстрации даже не материалистические тексты, а Платона, Беркли и Лейбница. Начинает казаться, что книга не совсем оправдывает свое название, но всё таки это было бы поспешным выводом. Дальше он говорит как минимум про элиминативный и редукционистский материализм, а из «более легких» версий про механистический, эпифеноменальный, эмерджентный и диалектический материализмы. Старая марксистская классификация пересекается здесь с новой. Вообще автор регулярно ссылается на Маркса и Энгельса и позже посвятит им отдельные разделы. Пускай он и явно критичен к марксизму, тем не менее видно и сохраняющееся влияние; оно очень сильно. Он выделяет также материализмы «региональные», т.е. применимые к какой-то отдельной сфере жизни/науки, но уже не применимые к другим. Или даже по определению самой материи, и тут он вполне резонно различает атомистический и континуальный материализмы. Так что в целом его подход к классификации очень даже неплохой. Этому посвящена вся первая глава книги.
Когда я заливал перевод статьи Айше Юва про материализм XIX века в Европе и Турции, то в качестве достоинства статьи отмечал, что она «процитировала автора, который показал, откуда Маркс и Энгельс позаимствовали тот легендарный фрагмент с восхвалением французского материализма в «Святом семействе»». Так вот об этом впервые сообщил как раз Оливье Блох в этой работе, и после классификации его следующая глава посвящается историографии материализма, а первый раздел называется прямее некуда: «От Маркса к Ренувье и Виктору Кузену». Здесь утверждается, что почти с дословными заимствованиями этот фрагмент был взят из книги Шарля Ренувье «Руководство по современной философии» (1842). Сама же эта работа была лишь переработкой лекций Виктора Кузена за 1840-й год. И автор весьма справедливо указывает на то, что вскоре написанные «Тезисы о Фейербахе» во многом прямо противоречат оценке французского материализма в «Святом семействе». А значит последнее было не совсем «личным» для Маркса.
После этого разоблачения идет раздел «Ланге и история материализма». С самого начала автор напоминает о том, что Ланге был социалистом, правда дарвинистом при этом, и по линии социализма пытался выйти на контакт с Марксом, но встретил только враждебность (видимо поэтому Маркс в «Истории» не упоминается). В целом нам просто говорят что Ланге очень ангажирован, и исключив Маркса он кастрировал свою работу, не говоря уже о специфической классификации с отстранением сенсуалистов от материализма. Поэтому «История» Ланге не может считаться хорошей, и тут я даже готов согласиться (кстати, у нас уже был исчерпывающий конспект этой книги). После этого Блох дает целую серию замечаний и рекомендаций, которые нужно принимать во внимание, чтобы написать, в отличии от Ланге, действительно хорошую историю материализма. И замечания эти даже очень неплохи, хотя в сущности всё равно упираются в то, что следует учитывать все многообразие классификации, а тогда возникает трудность не только с обобщением «главной линии» в материализме, но распадается и то, чему материализм противостоит.
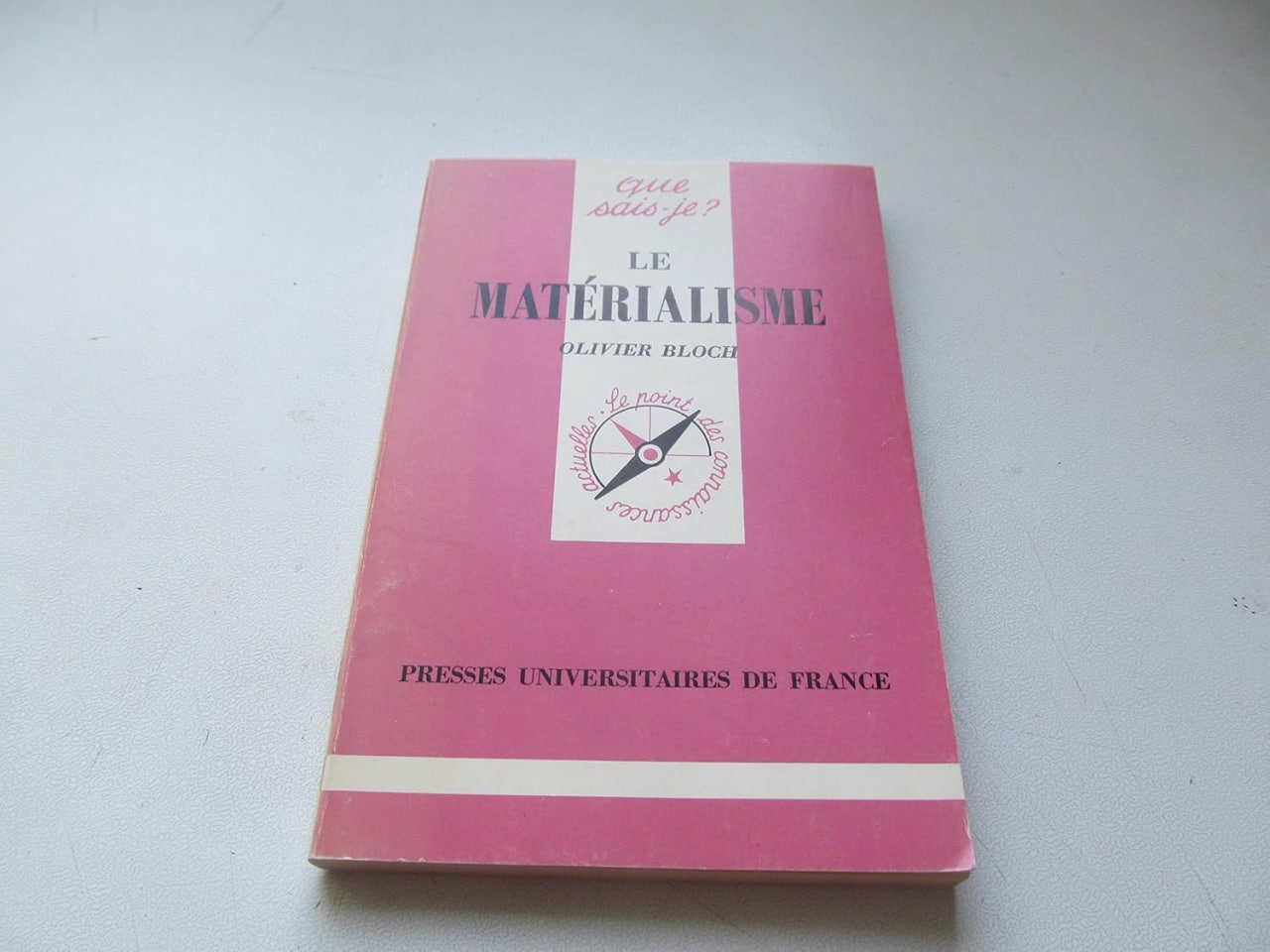
Теперь начинается вторая крупная глава книги, в которой Блох намеревается дать очень сжатую версию своей истории материализма. Начинает он с античности. И хотя он убежден, что материалистические тенденции существовали всегда, но даже с «досократиками» он обращается осторожно. С одной стороны они действительно отличаются от мыслителей «до», иногда напоминают ученых, а в основу мира закладывают вроде как материальные стихии. Но они ещё воспроизводят столько элементов мистико-теологического мышления, что назвать их материалистами без оговорок Блох всё же не может (и тут я его поддерживаю). Первыми материалистами без оговорок он считает Левкиппа и Демокрита, т.е. атомистов. При этом игнорируя куда более последовательно-материалистические идеи Протагора. Хотя в целом это не сильный минус. В течении двух страниц Блох просто пересказывает все основные концепции классического атомизма, не забывая и про ощущения при помощи механизма «симулякров» (отслоения «пленок» из атомов, копирующих образы изначального тела). В вопросе преемственности Блох не сомневается в том, что даже несмотря на господство учеников Сократа, материализм сохранялся, и уже тогда возникли его разновидности, которые не сводились к атомизму. Не только Эпикур в итоге будет материалистом Греции, но также и стоики были несомненно материалистами в своей физике, пускай и специфическими. К этому их могли подвести даже киники, банально как логический результат развития принципов номинализма. Блох вполне резонно отмечает, что когда Платон критикует различных материалистов в своих работах, то это указывает на их существование (зачем критиковать то, чего нет вокруг тебя?). Да и Аристотель выявил достаточно много черт материализма в результате критики своего учителя. Если обобщить, то у Аристотеля все же доминируют тенденции идеализма, но уже его ученики, такие как Стратон из Лампсака, в общем смысле становятся скорее материалистами. И это тоже отдельная линия возникновения материализма.
В эпоху эллинизма Блох рисует картину где среди материализмов доминируют две версии: эпикурейская и стоическая. И он верно различает их как дискретный и континуальный материализмы. Более того, он вполне грамотно излагает эпикурейскую систему и даже с пониманием относится к принципу спонтанного отклонения атома, а это встречается очень редко в литературе! Также вполне правильно он излагает и стоическую систему, конечно же отмечая и то, что она в итоге неизбежно вырождалась в дуализм и спиритуализм. Но это не повод отрицать её изначальную материалистичность. Пускай и непоследовательно в нем существующую. Именно через стоицизм уже в Новое Время проникнут ростки материализма, которые позже расцветут у Джордано Бруно (это единственный кого автор назвал прямо, но очевидно, что сюда можно отнести также Спинозу, Шеллинга и даже марксистов). Сводить материализм только к эпикурейской версии было бы серьезным урезанием истории самого этого течения мысли.
Бегло пробежав средние века с упором на номинализм и отдельные тезисы святых отцов про материальность души, и снова вспомнив феномен Джордано Бруно, Блох переходит к разделу «Материализм и механицизм XVII века». Внешний толчок, замкнутая система, механика Галилея, образное мышление через сравнения с механизмами — это и есть механицизм, который косвенно приводил большинство ученых людей к материалистическим выводам. Он начинает с возрожденного эпикурейского атомизма Гассенди, снова же излагая его очень даже неплохо как для полутора страниц текста, и среди учеников Гассенди упоминает, что самое забавное, только одного — Сирано де Бержерака. Вслед за этим идет глава про механицизм Декарта, при чем автор опять же не говорит вопиющих глупостей, как это обычно бывает в литературе, и прямо заявляет, что:
Философия Декарта, безусловно, не является материалистической ни в целом, ни в каком-либо доминантном смысле…
Но все же элементы материализма в ней есть, и некоторые ученики Декарта, пускай и не самые основные, эти элементы вполне смогут применять для защиты материализма. Ситуация напоминает стоиков, или даже скорее Аристотеля. И прямо как Аристотель в свое время, Декарт дал определение материи для XVII-го века, которым так или иначе пользовались все материалисты нового времени. За Декартом следует обзор Гоббса, который рисуется очень последовательным и жестким материалистом. Но и тут автор не забывает указать на новшества (большая роль, отведенная изучению языка) и на специфику его материализма (он континуален, отрицающий пустоту, и опирающийся на математические методы а-ля Декарт). То есть в каком-то смысле это материализм скорее близкий к стоикам, чем к Эпикуру.
Дальше нам показывают специфическую роль Спинозы в истории материализма. Да и сам феномен соединения элементов философии Декарта и Гассенди, которые в общем-то были врагами. Спинозу он пытается показать двойственным мыслителем, но все же склоняется к мягкому перевесу в сторону материалистической трактовки его пантеизма. После этого начинается глава про материализм XVIII века, и автор очень верно замечает, что это явление совсем не монолитно. Он отмечает роль Ньютона, Локка и Декарта (затмившую предыдущих материалистов), и региональные отличия в Англии, Франции и Германии. Вкратце перечисляет всех самых известных материалистов Франции (от Мелье до Гольбаха), он называет их «вульгарными материалистами внутри вульгарного просвещения». Более того, он отмечает, и это вполне верно, что на уровне теории самой материи эти материалисты скорее на стороне стоиков, чем на стороне эпикурейцев, и иногда сами же заявляют об этом прямо. А из расколы автор рисует по нескольким линиям, одни призывали к политическим изменениям, другие нет. Одни объясняли все в человеке его организацией, другие влиянием воспитания. Одни заигрывали с темой Бога, другие резкие атеисты и т.д. Но все это говорится буквально в паре абзацев, без детализации. Это скорее путеводитель для написания более серьезной работы.
Следующий блок в историческом разделе, и в общем-то последний, это материализмы в XIX веке. Очевидно, что материализм несколько изменился, из-за новых достижений в чистой науке. Появилось больше сил, больше свойств, больше законов. И все это можно было использовать, для обновления доктрин. Плюс сильное влияние оказала постоянная критика материализма, особенно Кант и Гегель. Сначала он кратко описывает «Идеологов», как прямое связующее звено между материализмом XVIII и XIX века, снова отметив стоический элемент в теории материи на примере Кабаниса. Почему-то здесь автор вдруг забывает ВСЕ что говорил раньше про АНАЛОГИЧНЫХ мыслителей, и теперь идеологи оказываются преимущественно идеалистами только потому, что изучают «идеи». И не важно, что их гносеология идентична той, что была раньше у материалистов. По-видимому тут сказывается влияние марксизма на автора. Потому что дальше, когда он уже переходит от идеологов к Фейербаху, последний оказывается ключевым материалистом всего столетия, и он как бы задает трамплин как для «натуралистов», так и для марксистов. Поэтому после изложения «антропологизма» и особого, «гуманистического» представления о Боге у Фейербаха, автор переходит к «натуралистам», или «вульгарным материалистам». Он связывает их напрямую с философией XVIII века и идеологами, напоминает про вопиющий расизм и переходит к марксистам. Из имен он называет классику (Бюхнер, Фогт, Молешотт), добавляя сюда Геккеля. Для Италии он ограничился примером Ломброзо, и упомянул нетипичную фигуру румынского (!) материалиста и идейного антисемита (!) Василе Конта (1845-1882). Подобнее всего в этом разделе описана Франция:
Во Франции это течение происходит из идеологии, в лице Кабаниса, к влиянию которого присоединилось учение френологии Галля (1758-1828). Но рядом с анекдотическими аспектами последнего стоят анатомо-патологические открытия о мозге, которые, начиная с конца XVIII века, вводятся и на протяжении всего столетия уточняют понятие мозговой локализации (см. H. Hecaen и G. Lantéri-Laura, Эволюция знаний и доктрин о мозговых локализациях, 1978). Впрочем, до середины XIX века центральное значение имела фигура врача Бруссе (1772-1838), около 1830 года выступившего как представитель медицинского материализма, и в последующие десятилетия служил ориентиром для материализма, тогда ограниченного медицинскими кругами. В дальнейшем усилия, которые могли вывести материализм за пределы медицинской среды, были ослаблены репрессиями и цензурой. Здесь можно упомянуть фигуру Жана-Андре Рошу (1787-1852), члена Академии медицины, который заявлял себя последователем Эпикура и Гассенди против спиритуализма, представленным Виктором Кузеном и его школой. Усиленные вкладом дарвинизма и немецких авторов, в той или иной степени окрашенные позитивизмом и неокантианством (через посредство таких авторов, как Ланге), это течение приобрело большую известность в конце века благодаря таким личностям, как Феликс Ле Дантек (1869-1917 — Атеизм, 1906; Элементы биологический философии, 1907) и, среди прочих Жюль Сури (Краткий очерк истории материализма, 1881), чьи философские поиски привели к политической активности во «Французском действии» Шарля Морраса.
Про марксизм Блох пишет ожидаемо много, в деталях показывает как возникли истмат/диамат начиная с Фейербаха. Включает в рассмотрение минимум 6 работ Маркса, включая даже мелкие вроде «Критики к гегелевской философии права», и в целом относится к этой версии материализма явно комплиментарно, даже без тени критики. На этом изложение истории материализма (второй крупный раздел книги) заканчивается. Начинается третья часть, про «Материализм сегодня». Здесь он задается вопросом, есть ли в нем смысл, если теперь науки дают ответы на все «материалистические» вопросы. И даже если ответить да, как он сам и отвечает, то какая форма материализма способна давать ответы на, скажем, общественные вопросы? Только и только марксизм! Он прямо сталкивает марксизм и «механистические» вариации материализма, как две стадии развития, поет марксизму дифирамб и переходит к проблемам, на которые материализм (= марксизм, видимо) должен будет ответить. Он показывает что исторически неверно считать материализм антиподом религии, приведя массу примеров, где материалисты искренне верили в бога. Точно также он настаивает, что нельзя ставить знак равенства между материализмом и наукой, приводя такую же массу примеров идеалистических ученых и безразличных к науке материалистов. По-сути материализм это философия = метафизика, а не наука. И это стоит учитывать при рассмотрении связи науки и философии.
Особняком тут стоит проблема базовых определений. Что такое «материя» и т.д. Автор размывает атомизм при помощи научно-популярных представлений о «теории поля». Как не скатиться в скептицизм, как работать с категорией практики (спойлер: тут снова ссылки на Маркса-спасителя), как не скатить мораль в грубый и пошлый гедонизм? Тут он вспоминает утилитаризм и спешит срочно заявить, что:
Утилитаризм — это не мораль материализма вообще, а как показал Маркс, чтобы разоблачить его, преувеличение ценности определенных человеческих отношений эксплуатации, вытекающее из редукционистского понимания реальности, которое само по себе связано с определенным образом жизни в мире.
Короче говоря, марксизм база, вульгарные материалисты это «гении буржуазной глупости» и т.д. и т.п. Перед нами просто типичный кондовый советский текст в современной обертке, правда написанный во Франции и уже после распада СССР. Увы, под конец книга становится все хуже и хуже. После этого он снова посвящает целую главу «Проблемам марксистского материализма». Основной проблемой правда оказывается количество под-школ, несогласованных друг с другом, и генеалогия, по которой марксизм чудом возникает из немецкого идеализма и чуть-ли не традиции Платона. Также он уже обеспокоился тем, что если законы диалектики незыблемы, то в итоге выходит нечто подобное «вульгарному материализму» где господствует детерминизм. Ужас, конечно. Он тут цитирует определения диалектики Сталина, Каутского, Ленина, Бернштейна, Лукача и т.д., короче говоря, очень важная глава. Нет, пару действительно важных замечаний он таки делает, про категорию производственных отношений например, что её можно разбить на две подкатегории, и совсем по разному интерпретировать, что в итоге кардинально меняет всю схему. И ещё некоторые подобные замечания, которые ставят под сомнение работу формационной теории, включая даже самые избытые темы, типа «Восточного способа производства». Но тем самым окончательно вскрыл в себе марксиста, и теперь оказывается, что проблемы материализма это действительно проблемы марксизма.
В разделе «Другие материализмы», он попытался без ругательств и с уважением описать ограниченные системы, откатившиеся на этап назад от марксизма, но так будто бы он не осуждает за это (и на том спасибо). Ноль реально интересных деталей, всё это скорее рассуждения в целом про тенденции науки с точки зрения советского марксиста. И говоря про «Будущее материализма» он налил водички, отсылая снова к классификации «многообразия школ», и сравнивая эпикурейскую традицию как некий примитивный и устойчивый базис (хрень в общем-то), и все остальное, что динамично развивается под влиянием споров с идеалистами! Автор уверен, что внутри-материалистические споры не менее важны, чем внешние, что история материализма не остановится. Концовка в общем-то ни о чем. А ведь это довольно таки авторитетный автор в сфере истории материализма на Западе. Правда, не сказать что работа совсем плоха. Она становится хуже только в последней 1/4 своего объема, до этого вполне добротная вводная в тему истории материализма, и в целом работу даже можно рекомендовать к прочтению.
