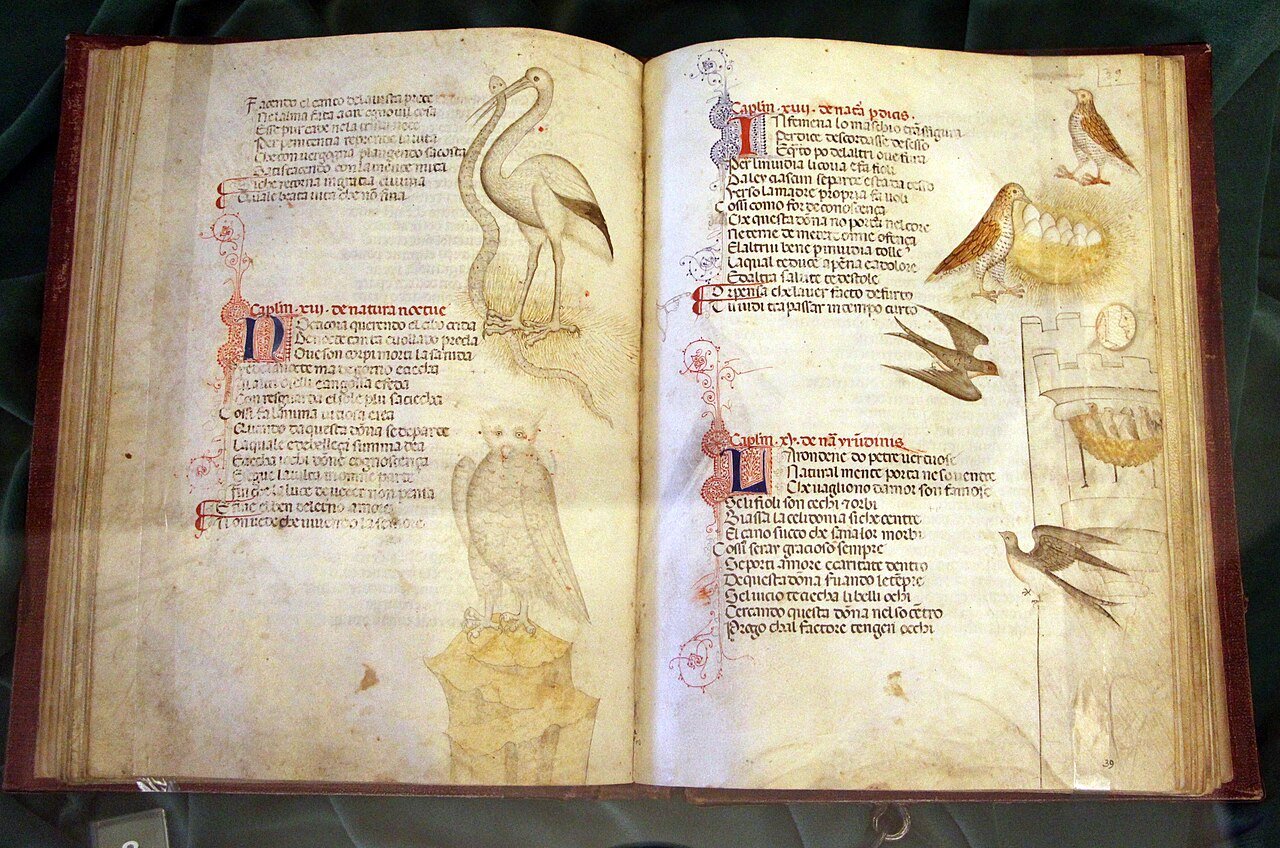
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Версия на украинском и английском языках
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
В этой статье мы будем рассматривать не только аверроистов в университете города Падуи, и не только эпохи Ренессанса, потому что сам аверроизм возник раньше, а школы в Падуе, Болонье, Неаполе или Парме (да и много ещё где) были связаны между собой, и профессора этих университетов часто переходили из одного в другой. Некоторых из философов, которых мы здесь упомянем, мы вкратце уже рассматривали в цикле Мыслители Европы, и они относятся к эпохе средневековья, её самого позднего периода, который мы называем предренессансом. Если описать вкратце само это явление, то аверроизм был учением, восходящем к арабскому философу Ибн Рушду (лат. Аверроэс), труды которого в основном представлены комментариями к Аристотелю. Возникший и получивший развитие во 2-й пол. XIII в. на факультете свободных искусств Парижского университета, аверроизм представляет собой переработку учения Аристотеля, не ставящую (в отличие от томизма) цели согласования этого учения с положениями христианского вероучения и морали. Для них авторитет Аристотеля был гораздо выше, чем авторитет Библии. Чтобы освободится от оков христианской догматики, они выдвинули концепцию «двойственной истины», обосновывавшую независимость истин разума от истин Откровения, философии (и науки) от религии. Они постулируют извечность мировой материи (несотворенность мира) и ее движения. Поэтому и Бог понимается в аверроизме не как христианский Творец, а скорее как аристотелевский Перводвигатель, являющийся лишь принципом вечного движения; как следствие, отрицается возможность творения из ничего, что ставит под сомнение всемогущество Творца, прямое влияние которого на мир оказывается ограниченным. Выступив против учения о божественном предопределении, они разработали учение о естественной необходимости (детерминизм), всеобщей причинности в природе, отказавшись при этом признать существование чудес. Проявлением власти естественных законов многие аверроисты считали подчинение событий земной жизни движению небесных светил. Как следствие, в области антропологии аверроизм отрицает свободу выбора, подчиняя волю человека действию небесных тел. Эти астрологические представления, при всей их ненаучности, свидетельствовали о попытке дать естественное (в противоположность теологическому) объяснение явлений природы и исторических событий; при этом под властью естественных законов оказывалась и судьба религий, в т.ч. христианской. Аверроисты уделяли большое внимание естественным наукам, прежде всего медицине и астрономии. В области этики аверроизм заимствовал аристотелевскую версию эвдемонизма (стремления к счастью), вследствие чего вся проблематика блаженства оказалась ограниченной земным существованием. Средством достижения блаженства считается философское созерцание истины. Из всего, что могла представить культура того времени (не только XIII века, но даже XVI века включительно) — ничего более научного и современного в области философской теории не было.
Но наиболее характерным для аверроизма стал т. н. монопсихизм – учение об общем для всех людей разуме, единственно вечном из всех частей индивидуальной души. Это было самое странное, метафизическое и слабое место во всей их системе взглядов, из-за чего собственно и происходила большая часть опасных споров и церковных преследований. Учение о «едином разуме» прямо противоречило догматам о сотворенности конкретной человеческой души и ее индивидуальном бессмертии. Если проще — это та концепция, которую приняли Гердер, Гегель и т.д., и которую до сих пор в сглаженных формах принимают многие из марксистов, наследуя немецкую традицию. Согласно их взглядам, имеет значение только интеллект всего рода «Человек», который существовал до нашего индивидуального рождения и будет существовать после (как минимум на материальных носителях, книгах, дисках и т.д.), а значит носителем этого интеллекта является не индивидуальный мозг, а коллективный разум всего человечества. Мы можем черпать из него отдельные мысли, существующие как-то независимо, вне нас; но развивать этот разум могут только избранные, которые уже вобрали в себе максимально много знаний, и на их основании смогли сделать поистине новые открытия. Хотя их и делает индивидуальный герой, но он тем самым расширяет этот единый разум всего человечества, обобщенного «Человека». Примерно это подразумевали аверроисты, хотя порой доказывали это очень глупыми доводами. Это учение могло приводить к мнению, что общий разум является разумом самого Бога, но из-за этого получалось, что Бог несовершенен и нуждается в постоянной подпитке знаниями отдельных людей. В альтернативной же версии могло бы выйти не лучше, и тогда Бог знал бы только родовые понятия, в духе идей Платона, но не знал бы единичных вещей (что было бы уделом индивидуальных людей). В любых вариантах выходило, что знания Бога ограничены, также как ограничены и его творческие способности. Обе версии фигурируют у разных аверроистов, но в любой их них теория познания основывалась на средневековом реализме в противовес номинализму. Для аверроистов важно было, что разум так или иначе оперирует общими идеями, а учитывая что он был отсепарирован в особую всеобщность, то это напоминает вполне себе Демиурга и« мир идей» Платона. Это создает некое сходство аверроизма с учениями Дунса Скота, и поэтому многие из умеренных аверроистов переходили в «скотизм».
Помимо вышеописанного, церковь приписывала аверроистам и другие крамольные тезисы, многие из которых являлись тенденциозными выводами из соответствующих аверроистских положений (отрицание первого человека – Адама; пренебрежительное отношение к христианской морали и культу; отвержение Судного дня и загробной жизни и т. п.). Формированию образа аверроизма как злостной ереси особенно способствовала легенда об Аверроэсе как о воинствующем критике всех богооткровенных религий – ислама, христианства, иудаизма (в частности, как об авторе знаменитого учения «о трех обманщиках» – Моисее, Иисусе и Мухаммаде). Основное распространение аверроизм получил в Европе в XIII–XVI вв. Первыми его представителями в Парижском университете были Сигер Брабантский (1240-1284) и Боэций Дакийский (ок.1230-1290). В протест против вмешательства духовных орденов в дела университета, они даже смогли создать отдельный философский факультет, образованный сторонниками аверроизма (1272-75 гг.), что привело к некоему двоевластию. Аверроизм был дважды (1270, 1277) осужден парижским епископом Стефаном Тампье, и репрессии дошли до того, что Сигер Брабантский был убит в тюрьме а Боэций бесследно исчез. Но хотя в Париже это движение и было подавлено, оно нашло продолжение в Италии, а в остальной Европе частично замещено радикальными наукоцентричными номиналистами. Основными противниками аверроизма были Альберт Великий и Фома Аквинский, а также Бонавентура, Эгидий Римский, Раймунд Луллий и др.
Болонский аверроизм
В истории аверроизма выделяют два этапа, классический (до 1277 года и убийства Сигера), и «второй аверроизм», т.н. Падуанская школа. Часто при описании первого этапа говорят так, будто бы после этого всё направление умерло, исчезло, и лишь после какой-то паузы возродилось в Италии, но уже не имело никакого значения. И так аж до тех пор, пока новый импульс этому учению не придали Пьетро Помпонации и Джордано Бруно. Это ошибочное мнение, построенное лишь на том, что эти два имени сегодня считаются значимыми, а значит соприкосновение их светлых умов с аверроизмом резко повысили ценность этого учения. Ошибочно оно и потому, что никакой паузы между первым и вторым изданиями аверроизма не было, да и не сказать, что сильно изменились их позиции (разве что спустя столетие). В XIV в. среди приверженцев этой школы был даже парижанин (!) Жан Жанден (1285-1328), так что не сказать, что и в Париже всё совершенно заглохло. Более того, за ним последовал ещё и парижский аверроист Иоанн Гёттингенский (ок. 1300-1349), известный прежде всего как врач, поскольку был личным лекарем императора Людовика Баварского с 1314 по 1318 год (того самого императора, что приютил Марсилия Падуанского, Вильяма Оккама и ещё очень многих отступников, и на которого Данте возлагал особые надежды в своей «Монархии»), а затем нескольких кардиналов. Предполагается, что он учился на факультете искусств в Париже, прежде чем изучать медицину в Монпелье. Некоторые ростки были пущены и в Англии (Оксфорд), в философии Вальтера Бёрли (1275-1344), и в немецком Эрфурте в сочинениях Мейстера Теодориха (ок. 1290-1355). Отчасти это влияние сказалось, хотя и очень умеренно, на Дунсе Скоте (1266-1308), который, безусловно, не признал бы себя аверроистом. К слову, Вальтер Бёрли отметился и тем, что на основании сочинений Сенеки, ещё задолго до гуманистов Италии начал умеренно оправдывать Эпикура:
«Он был афинянин. По словам Иеронима — невежда, а по словам Боэция — неспособный к диалектике; тем не менее, о нём сохранилось множество благородных изречений. Он презирал мучения и страдания, считая ничтожными те, что кратковременны, и недостойными внимания даже большие, если они не долговечны. […] Богатство, почести, телесное здоровье […] — ни благо, ни зло, но, подобно лекарству, становятся благом или злом в зависимости от употребления. […] Эпикур, защитник удовольствия, утверждал во всех своих сочинениях (что весьма замечательно), что следует питаться овощами, фруктами и самыми простыми, грубыми яствами, ибо мясо и пиршества, приготовленные с чрезмерной заботой и суетной тревогой, причиняют больше страданий в их добывании, чем удовольствия в их употреблении. […] Нельзя посвятить себя мудрости, если ум занят изобилием трапезы, требующим стольких хлопот и усилий. Сенека приводит некоторые прекрасные изречения Эпикура, которые я здесь воспроизвожу: „Весёлая бедность — вещь благородная; и не бедность, если она весёлая. Мы — достаточное зрелище друг для друга. Кто не считает своё достаточным, тот беден, даже если владеет всем миром. […] Если живёшь по природе — никогда не будешь беден; если по мнению — никогда не будешь богат. […] Для многих обретение богатства никогда не было концом несчастья, а лишь переменой его формы. Следует больше думать о том, с кем ты ешь и пьёшь, чем о том, что ты ешь и пьёшь; ведь без друга жизнь — это пожирание друг друга, как у волков и львов. […] Делай всё так, будто сам Эпикур наблюдает за тобой. […] Осознание греха — начало спасения. Думай о смерти. Тот, кто не знает, что грешит, не желает исправляться. […] Эпикур произнёс эти и многие другие достойные похвалы изречения; но во многом он ошибался больше, чем все остальные философы: он полагал, что бог не заботится о человечестве и пребывает в бездеятельном покое, ничего не делая; утверждал также, что высшее благо — это удовольствие, а душа умирает вместе с телом. Он жил во времена Кира, царя персов» (См. Piero Innocenti — «Epicuro», 1975 (можно скачать здесь).
Все эти деятели живут буквально в следующем поколении после Сигера Брабантского. Но всё же они не смогли основать устойчивых традиций во Франции, Германии и Англии. Постепенно центр аверроизма перемещается в Италию. Трудно сказать, где именно эта школа быстрее пустила свои корни, но мы начнем из города Болонья, где его проповедниками становятся профессора факультета искусств Болонского университета Таддео Пармский (прим. 1275-1340) и Анджело д’Ареццо (прим. 1265-1336). Про Таддео известно, что в 1318 году он написал трактат «Theorica planetarum» для студентов-медиков. В «Questiones de anima» обсуждается вопрос о том, верно ли, что разумная душа является сущностной формой тела, и что тело также получает от неё жизнь? Опровергнув различные взгляды (включая Аристотеля), он приходит к выводу, следуя философским методам Аверроэса, об истинности этого взгляда, как бы примиряя аверроизм с классической теологией, признавая индивидуальную душу, но в целом его аргументы скорее ближе к аверроистским. Ещё один крайне малоизученный автор — Анджело д’Ареццо, помимо занятий философией также активно изучал медицину. Он явно общался с крупнейшим врачом эпохи Таддео Альдеротти (1215-1295) и числился учеником врача и логика Джентиле да Чинголи, который и сам учился у Альдеротти, а также у Таддео Пармского. Все четверо, включая Альдеротти, часто считаются аверроистами, и для такого подозрения есть основания, но официально Альдеротти и Чинголи открещивались от Аверроэса, прямо ссылаясь на запрет 1277 года и намекая на убийство Сигера. Если они и были лояльными к аверроизму, то очень аккуратно. Их всё же чаще называют просто «радикальные аристотелики».
Кроме Таддео Альдеротти, упоминались и другие имена, претендующие на пальму первенства первого болонского аверроиста. Так, Джакомо из Пистойи (ок. 1260-1320), автор «Quaestio de felicitate» («Вопрос о счастье»), посвящённого Гвидо Кавальканти (эпикурейскому другу Данте), действительно отстаивает радикально аристотелевскую позицию, близкую к взглядам Боэция Дакийского или Сигера Брабантского. Вероятнее, что Джакомо был магистром медицинского факультета, поскольку ватиканский кодекс, где хранится Quaestio, содержит три текста, связанных с разработкой радикального аверроизма, и одно сочинение магистра Антонио из Пармы — врача и натурфилософа, о котором скажем немного ниже. Кроме того, третий рукописный экземпляр Quaestio, обнаруженный в муниципальной библиотеке Кортоны, также представляет собой смешанный кодекс медицинского содержания, связанный с болонской средой и, вероятно, переписанный студентом-медиком. Подобно ватиканскому кодексу, этот манускрипт содержит ещё и сочинение Анджело д’Ареццо, что только укрепляет мнение о повальном распространении аверроизма среди медиков Болонского университета. Quaestio, единственный сохранившийся след философских и культурных интересов Джакомо, посвящён вопросу о природе счастья. Манера изложения сближает его труд с «De summo bono» Боэция Дакийского, хотя в философской разработке темы Джакомо опирается главным образом на «Никомахову этику» Аристотеля. В Quaestio встречаются ссылки и на другие аристотелевские сочинения: «О возникновении и уничтожении», «О душе», «Метафизику», «Физику», «О небе», «Историю животных» и «Проблемы»; а также на боэцианское «Утешение философией». Произведение можно разделить на три части. В первой Джакомо, предварительно перечислив шесть «условий и свойств», существенных для счастья, излагает собственное мнение о его природе: счастье он видит в созерцательной деятельности интеллекта. Во второй части анализируются пути достижения цели и препятствия, которых следует избегать. В третьей — рассматриваются возражения, которые могли бы быть выдвинуты против его решения. В целом позиция Джакомо в Quaestio расходится с учением Фомы Аквинского по ряду ключевых пунктов: созерцание отдельных (отделённых) субстанций, исключённое у Аквината из определения счастья, у Джакомо напротив — включено; и, что особенно важно, отсутствует у Джакомо различие между несовершенным земным счастьем и загробной полнотой блаженства — различие, столь существенное для Фомы. Эти черты, вместе с явным упоминанием так называемой «доктрины двойной истины», позволяют с основанием отнести Джакомо к представителям радикального аристотелизма. Но из-за отсутствия теории единого разума его предпочитают не записывать в последовательные аверроисты, хотя в целом этому ничего не мешает.
Упоминали также болонского врача Дино дель Гарбо (1280-1327), ученика Таддео Альдеротти, который составил философский комментарий к поэме Гвидо Кавальканти «Donna me prega», где интеллект описывается как нематериальный и нетленный. Однако там никогда не идёт речи об отдельном и едином интеллекте — подлинном признаке приверженности тезисам философа из Кордовы. Не менее интересен и Чекко д’Асколи (1269-1327), поэт, врач, философ и астролог, который был сожжён заживо инквизицией ща еретические взгляды. Он преподавал астрономию на медицинском факультете в Болонье, что также делает его прямо связанным с вышеперечисленными болонскими аверроистами. Здесь он опубликовал комментарий к астрономическому трактату «Tractatus de sphaera» Иоанна Сакробоско и подвергся своему первому осуждению за неортодоксальные комментарии о христианской религии, осуждению, которое состояло из большого штрафа, потери работы, конфискации всех его книг, и ежедневной обязанности читать покаянные молитвы. Однако восхищение его учеников и коллег было таково, что под их давлением в следующем году, в 1325 году, Чекко вернул себе университетскую кафедру и даже получил повышение. В 1326 году он вернулся во Флоренцию, и Карл, герцог Калабрийский, старший сын короля Роберта Анжуйского (1309-1343), назначил его придворным врачом, в противовес Дино дель Гарбо. Однако он стал объектом антипатии герцога после негативного гороскопа его дочери (будущей Джованны, королевы Неаполя) и из-за того, что гороскоп предсказывал скорое пришествие в Италию императора Людовика Баварского (см. примеры ниже, о политическом аверроизме Данте, Марсилия Падуанского и т.д., которые обожали этого императора и желали ему скорых побед). Он был приговорен к сожжению на костре инквизитором Среди шести судей, вынесших приговор, был также Франческо да Барберино, поэт и автор «Документов любви» (Documenta Amoris).
Его самое известное произведение — «L’Acerba» (1327), энциклопедическая поэма, содержащая понятия космологии, натуральной философии и антропологии. Это компендиум для современной ему естественной науки, включая «порядок и влияние небес, характеристики и свойства животных и драгоценных камней, причины таких явлений, как метеоры и землетрясения, — и обыденную моральную философию». Автор проявляет страсть к науке и показывает себя полемистом по отношению к поэзии. Его любимая мишень — «Божественная комедия» Данте Алигьери, которую Чекко видит как отрицание «истинной науки», изложенной в его поэме; до такой степени, что Контини назвал Acerba «анти-Комедией». В этом смысле стоит обратить внимание на строки: «Здесь мы поём не как лягушки, здесь мы поём не как поэт, который притворяется, выдумывая тщетное; но здесь сияет и светит вся природа, что разум радостью наполняет. Здесь мы не бродим по тёмному лесу; здесь я не вижу ни Павла, ни Франчески. […] Я оставляю болтовню и возвращаюсь к истине: басни всегда были моими врагами». В основе физических и естественнонаучных убеждений и знаний Чекко, наряду с философско-научным мышлением Аристотеля и Фомы Аквинского, лежит знакомство с идеями арабских философов той эпохи. На основе их теорий он обсуждает научные вопросы, наиболее спорные в обществе, в котором жил: например, порядок небес, строение Земли, причины затмений, природу атмосферных явлений, свойства или тайные силы (occultae scientiae). С явным намерением подчеркнуть различие между своей поэмой и «Комедией» Данте, Чекко организует главы и сам метрический рисунок максимально похожим образом.
Одна популярная легенда рассказывает о многочисленных доктринальных спорах между Чекко д’Асколи и Данте Алигьери, который, впрочем, был его близким другом. В частности, последний утверждал, что воспитание способно подчинить себе инстинкт, тогда как Чекко был убеждён в превосходстве природы. Легенда гласит, что Данте, в подтверждение своих теорий, выдрессировал кота держать лапами зажжённую свечу, чтобы тот служил ему светильником во время занятий, и показал это своему другу. Чекко в ответ однажды явился к дому Данте, принеся с собой клетку, полную мышей; как только он выпустил их перед котом, тот бросил свечу и, не обращая внимания на оклики хозяина, кинулся за ними в погоню.
Кроме Анджело д’Ареццо и Таддео из Пармы, только один философ мог бы претендовать на звание первого аверроиста в Болонье: Антонио из Пармы (1275-1327). Автор нескольких явно аверроистских текстов, Антонио присутствует в Болонье в 1306 году, когда он уже упоминается как магистр. Болонская reportatio его комментария к «Канону» Авиценны датируется временем до 1312 года. Также известно, что он оказался в Милане, а затем в Вероне в 1319-1320 годах, где он и умер в 1327 году (также пережив преследования церкви по обвинениям в ереси). Между этими разрозненными свидетельствами, указывающими на его присутствие в Болонье, большинство комментаторов считает, что он учился и преподавал в Париже в 1310-1315 годах. Это утверждение основано на том, что он прекрасно знал парижские диспуты — подобно Таддео Альдеротти, чьим учеником он, несомненно, был, — и что он цитирует Жиля Орлеанского и Сигера Брабантского, двух важных участников первых дебатов об аверроизме в Париже XIII века. Однако ничто, кроме этих немногих цитат, не подтверждает эту гипотезу, так как он никогда не упоминается в парижской документации. Следовательно, нет ни одного решающего аргумента, позволяющего разместить его скорее в Париже, чем в Болонье, в первые десятилетия XIV века. Как бы то ни было, Антонио из Пармы станет одним из выдающихся авторов итальянского аверроизма. Большинство из этих аверроистов были врачами, а ученики Альдеротти приняли сторону гиббелинов (за светскую власть Императора и против власти Папы в Италии) в партийной борьбе и подвергались преследованиям.
Бросается в глаза, что помимо того, что они работали в Болонье, значительная часть аверроистов происходили родом из Пармы. А если включить сюда ещё промежуточные города Модену и Феррару, а также самый знаменитый центр в Падуе, то территориальный охват аверроистской школы выглядит достаточно внушительным (см. карта ниже). Стоит также отметить, что эти аверроисты часто действовали в Милане, Вероне и Венеции, а последняя так вообще находится в предельной близости к Падуе. Другими словами, влияние школы распространялось практически на всю Северную Италию выше Флоренции (Альдеротти, к слову, происходил из Флоренции, Анджело из городка Ареццо в зоне влияния флорентийцев, а остальные аверроисты, как мы уже видели, тесно общались с флорентийцем Кавальканти, так что и сама Флоренция отчасти была задета аверроистами), это не просто какой-то локальный эпизод отдельного городка.

Падуанский аверроизм
Второй школой аверроизма после Болонской, и первой по значимости в истории Италии стала школа в Падуе – средоточие интеллектуальной жизни всей северо-восточной Италии, где традиции аверроизма сохранялись вплоть до XVII века Считается, что именно в этой школе были заложены основы современной науки, развивалась натуралистическая логика и эпистемология, и, в антиметафизическом и антитеологическом ключе, в качестве источника знания рассматривались только проверяемые и опровержимые данные естественных наук (т.е. был заложен фундамент эмпиризма). Основателем этой школы считается Пьетро д’Абано (1250-1316), родившийся практически в пригороде Падуи. Он приобрёл известность за сочинение «Согласование противоречий между философами и врачами» (1303), после чего его обвинили в ереси и атеизме, и он предстал перед инквизицией. Он умер в тюрьме в 1315 году, до окончания судебного процесса, оказавшись жертвой репрессий, как Сигер до него, и Чекко после. Какое-то время он жил в Греции (ещё до того, как гуманисты начнут ездить туда для ознакомления с первоисточниками античной мудрости), получил образование в Париже, когда там ещё были сильны школы аверроистов. В Париже он прославился как «Великий Ломбардец». Даже несколько веков спустя, Габриэль Ноде в своей «Древней медицинской школе Парижа» (ок. 1640 г.) сообщает о нём следующее:
Давайте представим Петра Абанского, или Пьетро д’Абано, прозванного Примирителем, из-за знаменитой книги, которую он опубликовал во время пребывания в вашем университете. Несомненно, что медицина в Италии была под спудом, почти никому не известна, необработанная и без украшений, пока её гений-покровитель, житель Апоны [Абано], которому суждено было освободить Италию от варварства и невежества, как и Камилл некогда освободил Рим от осады галлов, не предпринял тщательного изучения, в какой части мира светская литература культивировалась наисчастливейшим образом, [где] философия обрабатывалась наитончайшим образом, а физика преподавалась с величайшей основательностью и чистотой; и, будучи уверенным, что только Париж претендует на эту честь, он сейчас же отправляется туда; полностью вверив себя её попечению, он прилежно посвятил себя тайнам философии и медицины; получил степень и лавровый венец в обеих; а затем преподавал их обе с великими похвалами: и после пребывания в течение многих лет, нагруженный богатством, приобретённым у вас, и, сделавшись знаменитым философом, астрологом, врачом и математиком своего времени, возвращается в свою страну, где, по мнению рассудительного Скардеона, он был первым восстановителем истинной философии и медицины. Благодарность, следовательно, призывает вас признать свои обязательства перед Михаэлем Ангелом Блондом, врачом из Рима, который в прошлом веке предприняв публикацию «Физиогномических заключений» вашего апонского врача и обнаружив, что они были составлены в Париже и в вашем университете, решил опубликовать их от имени, и под патронажем вашего общества.
Будучи также астрологом, он был обвинен в занятиях магией: в частности, его обвиняли в том, что он с помощью дьявола приносил обратно в свой кошелек все деньги, которые он платил, и что он обладал философским камнем (Чекко обвиняли в похожих вещах, в том числе в строительстве каменного моста за одну ночь, благодаря помощи дьявола). Известно, что Пьетро близко дружил с путешественником Марко Поло (и даже сообщал про то, что некие итальянцы уже отправлялись в Индию морским путем, но провалились и пропали без вести); а также он вдохновил одну из работ Джотто, т.е. даже не был совсем уж малозаметным автором того времени. По возрасту он даже старше основателей Болонской школы, но вероятнее всего Падуанская школа возникла примерно в то же время.
На счет прорывных общественно-политических взглядов Марсилия Падуанского (1275-1342) мы уже говорили в отдельной статье (отделение светской политики от церкви, суверенитет народа и т.д.), и это он, находясь в Париже, познакомил Жана Жандена с комментариями Пьетро д’Абано к текстам Аристотеля, и усилил влияние аверроизма во Франции. О принадлежности самого Марсилия к Падуанской школе до сих пор идут споры, но в основном уже признано, что он таки к ней принадлежал, равно как и его близкий друг Альбертино Муссато (1261-1329), который интересен как минимум в контексте темы литературы. Кроме исторических сочинений, которых было немало, Муссато: принадлежат также 17 поэтических посланий (Epistolae), из которых наиболее значимо первое, посвященное проблемам драматургии и истории, пятое и семнадцатое, об искусстве поэзии, 5 священных монологов, две поэмы религиозного содержания, а также различные эпитафии и выдержки из произведений Сенеки и Овидия. Гуманистическими идеями проникнуты латинские стихотворения Муссато, испытавшие на себе влияние римских поэтов Катулла, Тибулла и Проперция, а также трагедия «Эцеринида» (Ecerinis) в пяти актах. Это уже отлично иллюстрирует масштабы влияния античной традиции даже около 1300 года. Но тут ещё интересно то, что Муссато выглядит как прото-классицист, выступавший сознательно против неких прото-романтиков. Он пытается точно и беспристрастно излагать исторические события, очевидцем и участником которых являлся сам, но не «кухонной» латынью Салимбене Пармского и не народным языком Дино Компаньи, а «высоким стилем» Ливия. Антикизируя названия общественных должностей и социальных институтов, он упоминает повсюду трибы, декурионов, когорты и т. п. В политике он вполне созвучен Данте и Компаньи, как и его друг Марсилий Падуанский (т.е. гиббелины, за власть Императора против Папы и т.д.). Правда всех троих, и Пьетро д’Абано, и Марсилия, и Муссато часто считают слабо выраженными аверроистами, и тем не менее политические идеи Марсилия уже почти повсеместно называют «политическим аверроизмом». Логика тут проста — если самым знаменитым тезисом школы стало отделение философии от религии, то и отделение светской власти от духовной в каком-то смысле является выводом по аналогии. Универсалистскую же тенденцию монопсихизма они якобы развили в мондиализм – учение о «всемирной монархии» (см. сочинение Данте о политике). В таком смысле не только Гвидо Кавальканти оказывается связан с северными аверроистами, но и сам Данте обнаруживает поразительную близость к их идеям (хотя в философских сочинениях, напр. в «Пире» он скорее напоминает сторонника Фомы Аквинского, чем Аверроэса, но все же в «Комедии» он упоминает Сигера Брабантского и ставит его в круг вполне уважаемых людей, что вряд ли является простой случайностью).
К середине XIV века аверроисты предложили альтернативу авиценновской медицине — врачебный компендий Аверроэса «Коллигет», не пользовавшийся до того популярностью из-за резкой полемики с Авиценной и опиравшийся на мало известного тогда Галена. Введение в оборот этого труда способствовало реабилитации аверроизма и распространению его влияния на один из высших факультетов. Аверроисты теперь концентрируются в ориентированных на медицину университетах Салерно, Падуи и Неаполя, где иногда занимают ведущие позиции, и не только на факультете искусств. К этому же времени относится и резкое увеличение количества рукописей с латинскими переводами сочинений Аверроэса. Медики же обеспечили сторонникам Аверроэса, которые оставались преимущественно «артистами», приток учеников, которым прежде чем обращаться к медицине рекомендовалось изучить естественную философию сквозь призму перипатетических комментариев Аверроэса. В конце концов в болонском «Universitas artes et medicine» уже во второй четверти XIV в. «Коллигет» был включен в ординарные лекции третьего года. Аверроистов этого периода вычислить сложнее всего — курсы и сочинения множества авторов погребены в допечатной эпохе. Джакопо Донди (1290-1359) в своем «Агрегаторе» (1356) уже выступает с позиций медицины Аверроэса. Это тот самый Донди, который первым в Италии начинал сооружать крупные механические часы, и чей сын продолжил это дело. Оказыавется, он тоже аверроист, и тоже работал в Падуе. Любопытно, что важную роль в популяризации медицины Аверроэса сыграл Эгидий Римский (сторонник Фомы и критик аверроизма, а также защитник Папской власти от нападок Марсилия, создавший целую школу эгидианцев, продолжавшую действовать ещё целое столетие) своим трактатом «О формировании человеческого тела», где широко приводит аргументы из «Коллигета». Он не только косвенно способствовал популяризации радикальных форм аристотелизма, но ещё и написал комментарий к философской канцоне Гвидо Кавальканти «Donna me prega».
К концу XIV века в Падуе выделилась фигура Бьяджо Пелакани (1355-1416) из Пармы, родственник Антонио Пармского, но уже не врач, а скорее математик и философ, который воспринял аристотелевские доктрины физического характера, разработанные во Франции Буриданом. Правда медицине он тоже обучался и должен был хорошо её знать. В 1380 году он получил кафедру в Болонском университете, но в 1384 году переехал в Падую. В 1388 году он был принят на работу в Павийский университет (под Миланом). Он подверг сомнению многие правила механики Аристотеля и выступал за применение новых математических инструментов для замены устаревших правил. Ему приписывают некоторые комментарии к Витело для правильной интерпретации перспективы и к Томасу Брэдвардину по вопросам применения математики к физической науке (см. наследие оксфордских калькуляторов и номиналистов). В частности, он провёл новые исследования в области оптики в своём труде «Вопросы перспективы»; в своём «Трактате о земном измерении» он рассматривал статику, а в «Вопросах пропорций» разработал математическую теорию пустоты, опровергающую континуумные тезисы физиков-аристотелевцев. Он также изучал движение планет в своём труде «Теория планет» и подверг сомнению космологию Аристотеля, отрицая возможность поддержания нетленности небес и теологическое толкование существования неподвижного перводвигателя, а именно Бога. Поэтому он отрицал возможность апостериорных доказательств существования Бога и бессмертия индивидуальной души. Пелакани рассматривает природу или вселенную как одушевлённую сущность, великое вечное существо, находящееся в постоянном движении, где существа рождаются путём самозарождения, и, при благоприятных астральных воздействиях, также проявляются человеческие интеллектуальные души. Что касается морали, он убеждён, что человек должен следовать добродетели по собственному свободному выбору, а не ради трансцендентных религиозных целей. Эти идеи, находящиеся на стыке атомизма и пантеизма — крайне напоминают будущие теории Джордано Бруно. За материализм своих учений Пелакани, доктор дьявольский, как его прозвали, был обвинен в ереси и осужден в 1396 году, и этот судебный процесс вынудил его снова перейти (1407) в Падуанский университет, где он продолжал преподавать до 1411 года. Преследования со стороны церкви не помешали ему получить признание как великому астрологу от князей Падуи и при дворах суверенов, настолько, что в конечном итоге он был погребен в кафедральном соборе Пармы.
Этот пример говорит скорее о распространении номинализма в духе Буридана, близкого к эпикуреизму. Чисто аверроистом этого периода считается Паоло Венето (1369-1429), происходивший из северо-восточной части Италии (у границ совр. Словении), который получил прозвище Венето, поскольку эта территория, как впрочем и город Падуя, принадлежал Венецианской республике. Но и он проходил обучение в Оксфорде, откуда мог подчерпнуть влияние «калькуляторов». Как и большинство аверроистов (и это их огромный недостаток) — Паоло был реалистом в вопросе универсалий и даже строил неплохую карьеру в церкви. В 1409 году Папа Григорий XII назначил его генеральным приором ордена августинцев, а также послом в Венецианской республике. Метафизические тезисы Павла фундаментально укоренены в мысли Дунса Скота. Он поддерживал учение о однозначности бытия и существовании универсальных форм объектов вне ума человека. Поддерживал понятие Скота о реальной идентичности и формальном различии между сущностью и бытием, наряду с понятием «этовости» как принципа индивидуации. На Павла одновременно оказали влияние и другие мыслители схоластического периода, включая доминиканских мыслителей Альберта Великого и Фому Аквинского, а также его коллегу-августинца Эгидия Римского. Павел также критически относился к трудам и учениям номиналистов, таких как Уильям Оккам , Жан Буридан и Марсилий Ингенский, и иногда сравнивал тезисы этих мыслителей друг с другом, чтобы подорвать их позиции. Будучи в этих вопросах в общем-то консерватором, тем не менее, в своих размышлениях о душе Паоло обратился к Аверроэсу и Сигеру Брабантскому, и пытался соединить их учения про общий разум с обоснованиями реального существования конкретного разума индивида, играя с определениями актуального и потенциального интеллектов. Так что связь с аверроизмом здесь явная, но в целом Паоло далеко не так радикален, как его предшественники.
За окончательно примирение медицины по канонам Авиценны и Аверроэса взялся Уго Бенци (1376-1439), личный врач короля Франции, прозванный «князем философов и физиков». От него, сиенского (под Флоренцией) медика, впервые остались собственно философские сочинения, составлявшие, вероятно, курс, который он читал в Болонье и Ферраре. Он включает краткий компендиум по логике, ряд комментариев на «Parva Naturalia» Аристотеля и несколько диспутов по физике — этого достаточно, чтобы убедиться в прагматическом направлении курса философии при медицинском факультете. Кроме пояснений к Галену и Гиппократу, Бенци составил большой комментарий на некоторые части «Канона» Авиценны, в котором столь обильно ссылается на Аверроэса, опуская все их противоречия, что почти примиряет двух противников. Этот труд дал сильный импульс для распространения аверроизма, т.к. стало ещё проще интегрировать это учение в общепринятый свод знаний.
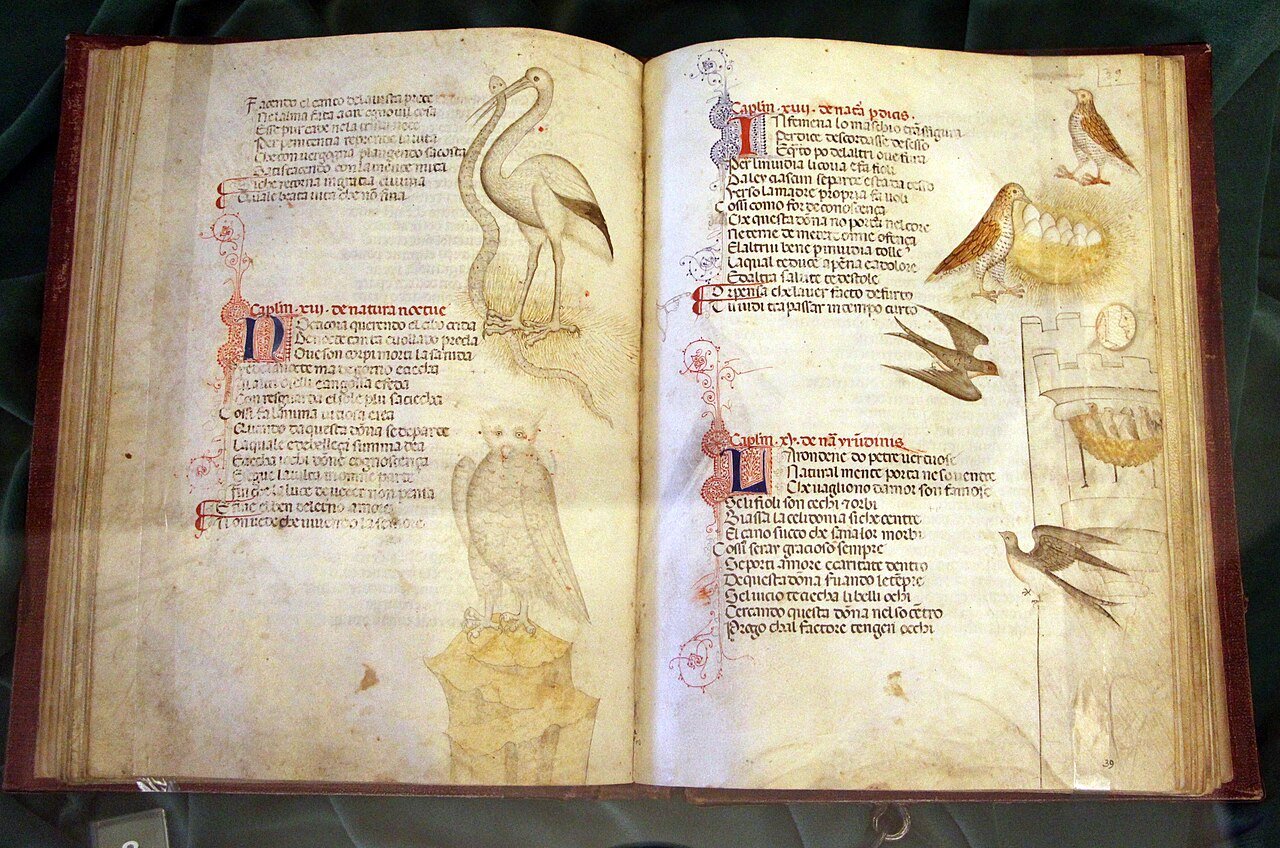
В старой литературе Паоло Венето часто отождествляется с Паоло делла Пергола (ок. 1385-1455). А поскольку трактат «De compositione mundi», изданный в 1498 году в Венеции как произведение Паоло Венето, представляет собой лишь латинскую переработку сочинения Ристоро д’Ареццо «Composizione del mondo» (1282 года) и обнаруживает параллели с трактатом Данте Алигьери «Quaestio de aqua et terra», то в дантеведении Паоло Венето иногда также считали автором этого сочинения, когда обсуждался вопрос об его подлинности. Кроме того, в исследованиях о Данте его иногда считали автором частично латинского, частично итальянского, до сих пор неопубликованного комментария к Данте XV века, который, однако, другие исследователи приписывали Павлу Альбертини (профессору философии в Болонье, ум. 1475). Это снова и снова сближает Данте с аверроистами. Так вот, Паоло Пергола в действительности был учеником Венето, и не только стал аверроистом, но ещё и придерживался скорее номиналистической логики Оккама, а в его сочинениях фигурируют ссылки на оксфодских калькуляторов. Но в отличии от всех предыдущих авторов он родился в самой Венеции и преподавал там же. Второй ученик Паоло Венето, это более известный Гаэтано да Тьене (1387-1465), врач из Падуанского университета. Как и его учитель, он придерживался аверроистской интерпретации Аристотеля и стремился к компромиссу между этой позицией и христианскими доктринами о личном бессмертии души. Собственно поэтому в конце жизни он полностью отказался от аверроизма. Как и его учителя, тоже комментировал и распространял учения оксфордских калькуляторов.
Тогда же работает и Сиджизмондо Полькастро (1384-1473), крупный философ, математик и врач со связями в аристократической верхушке Венеции, чьи ученики также прославятся аверроистами в следующем поколении. И примерно в это же время Георгий Трапезундский (1395-1486) вступает в ожесточенный спор по поводу наследия Платона и Аристотеля. Когда волна греческих переселенцев активизирует интерес к Платону, а во Флоренции мракобесы формируют целую академию по изучению худших сортов философии, на них обрушивается критика со стороны одного из оппозиционно настроенных греков — Георгия. Работая в Венеции, Георгий приобрёл славу по всей Италии. Его репутация, как учителя и переводчика Аристотеля, была огромной, и он был избран секретарём папы Николая V, горячего поклонника Аристотеля. Параллельно Георгий преподавал философию и филологию, и продолжил также свою писательскую деятельность. Его чрезмерно жесткие нападки на Платона (в Comparatio Aristotelis et Platonis), вызвали резкий ответ другого, более знаменитого грека Виссариона Никейского. Его очевидно спешные и неаккуратные переводы Платона, Аристотеля и других классических авторов, подорвали его имя как учёного и поставили под угрозу его должность преподавателя философии (папа Пий II был одним из критиков переводов Георгия).
В начале 1450 года, Лоренцо Валла начал публичную полемику с Георгием по поводу Квинтилиана. Было замечено, что, кроме неаккуратности, в его переводах греческих писателей были пропущены целые страницы. Он был обвинён в том, что торопился получить свои вознаграждения, не завершив работу. Папа выразил своё недовольство и Георгий был вынужден покинуть Рим в 1453 году. Негодование против Георгия и его первых работ было настолько большим, что он вероятно был бы вынужден навсегда покинуть Италию, если бы Альфонсо Арагонский не предоставил ему своё покровительство при дворе Неаполя (см. Неаполитанская академия). Филельфо заступился за Георгия перед новым Папой, и ему было дозволено в 1471 году вернуться в Рим и занять прежнюю должность (см. репрессии против Римской академии). Здесь он издал получившую большой успех латинскую грамматику, основанную на работе древнего греческого грамматика латыни Присциана. Вероятно сблизился с Римской академией и продолжал активно пропагандировать идеи Аристотеля в противовес Платону, и хотя он не аверроист, но такая поддержка могла помочь и Падуанской школе, которая к этому моменту уже была одной из важнейших в Италии, а её самыми известными авторами становятся Паоло Венето и Гаэтано да Тьене, оставившие неизгладимый след в прочтении трудов Аристотеля.
Александристы, скоттисты и консерваторы
Во второй половине XV века аристотелизм естественнонаучного толка дополняется метафизическим аристотелизмом благодаря Антонио Тромбетта, Маурицио Ибернико и Франческо делла Ровере (папе Сиксту IV), т.е. благодаря влиянию как флорентийского неоплатонизма, так и консервативной части Римской академии. Школа приобретает философскую оригинальность и более консервативные нотки главным образом благодаря таким авторам, как Габриэле Зерби, Пьетро Траполино, Николетто Верния, Агостино Нифо и Пьетро Помпонацци. Наследником Гаэтано и профессором естественной философии в Падуанском университете станет Николетто Верниа (1420-1499), уже полноценный современник крупных представителей Флорентийской, Неаполитанской и Римской академии. Он учился в Павии (под Миланом) у Паоло Пергола и в Венеции у Гаэтано да Тьене. Его первая работа была посвящена unitas intellectus, теории Аверроэса о единстве души и интеллекта. В натурфилософии он поставил вопрос о пределах предмета. Вслед за Аверроэсом он взял в качестве темы «подвижное бытие», противостоя схоластическим взглядам Антония Андреаса и Иоанна Каноника. Николетто защищал автономию физики по отношению к метафизике и превосходство естественных наук над гуманитарными.
Среди его учеников были Агостино Нифо и Пьетро Помпонацци. И Верниа, и Нифо постепенно перешли от Аверроэса к толкованиям Аристотеля, предложенным некоторыми греческими комментаторами, одного из которых, Фемистия, переводил Эрмолао Барбаро, коллега из Падуи (этот ученик Попонио Лето из Римской Академии работал в основном в Венеции). Со временем комментарий Александра Афродисийского «О душе» был переведён на латынь стараниями Джироламо Донато, а также началось распространение перевода комментария, приписываемого Симплицию. Взгляды Верниа на правильное толкование Аристотеля изменились в свете доступа к этим новым мнениям. Так формируется ответвление внутри аверроизма под названием «александристы», но об этом ниже. Немаловажным было также стремительно нарастающее давление флорентийского неоплатонизма, настаивающего на приоритете Платона над Аристотелем, а также общее настроение гуманистов того времени читать всё в подлинниках. Аристотель аверроистов был представлен на латыни, и они не считали нужным обращаться к оригиналу, ведь важнее был Аверроэс, а не сам Аристотель, и упорно сопротивлялись требованиям изучения источников на греческом. Из-за этого они казались ретроградами и консерваторами, и высмеивались гуманистами (какой ужас, мракобесы-платоники высмеивают кого-то). К тому моменту вопрос о бессмертии души активно занимал умы философов более полувека, противопоставляя томистическую, аверроистскую и александристскую интерпретации аристотелевских сочинений. В 1489 году Пьетро Бароцци, епископ Падуи, издал декрет, ограничивающий академическую дискуссию, и официально решил этот спор в пользу томистского учения о бессмертии индивидуального интеллекта — а следовательно, и человеческой души. После этого Николетто Верниа был вынужден отказаться от своей позиции. Под давлением, он выступил против Аверроэса в своей работе «Contra perversam Averrois opinionem», критикуя его взгляды на бессмертие души и единство интеллекта. По видимому Николетто подался давлению сразу с двух сторон, как от реакционных гуманистов, так и со стороны церкви. Также среди учеников Паоло, Гаэтано и Полькастро числился Пьетро Роккабонелла (1427-1491), известный профессор медицины в Падуе, но о его связях с Николетто ничего неизвестно. Очевидно, что к 1480-м годам в аверроизме происходит кризис.
Немаловажно и изменение климата в самой Падуе. Уже на примере Паоло Венето было хорошо видно, что эта философия скатывалась в традиционный схоластический консерватизм. Точно таким же мыслителем был и Антонио Тромбетта (1436-1517), строивший карьеру в официальной церковной иерархии. Будучи учёным-философом, он был ревностным последователем философских учений Аристотеля и Дунса Скота, настолько, что его называли scotistarum aetatis suae princeps. В 1469 году он был назначен профессором метафизики в Падуанском университете и занимал эту кафедру бессменно до 1504 года. Т.е. весь конец века, когда и начался кризис аверроизма, прошел под сильным влиянием консерватизма в руководстве самим университетом. Тромбетта даже писал трактаты против Николетто Верниа и Агостино Нифо, но по какой-то причине его считают представителем падуанской школы. Возможно, потому что он (и даже его ученики) всё ещё использовали труды Аверроэса, но с целью критики. Таким же «скоттистом» был и Маурицио Ибернико (1460-1513), прибывший в Падую для обучения аж из Англии, и Франческо делла Ровере (будущий папа Сикст IV), который тоже учился и преподавал логику в университетах северной Италии, включая и Падую. Примерно в то же время преподавал профессор естественной философии и медицины в Падуанском университете, философ-аристотелик и врач, Пьетро Траполино (1451-1509). Он учился в Падуе у доминиканца Франческо Секуро де Нардо и Николетто Верниа. Там же он посвятил свою педагогическую деятельность, будучи учителем Пьетро Помпонацци, а позднее его коллегой и другом. Его имя связано главным образом с комментариями к трудам Аристотеля («Физика», «О небе», «О душе»), в которых он придерживался умеренного аверроизма и проявлял значительную тягу к томизму.
Даже самые радикальные аверроисты того времени, при ближайшем рассмотрении кажутся уже не столь внушительными. Преподаватель падуанской еврейской коллегии Элиа дель Медиго (ок. 1450-1493) прославился как один из самых радикальных аверроистов, хотя в сущности он был умеренным, и находился под влиянием томизма, а аверроэса считал лучшим философом только после Аристотеля и Александра Афродисийского (т.е. сам оны был скорее александристом). В Перудже он познакомился с мракобесом Пико делла Мирандола и написал для него два памфлета и даже посетил Флоренцию, где находилась Платоновская академия Марсилио Фичино, чтобы давать уроки и переводить рукописи с иврита на латынь для Пико. Однако в конце концов Дель Медиго не стал каббалистом и разочаровался в синкретическом направлении, в котором двигались Пико и его коллеги, в тенденции объединять концепции магии, герметизма и каббалы с Платоном и неоплатонизмом. Другим важным учеником дель Медиго в то время был Доменико Гримани, венецианец, впоследствии ставший кардиналом Сан-Марко. Гримани оказался его постоянным покровителем, и при его поддержке дель Медиго написал несколько рукописей, получивших широкое распространение среди итальянских философов.
Помимо растущего разочарования в Пико, он сам был несколько дискредитирован негативной реакцией на тюремное заключение Пико и запретом Ватиканом его «900 тезисов». Более того, между дель Медиго и итальянской еврейской общиной возникли разногласия из-за его светских интеллектуальных интересов и связей с нееврейскими учёными. Вследствие финансовых трудностей, возникших из-за немилости Пико, дель Медиго решил навсегда покинуть Италию. Он вернулся на свой родной Крит, где провёл последние годы своей жизни. В этот период дель Медиго вернулся к иудейской мысли, написав для своих учеников «Сефер Бехинат Ха-дат», в котором он разъяснил своё несогласие с магическими и каббалистическими теориями, вдохновившими Пико на «Речь о достоинстве человека», и изложил свою веру в то, что человек не может стремиться стать богом и что иудаизм требует, чтобы человек «боролся за разум, трезвость и осознание [своих] человеческих ограничений».

Переход к изучению подлинного Аристотеля является длительным процессом, который связан с общим созреванием философского мышления. Ренессанс выступает как начало этого поворота в истории философии. Аристотелики Ренессанса способствовали этому процессу тем, что критиковали аристотелевский томизм. В рамках этой критики они часто выступали и против аверроизированной формы аристотелизма, которая была несколько ближе к подлинной философии Аристотеля. Возникают две полемизирующие друг с другом школы:
- Александристов, которые сосредоточились вокруг университета в Болонье.
- Падуанских аверроистов.
По сути их позиции были очень похожими, и частично суть раскола была в патриотической позиции первых, которые хотели найти более древнего, авторитетного и не-мусульманского автора, что защищал бы такие же взгляды, при чем работая с греческими текстами, а не с латинскими переводами. К тому же, аверроисты начали отступать от первоначальных позиций на счет Единого Разума (той самой бредовой теории), и александристы пытались эти позиции защитить, т.е. по сути они были более чистыми аверроистами. Согласно ортодоксальному томизму Католической Церкви, Аристотель справедливо считал разум свойством индивидуальной души. В противовес этому аверроисты, во главе с Агостино Нифо (1473-1538), выдвинули модифицирующую теорию, согласно которой универсальный разум в некотором смысле индивидуализируется в каждой душе, а затем вновь поглощает в себя активный разум. В 1495 году Нифо опубликовал собрание сочинений Аверроэса с комментариями, в которых попытался позиционировать себя как посредника между западной и исламской культурами. Теперь аверроизм и церковная ортодоксия совпадали в самом спорном вопросе (что не помешает чуть позже запретить одновременно как аверроизм, так и александристов), и поддерживали учение об индивидуальном и всеобщем бессмертии, или о растворении индивидуума в вечном Едином. Агостино Нифо был рукоположен в сан профессора философии в Падуанском университете в очень молодом возрасте в 1503 году и позже также преподавал в Неаполе, Риме и Пизе, приобретя такую известность, что в 1518 году Папа Лев X поручил ему защитить католическое учение о бессмертии от нападок александристов. Поэтому он написал трактат «De irresortitate animae», который получил такое большое общественное признание, что Папа вознаградил его назначением в графы Палатинские с правом принять фамилию самого Папы, Медичи. В тексте, написанном по папскому приказу, он опровергал тезис Помпонацци о неотделимости разумной души от материального тела и, следовательно, о том, что смерть последнего влечет за собой и исчезновение души. Нифо же утверждал, что индивидуальная душа, как часть абсолютного интеллекта, неразрушима и после смерти тела сливается с вечным единством. В политических сочинениях Нифо отмечают сильное влияние Макиавелли.
Александристы, во главе с Пьетро Помпонацци (1462-1525), критиковали эти убеждения и отрицали, что они были справедливо приписаны Аристотелю. Они утверждали, что Аристотель считал душу материальной и, следовательно, смертной сущностью, действующей при жизни только под властью всеобщего разума. Поэтому александристы отрицали, что Аристотель считал душу бессмертной, поскольку считали, что Аристотель рассматривал душу как органически связанную с телом, и распад последнего влечёт за собой исчезновение первого. Поскольку Писание открывает, что Бог сделал душу бессмертной, утверждал Помпонацци, мы тоже можем принять бессмертие души как истину и, таким образом, выйти за пределы разума, но на то и существует теория двух истин. Эта дискуссия оказала влияние на позднейшего философа Чезаре Кремонини в 1591–1631 годах, чья приверженность Аристотелю привела к противоположному выводу о смертности души. В ходе длительных споров и преследования со стороны церкви, Помпонацци (спасенный однажды своим учеником Пьетро Бембо, ставшего кардиналом), в конечном итоге был прижат к стенке и по слухам покончил жизнь самоубийством. Кроме этого спора о душах, Помпонацци опубликовал трактат «О максимальном и минимальном», полемизируя с теориями Уильяма Хейтсбери, а также затронул множество других вопросов. В 1520 году мантуанский врач Лодовико Паницца спросил Помпонацци, могут ли существовать сверхъестественные причины природных явлений, вопреки утверждениям Аристотеля, и следует ли признать существование демонов, как утверждает Церковь, в том числе для объяснения многих произошедших феноменов. По словам Помпонацци,
«Мы должны объяснять эти явления с помощью естественных причин, не прибегая к демонам… смешно отвергать очевидное ради поиска того, что не является ни очевидным, ни достоверным». С другой стороны, поскольку интеллект воспринимает чувственные данные, чистый дух не может оказывать какое-либо действие на нечто материальное: духи не могут вступать в контакт с нашим миром. «На деле существуют люди, которые, действуя при помощи науки, произвели эффекты, неправильно понятые, из-за чего их считали деяниями святых или магов, как это случилось с Пьетро д’Абано или с Чекко д’Асколи… другие, считаемые святыми простонародьем, полагавшим, что те имели отношения с ангелами… могли быть просто мошенниками… я думаю, что они делали всё это, чтобы обманывать ближних».
Но, помимо случаев непонимания или злого умысла, возможно, что удивительные явления имеют свою причину во влиянии звёзд: «Абсурдно думать, что небесные тела, управляющие всей вселенной… не могут производить эффекты, которые сами по себе ничтожны, если рассматривать их в масштабе всей вселенной». Причины — естественные, впрочем, по науке того времени: астрологический детерминизм управляет даже религиями. «Во времена идолов не было ничего более позорного, чем крест, а в последующую эпоху нет ничего более почитаемого… теперь исцеляют недуги знаком креста во имя Иисуса, тогда как прежде этого не происходило, потому что не пришёл Его час». Каждая религия имеет свои чудеса, «подобные тем, о которых читаем и вспоминаем в законе Христа, — и это логично, потому что не может быть глубоких преобразований без великих чудес. Но они не чудеса в смысле противоречия порядку небесных тел, а лишь потому, что они необычны и крайне редки». Следовательно, ни одно явление не имеет неестественных причин: астролог, постигший природу небесных сил, может как объяснить причины явлений, кажущихся сверхъестественными, так и совершать необыкновенные действия, которые простолюдины сочтут чудесами лишь потому, что не способны распознать их причину. Невежество толпы, впрочем, используется политиками и священниками, чтобы держать её в подчинении, представляясь ей как люди исключительные или даже посланные самим Богом. Кроме того, Помпонацци поддерживает свою позицию рассуждением такого рода: «Если Бог создал вселенную, установив для неё точные физические законы, было бы парадоксом, если бы он сам действовал против этих законов, прибегая к сверхъестественным событиям вроде чудес». Для Помпонацци, собственно, вселенная управляется и определяется действием звёзд, а Бог действует косвенно, приводя в движение именно их; таким образом, Помпонацци развивает детерминистическое представление о вселенной.
Если таковы силы, управляющие миром, если даже сверхъестественные явления находят объяснение в существовании столь могущественных природных сил, существует ли ещё свобода в индивидуальных выборах человека? В Боге знание и причина вещей совпадают, и потому он действительно свободен; человек же выражает себя в мире, где всё уже предопределено. Отвергнув контингентизм Александра Афродисийского, который спасает человеческую свободу, критикуя стоиков, для которых не существует ни случайности, ни человеческой свободы, Помпонацци, в силу своей строго детерминистской концепции, где всё регулируется природными силами, превосходящими человека, вынужден склоняться к невозможности свободной воли и присоединяется к стоикам: «…вопрос этот для меня чрезвычайно труден. Стоики легко избегают трудностей, заставляя акт воли зависеть от Бога. Поэтому стоическое мнение представляется весьма вероятным». В христианстве труднее разрешить проблему свободной воли и предопределения:
«Если Бог изначально (ab aeterno) ненавидит грешников и осуждает их, то невозможно, чтобы он не ненавидел и не осуждал их; а те, кто так возненавижен и отвержен, не могут не грешить и не погибнуть. Что же остаётся тогда, как не величайшая жестокость и божественная несправедливость, и ненависть, и богохульство против Бога? И это положение куда хуже стоического. Стоики ведь говорят, что Бог поступает так потому, что необходимость и природа заставляют его. Согласно христианству же, рок зависит от злобы Бога, который мог бы поступить иначе, но не хочет, тогда как по мнению стоиков Бог поступает так, потому что иначе не может».
При всем при этом особые нематериальные существа он таки признает, вопреки тому, как часто его рисуют материалистом, а в этике предлагает и вовсе традиционный консерватизм. В связи с тем, что душа смертна, то, по мысли Помпонацци, нравственность не только не исчезает, а наоборот, становится собственно нравственностью. Ибо нравственность, которая строится в надежде на посмертное воздаяние, является не нравственностью, а некоторой формой эгоизма, надеждой получить за свой поступок воздаяние. Нравственность может быть только тогда нравственной, когда она ни на что не рассчитывает. Нравственность есть поступок добродетельный, направленный на самое добродетель. Поэтому вера в бессмертие души не только не утверждает нравственность, а наоборот, отрицает её, и Помпонацци, отрицая бессмертие души, считает, что утверждает высшую нравственность. И тем не менее, это было ближе всего к оригинальному аверроизму, на фоне разложения школы в начале XVI века.
К Падуанской школе также относят врача и анатома Габриэле Зерби (1445-1505). Будучи профессором университетов Болоньи и Падуи, он пережил опустошительную эпидемию бубонной чумы 1477-1479 годов в Северной Италии. С 1483 по 1494 год Зерби жил в Риме (возможно, и в тесном общении с Римской академией), но о его академической карьере в этот период известно немного. После Рима он вернулся в Падуанский университет в качестве вечернего преподавателя с 1494 по 1505 год. Летом 1499 года Зерби начал заниматься врачебной практикой в Венеции. Его первая работа «Questions metaphysicae» (1482) представляла собой комментарий к «Метафизике» Аристотеля. Он же автор первого печатного трактат по гериатрии «Геронтокомия» (1489) в форме практического руководства, где обсуждались вопросы ухода за пожилыми людьми и их лечения. В ней рассматривались такие темы, как диета, оптимальные условия жизни, полезные лекарства и способы обеспечения физического благополучия пожилых людей. «De cautelis medicorum» (1495) – текст, посвящённый этическим нормам, которым должен следовать практикующий врач. В нём рассматривались вопросы внешнего вида врача, гигиенические привычки и предпочтительные духовные убеждения. «Liber anathomie corporis humani» (1502) – последнее опубликованное сочинение Зерби; оно охватывало большую часть его работ по анатомии. Зерби был ярым сторонником медицинской этики и выдвинул шесть категорий правил, которых должны придерживаться все врачи.
- Правила для течения учения и усовершенствования врача, сообразно с врожденными расположениями души и тела.
- Обязанности врача перед Богом.
- Рекомендации по приобретенным склонностям и общему поведению.
- Правильное отношение к пациенту.
- Правила отношения к семье пациента и другим лицам, принимающим участие в уходе за ним.
- Регулирование отношений врача с общественностью.
Зерби приобрёл значительную часть своих знаний по анатомии человека, препарируя различных животных, поскольку человеческие трупы были редкостью. Он также был одним из первых врачей, разделивших органы на системы и сосредоточивших своё внимание на почках. Он обнаружил, что вены не входят в почки, а достигают лишь их периферии. Зерби выдвинул гипотезу, что почки действуют как фильтр, фильтруя жидкость перед её попаданием в мочевой пузырь, в то время как другие врачи сомневались в этом. Из врачей, более похожих на радикальных аверроистов, можно назвать Алессандро Ахиллини (1463-1512). Он известен своими анатомическими исследованиями, которые он смог опубликовать благодаря указу XIII века, предположительно императора Фридриха II, разрешающему препарирование человеческих трупов, и которые ранее стимулировали кумила Алессандро, анатома Мондино де Луцци (ок. 1270–1326) из Болоньи. Алессандро прославился как преподаватель медицины и философии в Болонье и Падуе, где его называли вторым Аристотелем. Во время своего пребывания в Болонье Ахиллини, как считается, сыграл ключевую роль в пробуждении интереса к номинализму Оккама. Степень поддержки Ахиллини трудно оценить, но считается, что он и его современники по университету инициировали кратковременное возрождение Оккамизма, что нашло отражение в более поздних работах его учеников.

Поздний итальянский аверроизм
Итак, стало ясно, что к 1480-1510 гг. аверроизм в Италии вступил в кризис. Мало того, что начались прямые запреты в Падуе, так ещё и на V Латеранском соборе в 1513 аверроизм был снова официально осужден Церковью. Последний бой, который дал Помпонацци, был, по сути, проигран. Таланты вроде Алессандро Ахиллини (Акиллини) — уже померли. Хотя даже если бы история закончилась на этом, продержаться 250 лет вполне неплохой результат для любой школы. И все же, на этом история не закончилась. Кстати, пока мы сосредоточили всё внимание на Северной Италии, аверроисты давно уже пустили корни в Южной, особенно в Салерно, где издавна существовала авторитетная медицинская школа, и раньше всего в Европе начались переводы арабских текстов. А где Салерно, там и Неаполь. Как и его более известный современник Помпонацци, неаполитанский философ Симоне Порцио (1496-1554), был преподавателем медицины в Пизе (1546-1552), а в более поздние годы оставил чисто научные исследования ради размышлений о природе человека. Его философская теория была идентична теории Помпонацци, чью «De immortalitate animi» он защищал и развивал в трактате «De mente humana». По легенде, когда он начинал свою первую лекцию в Пизе, он открыл метеорологические трактаты Аристотеля. Аудитория, состоящая из студентов и горожан, прервала его криком Quid de anima (Мы хотим послушать о душе), и Порцио был вынужден сменить тему своей лекции. Он исповедовал самый открытый материализм, отрицал бессмертие во всех формах и учил, что душа человека однородна с душой животных и растений, материальна по своему происхождению и неспособна к отдельному существованию. При таком-то радикализме, философии он обучался первоначально у весьма консервативного Агостино Нифо.
Сам же Агостино Нифо какое-то время преподавал в Неаполе, и получил в этом городе звание почетного гражданина, с правом передачи своим детям и всем последующим потомкам. Помимо Порцио, среди учеников Нифо в университете Салерно были Тиберио Росселли (1490-1560) и более взрослый студент Марко Антонио Зимара (1460-1532). Этот последний родился в южной Италии, прошел обучение в Падуе одновременно у Помпонации и Нифо, а в последние годы жизни преподавал в Салерно (1518-1522), Неаполе (1522-1523) и снова в Падуе (1525-1528). Зимара редактировал работы средневековых философов (особенно Альберта Великого и Жана Жанденского), а также редактировал и писал комментарии к Аристотелю и Аверроэсу. Его труд «Tabula dilucidationum в dictis Aristotelis et Averrois» (1537) стал основным научным инструментом для изучения работ Аристотеля и Аверроэса. Задачу обобщения философского учения аверроизма он решил в трактате «Рассуждения», который можно считать первым новоевропейским метафизическим трактатом — не комментарием, эпитомой или парафразой к Аристотелю или кому-либо еще, — а полноценной книгой, обладающей относительно систематической формой. Так рождался новый стиль философского письма. Содержание трактата составляет учение Аристотеля-Аверроэса, которое сведено к 129 лаконичным тезисам, так или иначе обнаруживаемым в сочинениях этих авторов. Большую же часть трактата занимают рассуждения (лат. disputationes) Зимары об этих тезисах, в которых он старается установить точный смысл каждого суждения, отсылки к авторитетным текстам, а главное — доказывающие эти тезисы аргументы: ими он пытается подвести некий баланс.
Трактат Зимары имел большой успех, выдержал в XVI в. шесть изданий и стал одним из манифестов позднего аверроизма, с которым увлеченно спорили мыслители второй схоластики (Д. Мас, П. да Фонсека, Фр. Суарес). Зимара основательно и, судя по всему, довольно успешно решил тактические задачи, стоявшие перед аверроизмом: он сохранил единство и актуальность этого направления, успешно сочетая как традиционные, так и новаторские методы его репрезентации. Однако сущность аргументации Зимары по-прежнему сводилась к неоспоримости авторитета Аверроэса и в условиях его радикального отрицания не могла сыграть решающей роли в решении стратегической задачи, стоявшей перед аверроизмом, — восстановлении влияния на медицинский факультет. А цель эта становилась заведомо неосуществимой: критика древней медицины подорвала доверие не только к арабам, но и к грекам. Соглашались принять авторитет Гиппократа как «основателя», но уже у Галена находили многочисленные ошибки и противоречия, не говоря уже о более поздних писателях.
Попытку переломить ситуацию в 1550-1560 гг., во время оживления дискуссии о природе логики, предпринял профессор искусств из Салерно аверроист Иероним Бальдуино. Сведений о жизни этого человека почти нет, судя по всему, он выдвинулся в середине XVI в. в ходе антидетерминистской полемики, ставшей самым уязвимым местом доктрины аверроистов. Его рассуждения сочли интересными, и собрание его трудов было издано в 1562 г. в Венеции, в типографии Падуанского университета, где аверроисты еще сохраняли свой авторитет. Интересующее нас рассуждение Бальдуино, с одной стороны, весьма тонко связывает ключевые аспекты полемики против аверроистов, а с другой — дает на них такой ответ, который приводит к мысли о необходимости аверроизма.
В основе всякой науки лежит метод, в основе всякого метода — рациональная практика анализа, а описание рациональных практик анализа дает логика. Поэтому «логика — это наука наук и искусство искусств, содержащее в себе основы всякого исследовательского подхода»: это определение логики, данное еще Петром Испанцем и Буриданом, всегда сохраняло для схоластики — в том числе и для схоластической медицины — ключевое значение. Но медикам нужна не вся логика, а лишь подходящий к их целям раздел, учение о категориях, на основе которого можно было бы строить классификации и определения. Любое такое учение восходит в конечном счете к «Категориям» Аристотеля, следовательно, необходимо определить статус данного трактата. «Категории» всеми признавались логическим текстом и трактовались в курсе диалектики как введение в основную проблематику «Органона». Бальдуино оспаривает этот тезис; он выдвигает вопрос: является ли книга «Категории» частью логики или метафизики, и отвечает, что «Категории» — трактат метафизический и к логике, рассматриваемой как особая наука, отношения не имеет. Его аргументация очень проста:
- десять категорий, о которых говорится в книге Аристотеля, являются реальными свойствами сущего, поэтому не могут рассматриваться только как конструкты ума, а значит, не относятся к собственно логике;
- поэтому они не имеют того инструментального значения, которым обладают логические конструкты: категории скорее предмет познания, чем его орудия;
- да и сам Аристотель указывает на категории как на характеристики экстраментального сущего;
- а таковое является предметом метафизики, должно рассматриваться в курсе философии и, стало быть, подлежит толкованию на основе комментариев Аверроэса.
Попытка Бальдуино оказалась безуспешной — слишком далеко зашел процесс отчуждения медицинского факультета от аверроизма и форм схоластики, на повестке дня стоял вопрос о проверке сведений античных полигисторов, у которых заимствовал информацию и сам Аверроэс. Дискуссия продолжения не имела — аверроисты вынуждены были принять сложившееся положение вещей. Бальдуино проходил свое обучение не только у аверроистов Салерно, но вообще посещал лекции и в Падуанском университете. Тогда там преподавали или учились такие мыслители, как Маркантонио де Пассери (1491-1563), Бернардино Томитано (1517-1576) и Спероне Сперони (1500-1588). Первый из них писал комментарии к Аристотелю и пытался продемонстрировать полное совпадение идей Аверроэса и Симплиция в учении о единстве интеллекта. Второй был другом всех крупных венецианских гуманистов своего времени (в т.ч. Пьетро Бембо), учавствовал в создании литературной академии в Падуе, и хотя он был врачом и изучал философию у аверроистов, но сам не замечен за интересом к философии, и больше предпочитал поэзию и врачебную практику в Венеции. Третий же, Сперони, и вовсе был поэтом и драматургом, хотя после того, как в 1518 году он окончил Университет Падуи и вступил в гильдию художников и врачей, то начал читать в Падуе лекции по философии, прервав это занятие ради того, чтобы учиться в Болонье у Пьетро Помпонацци, но после смерти последнего вернулся в Падую. Будучи членом Академии изящных искусств и другом Торквато Тассо, он руководил переработкой «Освобождённого Иерусалима». Сперони написал книги о риторике, о правах женщин, о любви, о чрезмерном предпочтении латыни, о Данте, об «Энеиде» и «Неистовом Роланде», а также несколько собственных трагедий. Известными членами и сотрудниками «Accademia degli Infiammati» в Падуе были, кроме Спероне Сперони, ещё и Бенедетто Варки, Пьетро Аретино, Джироламо Прети, Луиджи Аламанни, Уголино Мартелли, Алессандро Пикколомини и Анджело Беолько (эль Рузанте).
И вот в такой культурной обстановке изучал философию как аверроист Бальдуино, так и его противник и критик, Джакомо Дзабарелла (1532-1589), с учением которого Падуанский аристотелизм достиг своего наивысшего расцвета. Дзабарелла был автором «Opera logica» и «De rebus naturalibus XXX libri», трактовавших главным образом о методе наук и, вероятно, вдохновивших самого Галилео Галилея. Он обосновал автономию сферы естественных наук и развил инструментальное понимание логики в систему своеобразного прагматизма. Он является последним представителем сторонников Аристотеля-Аверроэса, с которым считались по обе стороны Альп, и философия которого ещё долгое время пользовалась авторитетом в Германии. В логике Дзабарелла связывал традиционную дедуктивную логику и методологию науки. В психологическом учении примыкал к Александру Гэльскому. Утверждал, что невозможно доказать бессмертие души, и в своем сочинении «De inventione aeterni motoris» утверждает, что к существованию перводвигателя можно прийти не иначе, как допуская вечность движения.
Также среди тех, кто дальше развивали учение Аристотеля, находился и естествоиспытатель Андреа Чезальпино (1519-1603), придворный папский лекарь, ученый, который открыл закон кровообращения (ещё до Гарвея). Директор ботанического сада в Пизе, он прославился как один из первых крупных систематизаторов растительного мира, который не просто вторил Аристотелю и другим древним, а пытался предложить что-то новое, с учетом накопленных данных. По словам одного из его врагов, идеи Чезальпино пользовались такой широкой известностью, что не только в Италии, но даже в Германии внушали к себе большее уважение, нежели изречения дельфийского Аполлона у греков. В истории философии установился тот взгляд, что Чезальпино преобразовал аверроистический аристотелизм в пантеизм. Никколо Таурелло, профессор Альтдорфа, в своей книге «Альпы Кезае» (1597) обвинил Чезальпино в отождествлении Бога и природы; английский теолог Сэмюэл Паркер обвинил его в атеизме. А Пьер Бейль в своём «Историческом и критическом словаре» считал его предшественником Спинозы. Своё философское учение он изложил в труде «Quaestiones peripateticae» (Венеция, 1571; ко 2-му изданию, 1593, присоединён другой философский трактат — «Daemonum investigatio peripatetica»). При этом в психологии он является чистым спиритуалистом. Духовное начало человека резко различается им от душ других живых существ. Только человек обладает разумной, мыслящей и бессмертной душой. Действия его души независимы от тела; причинной связи здесь не существует. Соединяя все отдельные члены тела в гармоническое единство, душа является формой для тела. Не локализируясь ни в одной из частей последнего, она лишь проникает его собою. Если уже непременно желательно говорить о её седалище, то эта роль всего скорее может быть приписана сердцу, источнику движения и деятельности всего организма. Здесь средоточие нашей чувственности. Чувственные образы, воспринятые нашей душой, не имеют пространственного протяжения. Познавая единое во всех вещах нашего внешнего опыта, а вечное и божественное начало — в нас самих, в недрах собственной духовной субстанции, мы приобщаемся к истинному блаженству Божества, которое, однако, лишь тогда станет нашим совершенным и неотъемлемым достоянием, когда в акте смерти наш интеллект отрешится окончательно от чисто человеческих черт своей деятельности и вступит в состояние чистого о себе бытия. Такими чертами характеризуется психология Чезальпино. Допуская чудеса, как акты специального проявления Божества в мире естественных явлений, Чезальпино решительно отвергал веру в тёмные силы природы, в магию и волшебство, столь распространённую в его время. И вот этого человека считали в свое время опасным атеистом! Правда, со всем этим бредом у него сочетается признание атомизма в плане строения материи (которая тем не менее всё равно является частью Целого, одушевленной Вселенной).
Но дела аверроистов уже шли плохо, активные критики Дзабареллы, среди которых выделялся Франческо Пикколомини (1523–1607), приобретали всё больше влияния в университете. Так, Пикколомини был старшим профессором естественной философии в Падуанском университете с 1560 по 1598 год, перейдя туда с предыдущих профессорских должностей в университетах Сиены, Мачераты и Перуджи. Его самая известная работа, «Universa philosophia de moribus» («Всеобъемлющая философия морали»), систематизирует и расширяет труды Аристотеля по этике и политике. Это был аристотелик, но уже совсем не аверроист. Его усилия были сосредоточены на формулировании синкретической теории между аристотелизмом и платонизмом, направленной на попытку примирения Аристотеля и Платона в этико-политической сфере. В свое время Пикколомини был одним из самых почитаемых профессоров философии в Италии и самым высокооплачиваемым в Падуе. Торквато Тассо называл его «настоящим морем и океаном всякой учености». Понятно, что и сам Пикколомини, будучи аристотеликом, вскоре должен был подвергнуться мощной критике философов Нового времени. Но если даже он начал вытеснять аверроизм, то не трудно понять, что к началу XVII в. он окончательно изжил себя в связи с общим кризисом аристотелевской физики и космологии. Окончательно кризис добивает это учение около 1580-х годов, спустя 380 лет после смерти самого Ибн Рушда. Некоторые аверроисты ещё и позже, в XVII веке оставались преподавателями в Падуе, служившей своеобразным заповедником, где ещё можно было найти обломки прежних влиятельных течений мысли. Но обычно «последним схоластом», вслед за Э. Ренаном, называют Чезаре Кремонини, прославленного своим страхом перед телескопом Галилея, хотя не стоит недооценивать значение Фортунио Личетти (1577-1657), последнего аверроиста в собственном смысле слова. В условиях полной дискредитации «арабской доктрины» он нашел для нее место в системе новых научных интересов: латинский аверроизм возвратился к своему началу, явившись обоснованием ноологии и учения о бессмертии чистого разума. Но как и Кремонини, Личетти тоже запомнится фанатичным сторонником Аристотеля, который ополчился против Галилея и всех остальных ученых, рушащих привычную для аверроистов картину мира, и ниспровергающих авторитет самого (!) Аристотеля.
Поздним продолжателем идей Помпонацци был Джулио Чезаре Ванини (1585-1619), а некоторое влияние всех этих идей также прослеживается в философии Джордано Бруно (1548-1600). Оба развивали своеобразные формы пантеизма, совмещенные с атомистическими идеями (но все же были радикальнее, чем Чезальпино, и напоминали классических аверроистов), оба активно критиковали схоластику, как и ученые Нового времени, и оба были убиты церковной инквизицией. Если выстроить их натуралистичность и близость к механистическому материализму слева направо, от самых слабых к самым выраженным, то этот ряд выглядит примерно так: Кузанский, Чезальпино, Спиноза, Бруно, Ванини. Из них всех Ванини был ближе всех к адекватности. Настолько, что современники часто называли его эпикурейцем. Но строго говоря ни Ванини, ни Бруно, уже не были аверроистами, это лишь последние представители, или скорее выразители того общего духа и направления мысли, которое поддерживали аверроисты прошлых веков, финальная точка, после которой уже начинается совсем другая материалистическая традиция.
Знакомство с падуанским аристотелизмом за рубежом произошло благодаря Джулио Паче (1550-1635), который распространил во Франции и Германии труды Дзабареллы. До эпохи издания Беккера (1785) можно утверждать, что знание Аристотеля за границей передавалось через падуанскую интерпретацию.
Использованные источники:
- Савинов Р.В. — «Поздний аверроизм: институциональный базис философского дискурса» (2016) — ссылка.
- Апполонов А.В. — «Латинский аверроизм XIII века» (2004) — ссылка.
- Гладков А. К. — «Был ли Марсилий Падуанский аверроистом? К вопросу об источниках политических идей в Западной Европе первой половины XIV века» (2018) — ссылка.
- Zdzisław Kuksewicz — «Maître Théodoric, averroïste d’Erfurt du XIVe siècle» (2003) — ссылка, но скачать можно на Sci-Hub и подобных ресурсах.
- Aurélien Robert — «Noétique et théorie de la connaissance chez Angelo d’Arezzo» (2008) — ссылка.
