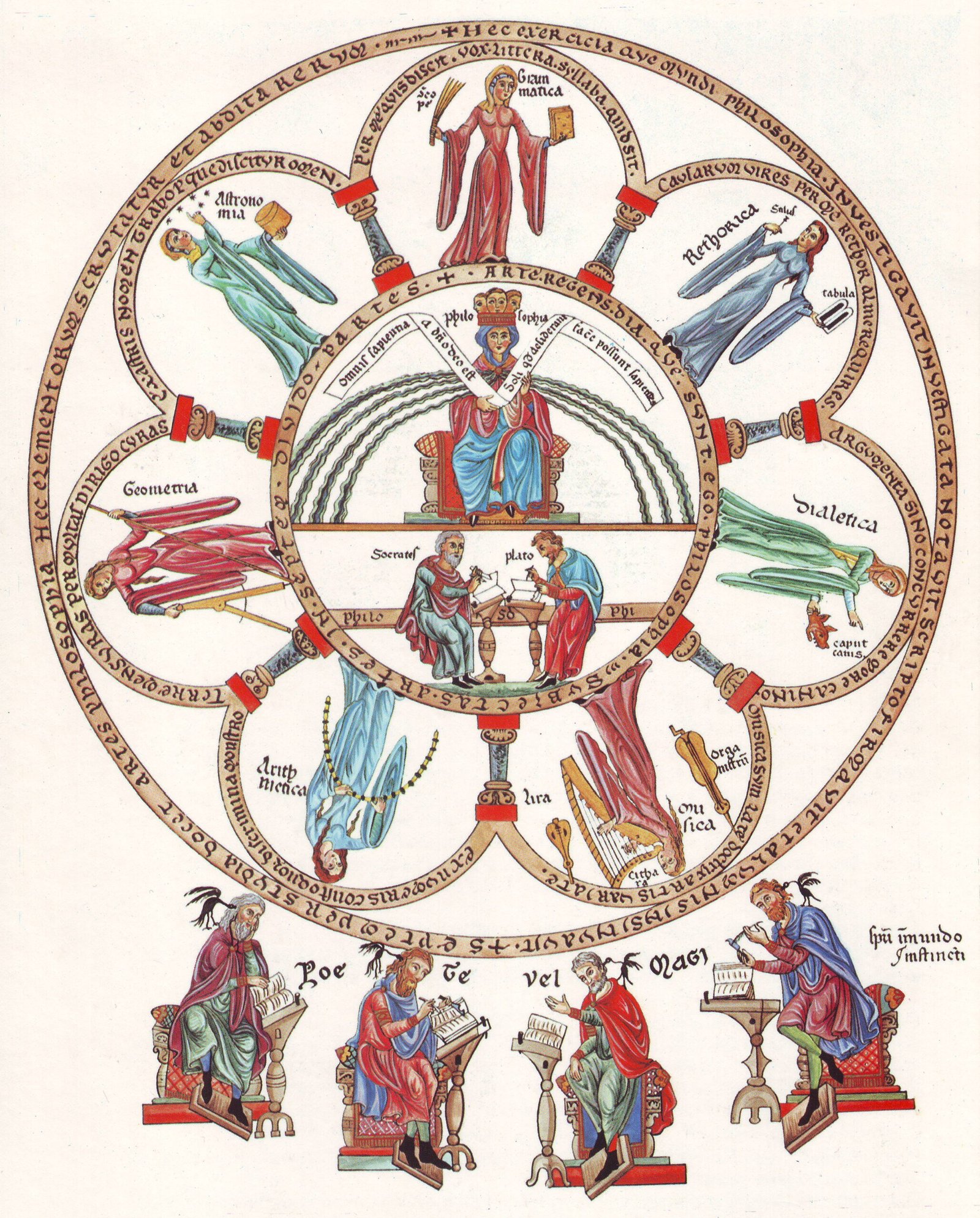
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Это серия заметок разного времени, написанных в 2023-24 гг. по разным вопросам философии.
Версия на украинском и английском языках
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
В очередной раз в комментариях телеграм-канала Марины Бурик случился всплеск идиотизма. Животные вида человек снова самоутверждаются, но уже не за счёт других животных, а за счёт машин. Поскольку машины не могут выходить за пределы своей программы, не могут ставить собственные цели и противоречить себе (!), то они не люди. Это очень глубокомысленно, просто взять реально существующие машины на данный момент и констатировать очевидный всем факт. Но когда говорят о том, что «человек-машина», и что мышление возможно реализовать при помощи аппаратуры, то всегда говорят о потенциальной возможности. И при этом опровергатели способностей машин никогда не говорят об этом, а говорят всегда про какой-то уже наличный примитив. Это примерно тоже самое, как если бы мы сказали человеку в XVI веке, что железная труба, из которой по бокам торчит ещё две трубы, даже без всяких перьев, не махая ими вверх-вниз — сможет полететь. Вам бы сказали, что это безумие, и сослались бы на природу органического мира, на тех же птиц. И это было бы верно, в моменте. Но совершенно ошибочно на перспективу.
Сам бы я сказал, что конечно дело не в том, что машины не противоречат себе и не ставят себе цели. Главная проблема скорее в двух других вещах: Во-первых, они не могут из своего опыта делать принципиально новых умозаключений, не могут перепрограммировать свою логику познания «на ходу». И во-вторых, что самое важное, они пока не способны обрабатывать столько же информации, сколько и мы, путем разделения ее на сотни автономных каналов (как например прямо сейчас происходит пищеварение или дыхание, которыми мы сознательно не управляем, и многое другое). Главная проблема машин в том, что они справляются с объемами при помощи мощности железа, в смысле скорости обработки данных. Но эти данные строятся в очередь и проходят через небольшое кол-во каналов, и каждую идею машина обрабатывает обособленно. Мы же, даже если говорить о банальном зрительном опыте, воспринимаем сразу все что видим, даже если не фокусируемся на этом и не думаем о чем-то конкретно. И все это мозг не отбрасывает для экономии, а тоже обрабатывает, при чем не по очереди, а сразу всё.
Иными словами, машины должны получить процессор, способный в такую же мультизадачность, как и мозг. А пока что мы двигаемся скорее к тому, чтобы ускорить те процессы, что машина и так уже выполняет. И не меняя сути её работы, меняем только форму обработки данных (усложняем цепочку последовательности обработки). Я, конечно, и сам тут сильно упрощаю и не являюсь специалистом. Но вместо того, чтобы работать в этом направлении или хотя бы думать о подобных альтернативах, «передовые борцы за все прогрессивное» просто констатируют, что Божественный Человек круче животных и круче машин.
См. также пост об этом: «Что значит быть петухом?» (2018).
О теории архетипов
Кстати, раз уж мы затронули одну важную тему о природе философии (см. конец этой статьи), и подвергли сомнению ее важность. И раз в другом месте можно увидеть, что адепты Бурик не просто преувеличивают значение философии, но даже говорят, что она буквально воплотилась в Гегеле и Марксе. То стоит сказать ещё немного и об этом. Пускай философия — это, как мы сказали, только история наших ошибок. Она уже поэтому необходима к изучению, чтобы ошибок снова не допускать. Но у нее есть и другие функции. И поэтому совсем отделаться от философии человечество не сможет, наверное никогда. И раз это так, то с ней придется считаться. Но прежде чем скажем об этих функциях, нужно разобраться с тезисом о вечном развитии и/или остановке. Остановка философии на Гегеле смешна даже не потому, что философия вечно развивается, ибо «должна» развиваться. Нет, все постулирования бесконечностей — не более чем наши домыслы. Нет никаких гарантий, что развитие будет бесконечно, и нет никакого «долга» у философии перед выдуманными нами «законами». Поэтому я согласен, что принципиальная остановка (т.е. «достижение истины») в некоторых вещах вполне возможна. Но в случае с философией, я и сам считаю, что она будет развиваться «бесконечно». Только это не совсем «развитие», и не совсем линейное, да и в принципе оно конечно, если конечным окажется существование разумного вида существ на Земле.
Но все таки, пока есть люди, будет и философия, и будут также постоянные споры между разными философами. Всё потому, что философия это порождение психологии, а разные люди склонны к разным вещам. Например, всегда будут романтики, всегда будут классицисты, всегда будут материалисты и верующие во что-то более высокое. И они будут спорить друг с другом, чье видение мира лучше/хуже. Это похоже на древние представления о темпераментах, или на сомнительную теорию соционики. Но какими бы упрощениями не были эти сомнительные концепты, в них есть доля правды, которую каждый из нас наблюдает каждый день. Люди типологизируются, даже сами для себя создают субкультуры и т.д. Создать совершенно одинаково воспитанных людей — невозможно.
А раз так, и раз уж разные люди создают разные мировоззрения, и в этой «разности» наблюдаются стабильные повторы — то можно выделить некие «естественные» типажи. Реальное существование этих типажей становится причиной того, что в истории философии существуют постоянно воспроизводимые позиции, несколько традиций мысли (их больше, чем две). Я часто в обиходе называю это словом «архетипы». И вот, в этом и заключается еще одна польза философии. Она позволяет обнаружить свой архетип на каждом этапе истории, и это помогает нам быстрее пройти этапы становления в том амплуа, к которому мы более склонны. Чтобы не изобретать все с нуля, современный платоник может открыть Платона, или Декарта, и сэкономить массу времени.
Все-ли архетипы равны между собой? Я так не думаю. Но даже если удастся доказать, что только один набор идей единственно верен — это не отменит того, что люди будут чувствовать по разному, и будут отстаивать свою картину мира. И поэтому невозможно представить, чтобы даже высказавший истину человек — «окончательно» закрыл все споры. Но сохранять свой «архетип» и передавать традицию потомкам, это все равно вещь полезная. И последнее. На вопрос, почему количество традиций мысли никогда не превышает десяток, хотя люди могли бы создавать куда больше комбинаций из разных идей, я отвечу, что все дело в последовательности. Не все идеи могут соединяться достаточно непротиворечиво, чтобы не ощущать себя дураком (а никто не хочет такого для себя). Поэтому люди стараются создавать хотя бы в первом приближении разумные системы взглядов. Фундаментальных вопросов не так уж много (и чаще всего есть только два варианта их решений). Это уже сильно ограничивает кол-во возможных комбинаций. В своей истории люди пытались создавать разные комбинации, но по итогу самыми устойчивыми оказываются всего несколько, они и становятся классическими образцами, или архетипами.
Это также просто понять, как и то, что разные люди, живущие в разных условиях, с разной флорой и фауной, никак не связываясь друг с другом — изобрели похожие орудия труда, похожие промыслы, похожее боевое оружие. Если идет дождь, люди по всему миру изобретали крышу и водоотвод. У нас у всех одинаковые потребности, у всех одинаковые инструменты (руки, ноги, зубы и т.д.), и поэтому выходят очень похожие результаты. И также у нас у всех одинаковые средства познания (органы ощущений и мозги). Удивительно-ли, что люди создают, хотят того или нет, крайне сходный и постоянно повторяющийся набор умственных продуктов?
См. также пост об этом: «Зачем нужна философия?» (окт. 2023).
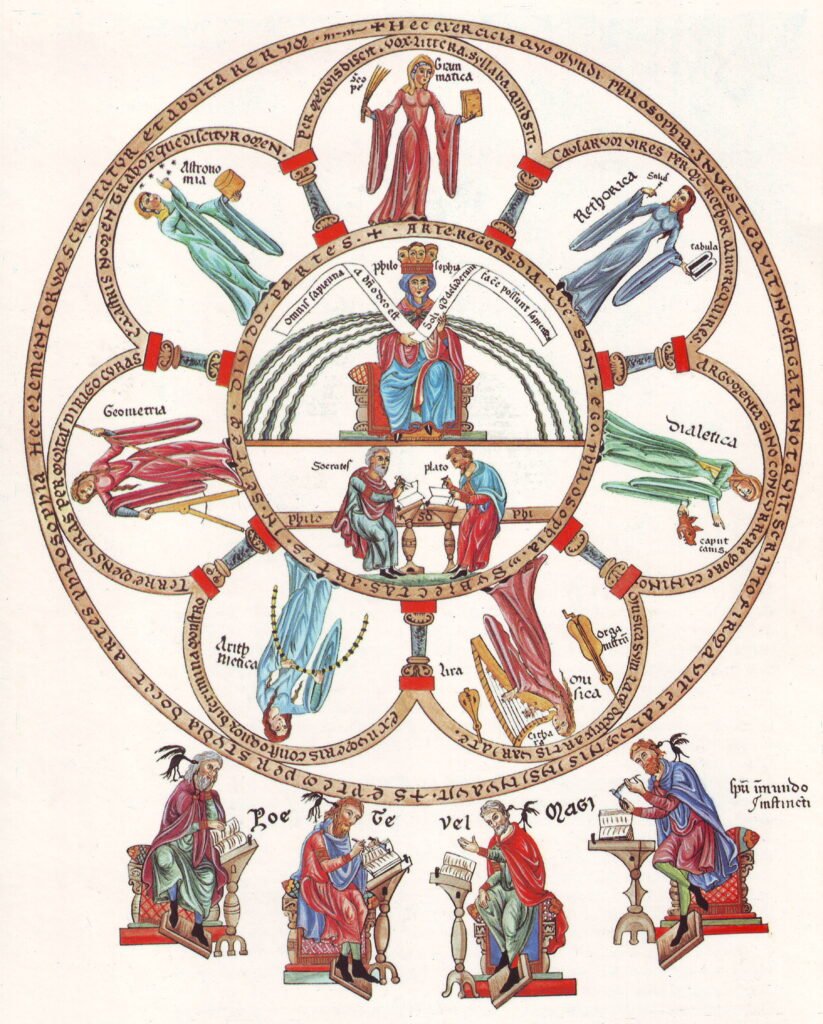
Если теория философских архетипов, которую я разрабатываю, действительно работает, то совсем не трудно понять, как в СССР возможно было развитие сугубо идеалистической философии при формальном соблюдении всех догматических нормативов. Если люди не отрефлексировали философию именно в таком смысле, то они руководствуются скорее своими базовыми интуициями, и вокруг них заново выстраивают свой «архетип». Совершенно бессознательно. Люди реально могут верить, что они марксисты (ведь они выросли в среде, где любой «немарксизм» — априорно порочен, а они же хорошие люди, не какие-то уроды). Но также, как и в любом другом обществе — для некоторых было крайне важно сохранить все «светлое и возвышенное», все «тонкое и глубокое», в том числе и свою особенную душу во всей ее специфике. В том числе важно было и защищать право на радость быть человеком, неким особенным существом на фоне всех других известных существ. Эта интуиция прорывается вне зависимости от того, живёшь ты в СССР или в древней Греции. И ей могут противостоять также и всякие скептики. Отличаться в этих спорах будет только форма, только слова, которыми та или другая позиция отстаивается. Поэтому и в строгом монашеском ордене средних веков всегда находится кто-то, кто зачем-то таки перепишет Лукиана, или пердежную шутку Аристофана, благодаря чему они сохранились до наших дней. Сохраняя все благопристойности, всю формальную преданность христианству, разные группы могли защищать как суровый аскетизм, так и плотские наслаждения. Как строгий индивидуализм, так и формы утопического социализма.
Поэтому сам факт существования «ильенковцев», «деборинцев», «механицистов» и «богостроителей» — скорее иллюстрирует, что теория архетипов работает, как и должна работать. Что если ниша освобождается, то ее обязательно займут новые люди, которые просто переформулируют старую позицию (см. социологию философии Р. Коллинза). Единственное, что мне в этом не нравится, это то, что мы реально к этому приспосабливаемся, как к некой внешней силе (хотя скорее она внутренняя), вместо того, чтобы взять судьбу в свои собственные руки. Вместо того, чтобы осознать эти типажи, их реальные предпосылки, и оценить сначала сами предпосылки, а только потом уже все то, что над ними выстраивается в качестве оправданий. И вместо всего этого мы предпочитаем блаженное неведение и наивность.
См. также посты: «Ильенков и философы СССР: кантианство под маской марксизма» (2023),
«Идеальное и материальное, или Про идеалистическую сущность марксизма» (2024),
«Диалектика Гегеля и её скрытая метафизичность» (2023),
и «Заметки о субъективной и объективной диалектике» (2023), особенно вторую половину последней.
Что такое философская жизнь?
Наткнулся на такой вопрос в интернетах. И действительно, вопрос настолько же сложен, насколько и аналогичное «что такое философия»? Я ещё нигде не отвечал на этот вопрос прямо, и сейчас тоже не намерен этого делать, потому что дело это ответственное. Но кое что сказать всё таки хочется. Попытаемся очень сжато уложиться в один небольшой пост. Скажу сразу, что я не думаю, будто философия это про язык, категорически нет. Не все философы занимались филологией, логикой высказываний и т.д., и если сейчас это модно, то это ещё ничего не значит. Я не считаю, что какие-то трикстеры по типу киника Диогена, или Будды, или даже Иисуса — не философы, только потому, что не занимались тем, что любо современным «философам». Нет, всё это философы, просто философы другого типа. Вопросы языкознания — это только один из разделов философии, а любовь к логическим построениям — один из ее (философии) архетипов. Но этот архетип не единственный, и не факт, что он самый главный. Но этот пост не про теорию архетипов. Так что попытаюсь сказать, что такое «философская жизнь» с моей точки зрения (по крайней мере на сегодняшний день). Философский типаж, архетип — в каком-то смысле говорит о стиле жизни.
Поэтому философская жизнь — это жизнь в соответствии с одним из типичных «стилей».
Вся проблема только в том, что стилей много, а мы всегда хотим, чтобы правильным считался только один. Оттуда и вечные споры про самое истинное определение философа. Но это только первое приближение к вопросу, первые ступеньки. С моей личной точки зрения философская жизнь — это ещё и про постоянное преодоление собственной логики. Т.е. философская жизнь — это воплощенная диалектика. При чем имеется ввиду не марксизм и не Гегель, которые как раз пытались диалектику формализировать, и тем самым омертвить и превратить в учение о словах, категориях и т.д., чтобы применять ее как «метод». Суть же диалектики банальна, и ее часто так и воспринимают, как аналог суждения: «всё в мире сложно и переплетено». Быть диалектическим человеком, это значит сохранять постоянство, и при этом постоянно преодолевать себя.
Аскетизм и прочие классические практики в философии, как раз об этом, это про преодоление в себе страстей, про попытки взять свои «инстинкты» под контроль. Они воспитывают в нас безразличие, пофигизм ко всему «внешнему» и переоценку своих потребностей и возможностей. И практически все философы в истории достигают такого пофигизма, что по сути убивают в себе человеческое. В истории философии почти каждый, кто достиг такого уровня, что обычные человеческие представления и эмоции становятся чем-то внешним, примитивным и чужим — считаются философами (это даже не моя выдумка). Но я бы всё таки добавил, что настоящий философ тот, кто после этого возвращает себе человеческое обратно.
Т.е. философская жизнь, это смерть и воскресение, перерождение человека, отрицание отрицания. Процесс.
Какой при этом выбран архетип «нечеловеческой» жизни — не важно. Это может быть и модель Будды, и модель книжного червя, и поведение бомжа, и поведение ученого. Главное здесь, постоянное преодоление «общественного/человеческого», и постоянные попытки вернуть себе это, но уже с осознанием «другой стороны» медали (два типа преодоления). Тот, кто не прочувствовал всей полноты отчуждения от мирской жизни, имхо, не может считаться философом. Но не менее гибок и тот, кто после этого отчуждения посчитал, что его элитарный эгоизм и презрение к «нормисам» — достаточен. Это ловушка такого же ограничения, только уже не «естественными» законами, а выдуманными в рамках твоего архетипа («искусственными»). Философ же — человек свободный, он сам себя ограничивает и сам себя раскрепощает тогда, когда это нужно. Он не может быть в рабстве тех или иных «законов» на постоянной основе. Но это мое понимание. Обычно всегда считалось, что достаточно освобождения только от естественных, «животных» законов, диктующих нам поведение (т.е. тот же «стиль проживания жизни»). Но как по мне, рамки искусственных представлений о «философии как таковой» — не менее вредные рамки.
См. также: «Зачем нужна философия?» (окт. 2023).
