Перевод статьи по испанскому материализму, как выглядят вехи развития направления с точки зрения современных последователей «философского материализма» Густаво Буэно.
Публикуется скорее только из-за интересных анти-материалистических цитат.
Оригинал на испанском и версия на украинском.
Способ понимания того, что такое материя, определяет различные способы восприятия и организации реальности, зачастую антагонистические и непримиримые между собой, со своими идеологическими последствиями в философской, научной, теологической и доктринальной сферах в целом. Здесь предлагаются тексты и ссылки, которые позволяют изучить, в эмпирико-хронологическом и также историко-диалектическом ключе, эволюцию понятия и конструирование идеи материи, запутанную последовательность доктрин, называемых материалистическими, и сам ярлык материализма, претендующий на всеохватывающий характер. Мы не ведём это из какого-либо «нигде», поскольку в этих вопросах невозможно претендовать на эклектизм, беспристрастность или нейтралитет. Мы подходим к этой задаче из систематических координат философского материализма, исходной точкой которого является книга «Материалистические эссе» (1972), где Густаво Буэно различает три различных рода определённой материи, и которая, например, вдохновляет статью «Материя», опубликованную в 1990 году на немецком языке в Европейской энциклопедии философии и наук. Поскольку систематизм не означает догматизм, наш способ понимания материи и материализма, а также переосмысления их истории всегда будет открыт к принятию более сильных анализов, приглашая к дискуссии всех, кому есть что сказать.
«Философский материализм, пожалуй, имеет с традиционными формами материализма лишь одно общее — отрицание спиритуализма, то есть отрицание существования духовных субстанций. Конечно, когда эти духовные субстанции определяются как нематериальные, мы мало продвигаемся в определении самого материализма, поскольку не делаем ничего, кроме как постулируем реальность неких нематериальных субстанций, но при этом заранее их не определяя. А если вместо того, чтобы определять духовные субстанции как нематериальные, их определить как бестелесные, то мы тем самым предполагаем, что материализм есть корпореизм — тезис, который философский материализм категорически отвергает, поскольку он допускает реальность материальных, но бестелесных сущностей (расстояние между двумя телами — несомненно, реальное отношение, столь же реальное, как и сами тела, между которыми оно устанавливается, но оно не является телесным, как не является и «мысленным»).
По этой причине философский материализм считает необходимым, чтобы разорвать этот порочный круг (духовная субстанция — это не материальная субстанция, а материальная — это не духовная), прибегнуть к третьей идее, а именно — к идее Жизни, определяя духовную субстанцию как бестелесную живую субстанцию. Тогда материализм в целом можно было бы определить как отрицание существования и возможности бестелесных живых субстанций. Это определение материализма позволяет включить сюда атомизм Демокрита; однако атомизм Демокрита — это корпореизм, поскольку он отождествляет бестелесное с не-бытием, с пустотой; поэтому философский материализм не имеет ничего общего с демокритовским атомизмом, возрождённым в XVII и XVIII веках в форме концепции, которая заблокировала развитие современной науки, особенно химии, которая смогла двинуться вперёд лишь после того, как «разбила» атом. Но помимо Демокрита, традиционный материализм развивался как материалистический корпореистский монизм — и это наиболее распространённая модель в XIX и XX веках (Бюхнер, Молешотт, Оствальд, Геккель, Маркс, Энгельс, Моно и др.). Философский материализм имеет очень мало общего с этим традиционным материализмом.»
(Густаво Буэно, Вера атеиста, Temas de Hoy, Мадрид, 2007, стр. 373.)
Слово materia уже присутствует в испанском языке в XI веке
Слово materia употребляется в испанском языке уже тысячу лет. Латинский термин, от которого оно происходит, обозначал нечто столь конкретное, как silva (лес) в качестве строительного материала (отсюда — madera, дерево), скорее чем как lignum, предназначенное для огня (отсюда — leño, полено, leña, дрова, madero, брус). Около 1090 года в Фуэрос де Вильявисенсио (Fuero de Villavicencio) устанавливается пошлина в три денария за каждый «karro de materia» («повозку с материей»), а около 1105 года донья Берта предоставляет епископу Эстебану, святому Петру Уэски и Хаки право «рубить дрова, деревья, собирать жёлуди и траву» в горах Агуэро. Но уже около 1223 года читатели Semejanza del mundo («Подобие мира») знают, что: «выпадение снега на влажную землю означает град, по той причине, что он образован в форме зёрен — такова его материя и природа вод», что «этот огонь, который мы называем молнией, сначала воспламеняет, сжигает и расщепляет, и потому это огонь, который проникает сквозь всё, чего касается, ибо он есть весьма тонкая материя, отличная от того огня, который мы употребляем», что «облака образуются, когда соединяются ветры и туманы в плотном воздухе — и это их материя и природа, откуда они образуются, когда ветры вращаются по воздуху», или что «по словам мудрецов, воздух — это вся пустая и лёгкая субстанция, которую человек видит от земли до неба, и это такая сущность, что не мешает зрению человека, и этот воздух отчасти принадлежит к небесной материи, в высотах которой не образуются облака». В те же годы Гонсало де Берсео пишет, что «хвала — это материя и голос радости», но также и: «двинемся вперёд, не медлим с этим, велико содержание, не будем много менять…», и в подобном духе:
«Как три Ипостаси и одна Божественность,
так и книги три — но истина одна:
книги означают святую Троицу,
а материя их — простая Божественность».
В первом словаре испанского языка — труде, ставшем новаторским среди аналогичных словарей на других новых языках, — его автор, лиценциат дон Себастьян де Коваррувьяс Ороско, уклоняется от прямого обсуждения того, что такое материя (в Tesoro de la lengua castellana o española, Мадрид, 1611), заявляя: «Materia — латинское слово: materia, или materies, то, из чего что-либо состоит. Всё остальное оставим философам». Хотя сам Коваррувьяс, уклоняясь от обсуждения того, что он признаёт уже абстрактной и философской идеей, не колеблется при определении некоторых связанных с ней понятий, которые язык постепенно оформлял на протяжении веков:
«Materias в науках — это различные темы; а в детских школах — примеры букв, которые учителя дают ученикам для подражания.
Materia в ранах — это гной, который из них выходит. Лат. pus, puris.
Materiales — это предметы, которые подготавливаются для какого-либо строительства или другого дела, которое должно быть выполнено, например: камень, кирпич, известь, дерево и т.п.
Material мы называем человека с малым умом и низкими помыслами».
Королевская академия испанского языка, основанная в 1713 году, использовала словарь Коваррувьяса, но прежде всего — то, что в испанском языке было записано отобранными авторами и текстами, впоследствии признанными языковыми авторитетами, при составлении своего первого академического словаря между 1726 и 1739 годами. В томе 4, на страницах 512-513, опубликованном в 1734 году, содержится результат этой работы по слову materia и смежным понятиям: двенадцать значений слова materia, пять — слова material и три — слов materialidad и materialmente. Но в 1734 году академики ещё не могли включить в свой словарь слишком современные термины, такие как materialista (материалист) или materialismo (материализм).
«Материалист» появляется в XVII веке, «материализм» — в XVIII
Автор первой специфической истории материализма, Фридрих Альберт Ланге, утверждал в 1873 году, что слово материализм появилось лишь в XVIII веке, в идеологическом контексте, унаследованном от Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), которого, впрочем, он не признаёт восстановителем античного материализма после средневекового перерыва:
«По случайному стечению обстоятельств слово материализм появилось только в XVIII веке; доминирующая идея этой системы исходит от Бэкона, и если мы не называем этого философа подлинным возродителем материализма, то потому, что он сосредоточил всё внимание на методе и выражался двусмысленно и осторожно в самых важных вопросах; научное невежество Бэкона, в котором сочетается столько же суеверия, сколько и тщеславия, по сути не более и не менее соответствует материализму, чем большинству других систем; позвольте нам только некоторые замечания о частом использовании Бэконом духов (spiritus) в объяснении природы; здесь Бэкон опирается на традицию, но добавляет к ней оригинальный аргумент, который не делает чести «возродителю наук».».
(История материализма, том первый, вторая часть, глава III: «Возвращение материалистических взглядов с возрождением наук», стр. 247 испанского издания 1903 года.)
Однако уже в 1879 году другой немец, Рудольф Эйкен, обладавший, по выражению Сантьяго Валенти, «живостью саксонца и тем умственным мужеством и энергией, что характерны для германцев», на странице 94 своего труда Geschichte der Philosophischen Terminologie (1879), приписывает введение термина materialista тексту Роберта Бойля, опубликованному в 1674 году:
«Понятия, уже присутствующие у Декарта, получили техническую формулировку у Роберта Бойля. Именно он первым ввёл термин механический, особенно употребляя его в заголовках своих книг. Назовём и другие выражения: атомистическая философия и философия корпускул, философия корпускулярная (или механическая), материалисты (например, в его труде The excellence and grounds of the mechanical philosophy, 1674).»
И действительно, английский физик и химик Роберт Бойль (1627-1691) опубликовал в 1674 году в качестве приложения к своей книге Excellency of Theology, Compar’d with Natural Philosophy (Лондон, 1674) текст под названием Considerations About the Excellency and Grounds of the Mechanical Hypothesis, в котором, например, можно прочитать следующее (что, впрочем, весьма далеко от какого-либо материализма):
«Я уже в другом месте показал различными доводами, что движение или покой, а также более свободное соприкосновение или более плотная сцепка частиц способны сделать одну и ту же порцию материи то твёрдым, то жидким телом: так что, даже если дальнейшая проницательность и старание химиков (которых я отнюдь не желаю обескуражить) позволят получить из смешанных тел однородные субстанции, отличающиеся по числу, природе или тому и другому от обычной соли, серы и ртути, всё же корпускулярная философия столь обща и плодотворна, что вполне может быть с этим согласована, и столь полезна, что эти новые материальные начала, как и прежние три основные, всё равно будут нуждаться в более универсальных началах корпускулярианцев, особенно в местном движении. И действительно, какими бы элементами или ингредиентами люди ни пользовались (насколько мне известно), если они не принимают в расчёт механические свойства материи, их принципы оказываются столь неполными, что я обычно замечаю: материалисты, не исключая химиков, не только, как я уже говорил, оставляют без объяснения многие вещи, на которые их ограниченные принципы не распространяются, но и в тех частных случаях, которые они осмеливаются объяснить, либо ограничиваются указанием таких общих и неопределённых причин, которые слишком обобщённы, чтобы удовлетворить пытливого исследователя, либо, если они решаются дать конкретные причины, указывают произвольные или ложные, которые легко опровергнуть обстоятельствами или примерами, с которыми их учение не согласуется, как я часто показывал в других местах.»
(Selected philosophical papers of Robert Boyle, Hackett Publishing, Индианаполис, 1991, стр. 149)
Тем не менее, в 1908 году Oxford English Dictionary под редакцией Джеймса Мюррея, своего рода словарь языковых авторитетов английского языка, зафиксировал, что за шесть лет до Бойля, в «Divine Dialogues» (1668), Генри Мор упоминает персонажа по имени Гилобарес (Hylobares) как «молодого, остроумного и хорошо воспитанного материалиста» (a young, witty, and well-moralized Materialist). Ссылка Эйкена на Бойля присутствует в «Vocabulaire technique et critique de la philosophie» Лаланда (1926, статья materialisme, где также упоминается Мор по Мюррею), в Diccionario Аббаньяно (1961, s.v. materialismo), в Diccionario Ферратера (1979, s.v. materialismo) и во многих других источниках. Оливье Блох, историк философии в Сорбонне, в статье «Sur les premières apparitions du mot «matérialiste»» (Raison Présente, №47, июль–сентябрь 1978, стр. 3–16), приписывает Лейбницу первое употребление термина материалист на французском языке, в 1702 году:
«…что показывает, что всё ценное в гипотезах Эпикура и Платона, у величайших материалистов и у величайших идеалистов, соединяется здесь».
(Leibniz, Opera philosophica, ред. J. E. Erdmann, Берлин, 1840, том I, стр. 186a).
Фейхо в зрелости рассуждает о «сословии философов-материалистов»
Первым, кто стал обсуждать материализм на испанском языке с минимальной степенью строгости, был философ Бенито Херонимо Фейхо, уже в зрелом возрасте, в 1752 году. Действительно, в четвёртом томе своих «Учёных и любопытных писем», опубликованном в 1753 году, он посвящает пятнадцатое письмо теме «О философах-материалистах»:
1. Достопочтенный сеньор! Вы пишете мне, что, прочитав Мадридскую газету от 28 марта сего 52 года и в ней эдикт архиепископа Парижа против тезисов, которые бакалавр Хуан Мартин де Прада защищал в Сорбонне 18 февраля того же года, вы обратили внимание среди множества определений вредоносности некоторых из этих тезисов — на то, что они признаны благоприятствующими безбожию философов-материалистов. Вы обратили, говорите вы, внимание на это выражение, поскольку, прочитав многие каталоги осуждённых положений, как от Верховных Понтификов, так и от Святых Инквизиционных трибуналов Рима и Испании, вы нигде не находили ничего подобного. Это возбудило в вас живое желание узнать, что означает выражение философы-материалисты, или что это за новое сословие философов, за разъяснением чего вы соизволили обратиться ко мне. Я исполню эту просьбу настолько хорошо, насколько смогу.
2. Сословие философов-материалистов вовсе не ново, напротив, оно очень древнее, хотя эта древность никоим образом не является доказательством его благородства — напротив, оно самое низкое из всех. Во-первых, потому что стремится унизить разумную душу, лишая её духовной природы; а во-вторых — потому что оно прямо ведёт к атеизму. Говорю, что оно очень древнее: ведь Аристотель приписывает мнение о материализме души некоторым философам, предшествовавшим ему, таким как Демокрит, Левкипп и часть пифагорейцев. Но я не понимаю, с какой справедливостью он включает в их число своего учителя Платона, приписывая ему мнение, будто душа состоит из четырёх элементов, ссылаясь на «Тимей». Однако я могу с уверенностью заявить, что ни в «Тимее», ни в каком-либо другом из сочинений Платона я не видел даже намёка на подобное мнение. Напротив, он, как правило, говорит о душе с величайшим достоинством, признавая в ней некое особое участие в божественной природе.
3. Мнение, которое Аристотель приписывает Платону, общепринято признавать у Галена; ведь утверждать, что душа заключается в гармонии четырёх основных качеств, как делал Гален, — то же самое, что утверждать, будто она состоит из четырёх элементов.
4. Если среди древних философов и был один или другой, утверждавший телесную природу души, то среди современных число последователей этой нелепости, именуемых материалистами, похоже, значительно возросло; ибо они не признают никакой субстанции, кроме материальной или телесной. Я сам не встречал ни одного автора, отстаивавшего столь вредоносное учение — и да не появится он никогда на наших землях. Но я читал нескольких иностранных авторов, которые с горечью жалуются, что это нечестивое учение имеет немалое число последователей, по крайней мере в Англии. Томас Гоббс, человек с очень прославленным умом в той стране, по всеобщему мнению, старался утвердить это в своих книгах. Джон Локк, которого некоторые называют князем метафизиков последних времён, похоже, должен быть к ним причислен, хотя, возможно, он не выразился достаточно ясно. Но что означает утверждение, будто в камне возможны некоторые степени разума? Я видел, как добросовестные авторы цитируют его именно по поводу этого абсурда.
5. Эдикт архиепископа Парижа ясно даёт понять, что партия материалистов довольно многочисленна. Но ещё яснее это выражает послание епископа Монтальвана, также вызванное тезисами бакалавра Прады, или Прадеса (думаю, что второе — его настоящее имя), и напечатанное в нашей Мадридской газете от 18 апреля. Обратим внимание на следующие его слова:
До сих пор ад изливал свой яд, так сказать, по капле. Сегодня же это потоки ошибок и безбожия, которые стремятся потопить Веру, Религию, Добродетели, Церковь, Подчинение, Законы и Разум. В прежние века возникали секты, которые оспаривали отдельные догматы, но сохраняли уважение к другим. Нашему же веку суждено было увидеть, как безбожие создаёт систему, ниспровергающую их все разом, оправдывающую все пороки и, стремясь прокладывать себе более широкий и спокойный путь, устраняет из жизни страх перед вечными муками, не признавая для человека иного предела, кроме могилы. Так, не в силах отвергнуть очевидность существования Бога, оно изображает его как существо, равнодушное к оскорблениям со стороны человека; оно принижает человека до уровня животных, приписывает ему только материальную душу и сводит его к позорной необходимости всегда искать лишь то, что льстит его самолюбию; смешивая все сословия и классы, считает подчинение варварским правом, повиновение — слабостью, а власть — тиранией.
6. Такова философия универсального материализма (так, как я вижу, некоторые современные авторы называют этот вид дьявольской секты), и она, как я сказал выше, прямо ведёт к атеизму, или, лучше сказать, уже содержит его в себе; ведь хотя слово атеист означает человека, отрицающего существование Бога, тем не менее его эквивалентом является отрицание божественного провидения. А для того, чтобы склонить людей жить, как животные, одно воздействует не меньше, чем другое. Когда полностью устранён страх перед Божеством как карающей силой — какой же у человека остаётся сдерживающий тормоз от преступлений, которые он может или надеется скрыть от других людей? Вот в чём заключался атеизм Эпикура, который позволял современным идолопоклонникам сохранять уважение к их вымышленным божествам и оставлял этим божествам их храмы и культы, но не из-за пользы, которую можно было бы ожидать от их благосклонности, или зла, которого можно было бы бояться от их гнева, а только из уважения, которое справедливо воздавать превосходству их Божественной природы.
Также в Овьедо, 22 ноября 1752 года, Фейхо подписывает ещё одно письмо — двадцать шестое из того же четвёртого тома, которое он посвящает защите мысли о том, что «видят не глаза, а душа», — и в котором он предупреждает:
20. И я уведомляю Вашу милость, что эта философская доктрина ценна не только как истинная, но и по славному титулу — как исключительно важная для служения Религии, ибо она абсолютно несовместима с нечестивым догматом универсального материализма. Философы, которых называют материалистами, стремясь изгнать из природы всякую духовную субстанцию, пытаются посредством одной лишь материи объяснить все функции, свойственные духу. Так, исключительно материи, подвергшейся различным модификациям, они приписывают все способности, которые мы признаём за душой: таким образом, она не только способна чувствовать, но и рассуждать, понимать, любить и прочее. Так, отнимая у человека ту его часть, через которую он бессмертен, они добиваются не меньшего, чем внушить людям, будто всё, что говорится о загробной жизни, — лишь вымысел; что нет ни награды для добрых, ни наказания для злых; что с окончанием этой временной жизни человек полностью исчезает — и всё исчезает для человека.
21. Этот догмат, при всей его неразумности и безрассудности, всё же находит достаточное число сторонников в других странах, как дают понять нам письма двух французских прелатов, перепечатанные в наших газетах. Я называю их только сторонниками, то есть не могу поверить, что они действительно убеждены; их склонность к этому объясняется интересом, который имеет их распущенная жизнь — интересом избавиться (если возможно) от всякого страха перед вечным наказанием.
22. Очень далеки от согласия с этой ошибкой — это я признаю — те философы, которые, признавая за материей способность чувствовать, отказывают ей в способности понимать. Но, не имея такой цели, они тем не менее оказывают большую помощь сторонникам этой ошибки. Объяснюсь. Атомистические философы, говоря о душе животных, не отрицают её с такой категоричностью, как это делают картезианцы, но наделяют их душой, которая по сути душой не является, ибо целиком состоит из материи и ничего более. Они утверждают, что это — самая тонкая часть материи, наиболее утончённая, самая подвижная, самая «одухотворённая». Гассенди называет её цветком материи. Но к чему здесь эта метафора, если речь идёт о строго философском вопросе, где не требуется риторического украшения, а лишь поиск истины? Пусть они утончают материю сколько угодно. И даже если они предположат её предельно утончённой, предельно сублимированной, как им заблагорассудится, и назовут её как захотят — она останется материей и ничем иным. А я говорю: если это — материя и ничто иное, то она не может видеть, не может слышать, и в общем, неспособна к никакому виду ощущения или чувства; ибо само понятие материи столь же несовместимо с чувством, как и с разумом. Или, по крайней мере, признав первое, мы уже прошли более половины пути к признанию второго. Потому что материалисты скажут — или уже говорят — что если материя, утончённая до такой или такой степени, оставаясь материей, способна чувствовать, то, будучи утончённой ещё на несколько степеней, она будет способна понимать. Несомненно, поскольку материя, как бесконечно делимая, так и бесконечно утончаемая — из первого логически следует второе. Так, при одном высоком уровне утончения она даёт чувство животным, а при гораздо более высоком — разум и рассудок человеку. Если уже преодолено то затруднение, что материя, не переставая быть материей, способна ощущать и воспринимать объекты, то осталось совсем немного, чтобы — путём её дальнейшего возвышения и утончения — приписать ей и более возвышенное, более тонкое восприятие.
23. Декарт отлично осознавал эту трудность, и потому отказался признать наличие чувственной души у животных: вообразив, что всё, что есть в животных, — это лишь материя, он понял, что материя сама по себе не способна чувствовать. И потому он решил представить животных как бездушные механизмы. Он признал затруднение, но для его разрешения прибегнул к мнению, которое, насколько я могу судить, не только явно ложно, но и весьма опасно для религии — как я уже показал во втором томе Критического театра, дискурс первый, номера 44 и 45. Таким образом, если нельзя принять ни мнения Декарта, лишающего животных всякой души, ни мнения атомистов, утверждающих, что чувственная душа есть не что иное, как материя, — ибо и то, и другое в высшей степени абсурдно и опасно для религии, — то необходимо обратиться к тому, что я изложил и доказал в третьем томе Критического театра, дискурс IX, утверждая, что душа животных, хотя и может называться материальной по своей существенной зависимости от материи, на самом деле не является материей, но представляет собой нечто среднее между духом и материей.
Да хранит Господь Вашу милость многие годы. Овьедо, 22 ноября 1752 года.
Но поскольку нечестивый догмат продолжает существовать, бенедиктинец из Овьедо вынужден вновь вернуться к этому вопросу — годы спустя, в другом письме, также посвящённом философам-материалистам (написанном в 1756 году, втором в пятом томе, опубликованном в 1760 году: «Утверждается философская истина, что среди созданных субстанций существует нечто среднее между духом и материей». Тем самым искореняется с основания нечестивый догмат философов-материалистов), — в котором он сперва полемизирует с картезианцами:
1. Достопочтенный сеньор! Вы пишете мне, что при чтении четвёртого тома моих писем с вами случилось то же, что и с мореплавателем, который, преодолев большое пространство моря без всякой беды и опасности, в самом конце плавания, выходя на сушу, спотыкается о риф у берега; то есть, всё, что вы прочитали в указанном труде, заслужило ваше одобрение, за исключением той фразы, которой заканчивается последнее письмо, где я утверждаю, что хотя душу животных и можно назвать материальной — по её сущностной зависимости от материи — она всё же не есть материя на самом деле, а представляет собой нечто среднее между духом и материей. Это среднее между духом и материей возмутило проницательный разум вашей милости, показавшись вам философским чудовищем или умозрительным образованием, достойным быть навечно сосланным в страну химер. Из этого я заключаю, что вы либо не читали девятую речь третьего тома Критического театра («Разумность животных»), либо полностью забыли содержание того дискурса, начиная с пункта 61 и далее; ибо именно в этом месте я не только излагаю тот самый принцип, который теперь вам так не по вкусу, но, по моему мнению, и достаточно убедительно его доказываю.
2. Да, господин мой, сказано — значит сказано. Так я писал тогда, так повторил в месте, которое вы мне указываете, и так же считаю и сейчас. Более того, я не теряю надежды убедить в этом и вас, для чего прошу обратить внимание на то, что я буду излагать.
3. Учение о том, что существует нечто среднее между духом и материей, которое вам и, возможно, в общем кажется новым, — если хорошенько перебрать старые манускрипты, — окажется древней давности; как и противоположная ему доктрина, которая едва ли старше философии Декарта.
36. Материалисты подкрепляют свои возражения ещё одним рассуждением, в котором, по их мнению, заключается их сильнейшая опора. Они говорят: ни один философ не может тешить себя мыслью, что знает все свойства материи, или утверждать, будто в ней нет других свойств, отличных от тех, что нам известны; ибо для этого нужно было бы обладать всеполным знанием о ней — знанием, которое человеку недоступно ни в отношении духовных, ни телесных субстанций, созданных Богом. Отсюда неизбежно возникает сомнение, не существуют ли среди неизвестных философии свойств материи и такие, которые позволяют ей понимать и рассуждать, в том числе об абстрактных и родовых понятиях.
37. Не думаю, что материалисты смогут пожаловаться на то, что я не раскрыл весь их возможный внешний и кажущийся убедительным довод. Но правда и то, что изложить его мне ничего не стоит; ибо, даже если не на свой ум, то на хорошее дело, которое я защищаю, я могу положиться, уверенный в его силе — достаточно, чтобы разрушить их искусственные софизмы. Это я и сделаю, разоблачив ложность их нашумевшего принципа, будто не существует ничего между духом и материей, — единственного основания их химерического догмата; принципа, да, но такого, который порождает интеллектуальные чудовища — то есть самые нетерпимые заблуждения.
38. И действительно, для самого сурового изгнания этого принципа из философии достаточно было бы лишь рассмотреть абсурды, которые из него следуют. Картезианцы делают из него парадоксальную иллюзию, что животные устроены как чисто механические существа; материалисты используют его, чтобы отрицать у человека душу, отличную от тела. Первое следствие уже само по себе достаточно, чтобы явно показать ложность исходного принципа. Внимательное наблюдение за действиями животных заставляет нас с такой силой признать их одушевлённость, что я всегда сомневался, существует ли на свете хоть один человек, заслуживающий хоть малейшим образом звания философа, который в душе согласился бы с бессознательностью животных. Картезианцы клянутся, будто уверены в этом. Но откуда нам известно, что в этом они говорят искренне? Я полагаю, как Сенека сказал о безбожниках: Лгут те, кто утверждает, что не чувствуют Бога — и в этом мнении с Сенеки согласны бесчисленные философы и теологи, — так, может быть, и о картезианцах можно сказать: Лгут те, кто утверждает, что животные не чувствуют. И, скажу честно, пока ни один картезианец меня не слышит, не вижу никакой опасности сказать это кратко и прямо.
39. Однако, поскольку я не могу подвергнуть картезианцев допросу с пристрастием, чтобы они признались в том, что у них на душе, я не настаиваю столь сильно на этом, как на тех аргументах, которые я изложил выше: на полной схожести между действиями животных и чувствительными действиями человека; и на аналогии, которую нам предоставляет анатомия — в органах, служащих этим действиям и у них, и у него. Я, не колеблясь, считаю эти аргументы демонстративными — насколько это возможно в физике — для утверждения чувственной души у животных. А поскольку невозможность последней логически вытекает из принципа не существует ничего между духом и материей, — то, доказав несостоятельность следствия, мы тем самым доказываем ложность и самого принципа. Признаюсь: я не столь усердно принялся бы за опровержение мнения о «механической» природе животных — мнения, которое я презираю, — если бы не считал, что его опровержение подрывает и тот принцип, из которого его выводят его сторонники. А это весьма важно, ибо на этом же принципе опосредованно покоится отвратительный догмат материализма.
40. Но и этим не удовлетворившись, я перехожу к прямой атаке на сам этот принцип. Для этого я хочу, чтобы мне ответили картезианцы и материалисты: на каком основании они утверждают истинность этого принципа, и откуда им известно, что не существует нечто среднее между духом и материей? К тому же я упрекаю их в том, что отрицать абсолютную возможность такого промежуточного существа — значит отказывать Богу в могуществе создать его. А чтобы отказать Богу в этом могуществе, нужно привести какое-то веское основание, ибо если остаётся хоть малейшее сомнение — преимущество всегда на стороне Всемогущества. Но они не только не смогут привести никакого убедительного основания, но и даже сколь-либо вероятного.
43. Также и по поводу прилагательных нематериальный и духовный: они были бы синонимами — в языке картезианцев и материалистов. Но не в речи тех, кто придерживается моей точки зрения — если не уточнить значение слова нематериальный, как я сейчас и сделаю. Объясняю. Этому слову можно придать более узкое или более широкое значение — в зависимости от того, насколько широко или узко истолковано его противоположное слово материальный. Так, слово материальный может быть ограничено до значения той самой неадекватной субстанции — сущностной части физического состава, которую мы называем первая материя, или просто материя; а может быть расширено до обозначения всякого существа, которое для своего происхождения и существования зависит по существу от материи: как, например, в аристотелевской школе все субстанциальные формы, за исключением разумной души, хотя и отличны от материи, всё же называются материальными, потому что зависят от неё по существу. Таким же образом, противоположное слово нематериальный можно использовать в узком смысле — исключая только то, что по сути является материей, — или в широком, исключающем всё, что по существу от неё зависит.
44. Итак, я утверждаю: слово нематериальный в своём втором значении — синоним слова духовный, но не в первом. То есть, нематериальность существа, если это означает только, что оно не является самой материей, не означает, что оно есть дух; но если означает, что оно ни есть материя, ни по существу от неё зависит — тогда это действительно дух. Если хотите, я уточню это с помощью терминов схоластики: всё нематериальное само по себе субстанциально — отрицаю; всё нематериальное — как субстанциально, так и акцидентально — допускаю. В этих двух словечках заключено всё, что я сказал выше. И именно такую полезность имеют эти краткие термины схоластических различений, которые нередко служат объектом насмешек у преподавателей других факультетов — потому что они не понимают их важности при разъяснении софизмов и прояснении двусмысленных или коварных положений, в чём они, благодаря своей сжатости, подобны золотым монетам высокой стоимости в малом объёме.
45. И вот, Вашей милости теперь ясно из всего моего рассуждения: абсурд философской идеи неодушевлённости животных — иллюзорен, и вместе с ним разрушен, как его логическое следствие, и нечестивый строй философов-материалистов. И тому, и другому послужило крушение ложной максимы, будто не существует ничего между духовной и материальной субстанцией, — на которую они опираются, как будто это непреложный принцип, и которую и материалисты, и картезианцы считают неоспоримой; но я, напротив, всегда считал её необоснованной парадоксом и с изумлением наблюдал, как её принимают за истину многие философы других стран, сохраняющие при этом название аристотеликов, отвергая всякую корпускулярную систему, и одновременно, как положено, почитая догматы Религии — среди которых важнейший, догмат о бессмертии души, особенно уязвим для нападок безбожников, которые его отрицают, как я изложил выше.
и к которому он добавляет приложение, подписанное в Овьедо в июле 1756 года, против гасендистов (§ 54-63):
54. Хотя я не видел ни одной из книг, появившихся на свет в защиту ошибочного догмата материалистов (поскольку произведения этой нечестивой секты с полным основанием справедливо запрещены к ввозу в Испанию), тем не менее с весьма достаточным основанием полагаю, что они находят такую же опору в системе гасендистов, как и в системе картезианцев. Те (гасендисты) не отрицают открыто, что у животных вовсе нет души; но они приписывают им такую, которая оказывается лишь душой по названию; и таким образом они столь же «животноубийцы» (позвольте мне воспользоваться этим словом), как и другие, ибо одинаково, по своему усмотрению, лишают животных той жизни, которую дал им Автор природы. Да, жизнь они им признают; но какую жизнь? Пусть сам Педро Гасенди, глава современных атомистов, скажет за себя и за своих сектантов.
61. Но во-первых: это не устраняет предложенные неудобства, потому что материалисты, которые не являются атомистами, продолжают обременяться абсурдами, вытекающими из бесконечной делимости материи; не в силах избежать пропастей, к которым ведёт их ошибочная доктрина. Во-вторых: из атомистического состава материи следует, что вся она в равной степени утончена или может быть утончена; потому что вся, и во всех своих частях, по мнению атомистов, состоит из атомов; и таким образом даже плотная часть будет столь же тонкой, или по меньшей мере сможет достичь такой тонкости, как та, что считается самой утончённой, и, следовательно, сможет перейти от состояния тела к состоянию души.
63. Мудро сказал великий канцлер Бэкон, что поверхностная философия обычно приводит людей к атеизму; но глубокая и хорошо обдуманная ведёт их к познанию и почитанию Божества (Interiora rerum, гл. 16). Легко применить это к теме данного письма. Какая философия более поверхностна, чем та, что полагает, будто всё состоит из грубости материи? Какая философия более поверхностна, чем та, что, останавливаясь на внешности душевных действий, не открывает в них глубины духовной субстанции, которая их производит? Какая философия более поверхностна, чем та, что, не имея иного основания, кроме предположения, что мы, возможно, не знаем всех свойств материи, приписывает ей способность рассуждать и понимать — то, чему она явно противоречит? Но довольно: бороться с чудовищами — не только утомительно, но и вызывает отвращение.
Да хранит Вас Господь многие лета. Овьедо, июль 1756 года.
и другое последующее приложение, в котором сопоставляется система философов-материалистов с системой пифагорейцев (§ 64-73), где автор приходит к выводу, что материалисты более отвратительны, чем пифагорейцы (как резюмирует указатель наиболее примечательных вещей, содержащихся в этом томе):
64. Это сравнение проводится не между добром и злом, а между одним злом и худшим, и по результатам анализа наихудшим окажутся материалисты.
65. Из сочинений Пифагора, если они вообще были (в чём некоторые сомневаются), ни одно не дошло до нас. Но из того, что сообщают различные авторы относительно его главнейшего учения, ясно, что этот древний философ утверждал: разумные души были сотворены вне тел и, по причине преступлений, совершённых в том состоянии разделения, многие из них были приговорены Божеством к жизни, заключённой в человеческих телах, с возможностью использовать эти тела как во благо, так и во зло. Тем, кто действовал дурно, предназначалось затем переселение в другие темницы — более низкие, более неудобные и более подлые, то есть в тела различных животных. При этом в этом новом наказании соблюдалась соразмерность между видом вины и видом темницы: так, душа жестокого человека переходила в тело льва или тигра; душа бесстыдного и развратного — в тело собаки; лукавого и злобного — в тело лисы и т. п.
66. В этом пифагорейском учении с самого начала бросаются в глаза два серьёзных несоответствия. Первое: стремясь соблюсти в наказании физическую пропорцию, оно забывает о той, которую в подобном деле следует соблюдать прежде всего, — о моральной. Ведь самым преступным душам даются темницы наиболее мучительные и тягостные: например, тела вьючных мулов, жеребцов мельников, почтовых лошадей, живущих в нищете, страданиях и усталости. Но в пифагорейской системе справедливая провиденция полностью искажается: душа жестокого человека, помещённая в тигра, найдёт в действиях этого зверя занятие, весьма приятное её природной жестокости; душа сладострастника, вселённая в похотливое животное, будет с удовольствием продолжать свои грязные удовольствия в нём. Следовало бы, напротив, поступать противоположным образом — если такое осуществление вообще возможно, даже в воображении: душу сладострастника поместить в одно из тех животных, чья кастрация делает их службу полезнее; душу гордеца — в жука или другое ещё более презренное насекомое; душу женоподобного и щеголя — в жабу; и так далее.
70. Нельзя отрицать, что указанные два недостатка пифагорейской доктрины значительны. Однако, несмотря на них, ясно, что она гораздо меньше противоречит разуму, чем система материализма. Во-первых, последняя бесконечно унижает природу человека, делая его столь же материальным и телесным, как пень или камень. Пифагор оставляет его таким, каким находит — состоящим из тела и души. Во-вторых, материалисты, отнимая у человека бессмертие, предоставляют ему лишь жизнь или существование столь же мимолётное, как у животных или растений. Пифагор оставляет ему мирное обладание бессмертием, хотя и омрачённым жалким условием: душа, делающая его бессмертным, по большей части вынуждена скитаться из одного животного в другое. В-третьих, в системе материализма человек может воздавать лишь кратковременное и весьма непрочное поклонение своему Творцу. В питагорейской системе, поступая правильно — как он имеет возможность, — он может вечно служить цели, для которой Бог его создал: любить Его и служить Ему.
71. Наконец (и это главное), в системе Пифагора, хотя прямо и не предлагается человеку никакого стимула к добродетели (поскольку не указывается награда за добрые дела), его удерживают от порока угрозой наказания, и этим самым он косвенно побуждается к добродетели. Ведь избегая порочных поступков, он неизбежно оказывается в числе честных — в тех случаях, когда воля не может воздержаться от всякого действия, и на пути её бегства не встречается поступков безразличных, которые, хотя и возможны на практике (по весьма вероятному мнению), зачастую не встречаются. Но в системе материалистов, поскольку в ней не замечается ни награды, ни наказания (разве что самое случайное и кратковременное), отсутствует всякий стимул к добродетели и почти всякий сдерживающий фактор для порока. И, предоставив полную свободу человеческим страстям, к чему сведётся человеческое общество, как не к варварскому и звериному обращению людей друг с другом? Кто тогда будет уверен в своей чести, имуществе и жизни? Ведь несомненно, что посягательства на все три этих блага могут быть и нередко бывают объектами страстей других людей.
72. Отсюда следует, что материалисты — не только слепые отступники от истинной философии, но и отвратительные враги человеческого рода, и, следовательно, заслуживают того, чтобы не только весь человеческий род возненавидел эту адскую секту, но и стремился бы к её искоренению. Если Плиний справедливо сказал, что большинство бедствий, выпадающих на долю человека, происходит от злобности особей его же рода: Homini ex homine plurima sunt mala (предисловие к кн. VII), — то что же произойдёт, если, избавив людей от страха наказания, предоставить их воле полную свободу для всех видов преступлений? Худшее же то, что материалисты не только поддерживают эту всеобщую вседозволенность под предлогом безнаказанности, но и некоторые из этой секты пытаются узаконить её разумом. Известный английский материалист Томас Гоббс утверждал, что природа не предписывает людям ни союза, ни общества, а лишь раздор; и в соответствии с этой прекрасной натурфилософией были выстроены его моральная философия и юриспруденция: в первой он объявлял высшей целью человека любовь к самому себе или личное удобство; во второй — не признавал другого права одних людей по отношению к другим, кроме того, что даёт превосходство силы: так что сильнейший или искуснейший может, не оскорбляя разума, присвоить себе любые чужие блага и даже поработить весь мир, если его сила или ловкость на это способны. К таким крайностям приводит прекрасная доктрина философов-материалистов!
В своём следующем письме, третьем в пятом томе, Фейхоо предлагает советы испанцам — «Защиту Веры», подготовленную для испанцев, путешествующих или проживающих в чужих странах, — некоторые из них библиографического характера, предупреждающие о том, с чем они могут столкнуться за пределами родины:
60. Но наиболее удивительным в сочетании еретической терпимости и нетерпимости является то, что многие протестанты, отказываясь терпеть католическую религию, терпят то, что в высшей степени нетерпимо, — то есть абсолютное безбожие, отказ от всякого культа Божеству, атеизм. Очень показательный пример такого странного беспорядка даёт Англия, где в то же время, как британское правительство запрещает все книги, благосклонные к католической религии, оно допускает к свободному распространению многие книги, открыто поощряющие нечестие. Введение Agnus Dei (образа Агнца Божьего), медальона из Рима в эпоху Генриха и Елизаветы рассматривалось как преступление против величества. Возможно, и теперь (не могу сказать точно) происходит то же самое. Но сочинения, напрямую оспаривающие бессмертие души, продаются открыто. Безбожный догмат материализма, который, уничтожая её духовную природу, отождествляет её с телесной машиной и, следовательно, считает её погибающей вместе с телом, распространился в Англии настолько, что излил не малую часть своего яда на соседнюю Францию, если справедливы жалобы, которые, по поводу распространения этой заразы в том католическом королевстве, с негодованием высказывали некоторые его прелаты.
Читатель, возможно, заметил, что озабоченность Фейхоо философами-материалистами и материализмом начинает проявляться письменно только с 1752 года, сильно после публикации Универсального критического театра (1726-1740). В Дополнениях к его сочинениям, опубликованных посмертно в 1765 году, мы находим ещё два значительных абзаца Фейхоо по этим вопросам:
43. Вот почему я только что сказал, что необходимо быть осторожным и не выходить за должные пределы в применении механизма. Дело в том, что механизм, которому приписывают, как единственной причине, все действия животных, крайне скользок и легко ведёт к безбожному догмату материализма. Объясню почему. Мы видим у животных те же действия, те же реакции на представляемые им объекты, что и у нас самих: они чувствуют, воспринимают и, согласно опыту, реагируют на них — если они приятны или неприятны — выражая своё удовольствие или недовольство, наслаждение или боль, симпатию или антипатию, стремление, гнев, страх, радость или грусть; к этому у некоторых прибавляется изысканная изобретательность и проницательность, с которой они добиваются того, что доставляет им удовольствие, и избегают того, что причиняет вред — что ясно указывает на то, что они помнят объекты, ранее воспринятые как благотворные или вредоносные.
(Корни неверия)
2. Второй вопрос касается того, может ли рациональная душа, будучи чистым духом, ощущать боль от огня — и если да, то как? Отвечаю, что в объяснении этого способа богословы разделяются. Наиболее распространённое мнение гласит, что Бог сверхъестественным образом возвышает материальный огонь, чтобы он мог стать ощутимым или болезненным для духа — так же как в таинстве крещения Он возвышает элементарную воду, чтобы она могла производить освящающую благодать. Но скотисты, следуя своему тончайшему Учителю, утверждают, что душа ощущает материальный огонь через ярчайшее представление, которое Бог ей внушает, будто она горит в нём, причём это представление присутствует в её уме как нечто наглядное. Однако я, оставляя эти два мнения в той вероятности, которой им нельзя отказать, полагаю, что затруднение можно преодолеть иным, более философским путём, чем те, что были упомянуты. Для этого я предполагаю, что рациональная душа в состоянии соединения с телом претерпевает и ощущает все болезненные впечатления, которые производят материальные объекты на телесные органы. Привожу пример: огонь обжигает какую-либо часть тела, или острие железа наносит рану. Кто ощущает огонь и рану? Нефилософ или мнимый философ скажет, что это ощущает поражённый или обожжённый телесный член; но настоящий философ должен сказать, что ощущает и страдает в этих случаях именно душа, ибо, хотя верно, что этот составной целый из духа и материи ощущает огонь и рану, также верно, что чувствительность исходит исключительно от души. Причина очевидна: материя сама по себе не является и не может быть чувствующей. Тот, кто считает материю способной к ощущению сама по себе, не сможет опровергнуть философов-материалистов (эту отвратительную секту, которая прямо ведёт к атеизму), которые также утверждают, что материя способна мыслить и разуметь, ибо и то, и другое — столь же чуждо понятию материи, или почти столь же.
(О материальных мучениях, которые терпят души в Чистилище)
Материализм не входит в словарь Королевской академии (DRAE) до XIX века, то есть до исхода Старого режима.
Придётся ждать четвёртого издания Словаря Королевской академии, опубликованного в 1803 году — последнего, составленного в условиях Старого режима, — чтобы академики, весьма отнюдь не беспристрастно, решились включить materialismo и materialista в реестр испанского языка:
«Materialismo, сущ. м. Заблуждение тех, кто не признаёт никакой субстанции, кроме материи. Обычно говорится о тех, кто отрицает нематериальность души. Animi immortalitatem inficiantium error.
Materialista, сущ. общее. Сектант материализма. Animo immortalitatem inficians.» (DRAE, 1803)
Но не стоит думать, что Конституция 1812 года и становление в Испании второго поколения левых — либерального — должны были как-то повлиять на академиков, гордившихся своей ролью ортодоксальных определителей заблуждений и сектантов: ни пятое издание 1817 года, ни шестое 1822-го, ни седьмое 1832-го, ни восьмое 1837-го, ни девятое 1843-го, ни десятое 1852 года — ничего не меняют: всё повторяется слово в слово. Лишь в одиннадцатом издании, 1869 года — после славной революции — они осмеливаются просто убрать латинские цитаты. А дождаться придётся двенадцатого издания, 1884 года, чтобы materialismo перестал считаться заблуждением (хотя materialista продолжит означать сектанта ещё целое столетие — вплоть до 1984 года, когда в двадцатом издании словаря академики наконец перестанут описывать его как последователя и сторонника секты, или фанатика и нетерпимого приверженца партии или идеи). При этом Академия, разумеется, оставалась в стороне от всего того богатства различий и смысловых оттенков, которые за это время накопились вокруг этих терминов:
«Materialismo. (От material — «материальный».) сущ. м. Учение некоторых философов древности и современности, заключающееся в признании материи единственной субстанцией, вследствие чего отрицаются духовная природа и бессмертие человеческой души, а также первопричина и метафизические законы.
Materialista. прил. Употребляется о сектанте материализма. Также как существительное.» (DRAE, 1884)
Философы, «сильные духом», либералы, просветители, материалисты, атеисты, неверующие, вольнодумцы, франкмасоны, нечестивцы…
Само собой разумеется, что академики Королевской академии, как коллектив, ответственный за знаменитый словарь, предпочли в течение всего XIX века не замечать богатейшего спектра оттенков, всё более проникавших в понятия материалистов и материализмов, словно по этим вопросам последнее слово уже было сказано во времена Фейхоо — то есть ещё до того, как Старый режим начал рушиться, уступая место христианским политическим нациям, а тем временем новые научные дисциплины продвигались в своём категориальном замыкании. Во времена, когда писал Фейхоо, ещё невозможно было предвидеть скорый разрыв векового союза Трона и Алтаря, и потому шкала тревоги по поводу пагубного влияния материалистов и материализма ограничивалась чисто теоретической сферой Алтаря: души, духи, атеизмы. Но после Революции материалисты и философы оказываются неизбежно вовлечены в процесс разрушения прежнего политического равновесия. В качестве примера напомним хотя бы предпосылки, вдохновлявшие капуцина Рафаэля де Велеса в 1812 году:
«Из этого общего закона, распространяющегося на всякое разумное существо, по-видимому, следовало бы исключить некоторых людей, которые по своей редкости отмечались почти во все века, а в нашем — по своему чрезмерному числу — уже могут быть охарактеризованы как особая группа. Они сами, вслед за Пифагором, называют себя философами — из-за любви, как они говорят, к наукам, или из желания найти истину. Они именуют себя “сильными духом”, потому что не поддаются предрассудкам, которые, по их мнению, унижают прочих людей. Называют себя либералами, потому что легко отказываются от прежних взглядов и следуют за новыми, более просветлёнными. Они гордятся своим превосходством над всеми представителями рода человеческого. Их родина — весь мир; их соотечественники — все люди, вплоть до готтентотов и кафров. Они называют себя настоящими космополитами.
Во всей Европе их знают под именами просветителей, материалистов, атеистов, неверующих, вольнодумцев, франкмасонов, нечестивцев. Их учения, направленные против королей, властей и религии, подтверждают эти названия, а их труды выявляют их по меньшей мере как фанатиков, мизантропов, врагов всякого общества.»
— фрай Рафаэль де Велес, «Прививка от безбожия, или Планы философии», Кадис, 1812, Предисловие.
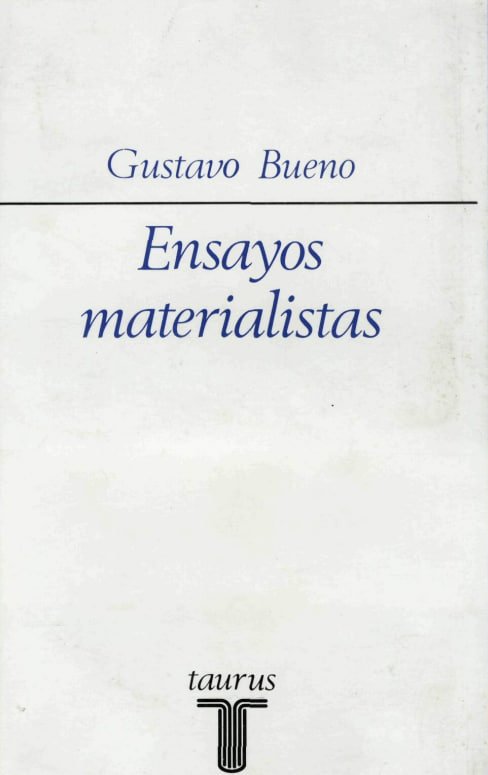
Приписывают хирургу доказательство наиболее чистой системы материализма
В начале 1838 года хирург-доктор Рамон Берсиаль Лопес публикует «Движение природы» (типография Мигеля де Бургоса, Мадрид, 1838, 142 стр.), которое анонсируется в Diario de Madrid во вторник, 27 марта 1838 года. Gaceta de Madrid вскоре публикует на первой странице (в пятницу, 13 апреля 1838 года) протест, в котором говорится о необходимости «положить предел этой безудержной свободе печати», которая может превратить политическую революцию в социальную, поскольку «атакует основы общественной морали, религии нашей родины и всеобщей веры человеческого рода». Это опровержение направлено против упомянутой брошюры, в которой, как говорится, «пропагандируется и, как считается, доказана система самого чистого материализма»:
«Невозможно узнать об этом без удивления и ужаса — что в Мадриде в 1838 году была опубликована брошюра под названием Движение природы, в которой пропагандируется и, как считается, доказана система самого чистого материализма. Стиль её напыщенный и декларативный, подобно безбожной и позорной книге, опубликованной во Франции в середине XVIII века под заглавием Система природы. Автор брошюры старается убедить в предисловии, что изложенные им доктрины — плод его собственных наблюдений; но ни один образованный читатель не поверит этому, заметив, что он не сделал ничего иного, кроме как воспроизвёл аргументы Лукреция и Спинозы — без таланта первого и без логики второго. Мы даже сомневаемся, что он читал их в этих ядовитых источниках, а не в какой-нибудь жалкой компиляции из множества тех, что породила чудовищная революция во Франции.»
(Gaceta de Madrid, Мадрид, пятница, 13 апреля 1838 года.)
А епископ Кории, Рамон Монтеро, в послании, направленном Королеве-Регентше от 15 августа 1838 года — хотя и больше обеспокоен активностью Библейского общества и его агента Хорхито Боро в Испании — не упускает случая осудить и ту брошюру, против которой выступила Gaceta:
«Это — самое ужасное из того, что можно сказать, и оно повторяется в Системе природы, или Законах физического и морального мира барона д’Гольбаха, с примечаниями и исправлениями Дидро; и именно эта книга была опубликована и анонсирована в Diario de Avisos под заглавием Движение природы, и с большим удовлетворением я увидел её опровергнутой редакцией Gaceta. Это — система материалиста, и одного этого достаточно, чтобы понять те безумства и заблуждения, которые она содержит. Вот один из её образцов: „Тираны и служители Религии использовали заблуждение, чтобы поработить людей; и именно заблуждению, освящённому Религией, следует приписать невежество и неуверенность людей в своих обязанностях и в самых очевидных истинах, с которыми человек сталкивается. Бога нет, и природа вечна; всё устроено движением, и человек не свободен.“»
(Голос религии, вторая эпоха, том IV, Мадрид, 1838, стр. 141.)
«Сеньор Фабра, не замечая, что его доктрина отдаёт материализмом, пытается установить две разные воли: одну, относящуюся к физическому человеку, а значит — материальную; и другую — к моральному человеку, которая будет одной из способностей нашей души.» (Философия естественного законодательства дон Франсиско Фабра Сольдевила [1838], Цензура, Мадрид, 1845, стр. 114.)
Начиная с 1838 года, мы констатируем, что в испанском языке начинает использоваться формула философский материализм. Так, например, в объявлении, опубликованном в El Constitucional в Барселоне в субботу, 26 февраля 1842 года, материализм не связывается с духовными, физическими или метафизическими дискуссиями, но ассоциируется с определённой политической идеологией, которая внушает молодёжи пагубные максимы философского материализма, республиканизма и анархии:
«Краткое изложение принципов, или Элементы универсального законодательства, дон Пласидо Мария Ородеа. Учителя и преподаватели университетов с величайшим беспокойством и тревогой желали, чтобы беспорядочное изобилие плохо согласованных доктрин, представленное в сочинении французского автора, было приведено к более логичному и ясному методу и очищено от этой бессвязной учености, доказательств и ораторских расширений, столь далёких подчас как от философской точности, так и от простоты и истины. С другой стороны, оригинальный текст содержит грубые ошибки в области морали, политики, экономики, публичного управления и муниципального правления, и вместо того чтобы обучать хорошим принципам универсального законодательства, внушает молодёжи пагубные максимы философского материализма, республиканизма и анархии, поскольку вобрал в себя все доктрины XVIII века, которые господствовали во Франции. Настоящее «краткое изложение» исправило все эти ошибки и представляет «принципы универсального законодательства» с той простотой, ясностью и хорошим методом, которые рекомендуются здравой критикой и хорошей философией. Продаётся за двадцать реалов в книжной лавке Саури, на улице Анча, на углу с Регоми.»
(El Constitucional, Барселона, 26 февраля 1842 года, стр. 6, колонка 3.)
И вскоре после этого либерал Николас-Пастор Диас-и-Корбель (1811-1863) в своём опусе «Ко двору и к партиям» (1846) устанавливает различие между философским материализмом и другим, политическим материализмом:
«Вот почему народы не понимают никакой власти без великой нравственной идеи. Вот почему революции совершают не люди, а доктрины. Вот почему самые абсурдные религии существовали дольше, чем могущественные империи. Вот почему личности, изменяющие судьбы народов, воплощают собой некую мысль и нравственную необходимость. Вот почему Цезарь и Магомет, Кромвель и Бонапарт основали империи; вот почему Лютер, Руссо и Мирабо совершили революции. Вот почему революции создали власти; вот почему диктатуры основали легитимности; вот почему, наконец, политический материализм ещё более невежественен, ещё более недостаточен, чем философский материализм.»
(Николас-Пастор Диас, Ко двору и к партиям, 1846)
Философский материализм, который тот же автор представляет столь же отвратительным, как и политический социализм, в своих лекциях в Мадридском атенеуме, посвящённых «Проблемам социализма» (1848):
«Бог позволил народам, как и армиям, видеть, как Рим, трезвый, бедный и религиозный, покорил мир; и как Римская империя, отягощённая всеми богатствами вселенной, стала добычей горстки варваров. Бог позволил, чтобы шесть греческих фаланг уничтожили за одну кампанию несметные армии Царя царей. Бог позволил, чтобы могущественная империя вестготов утонула в Гуадалете под саблями грубых и немногочисленных последователей Тарика, и чтобы несколько тысяч кантбрийских горцев отбросили в пески Африки пышную мощь халифов Гвадалквивира. Бог позволил, чтобы пятьсот кастильских солдат завоевали империю с многомиллионным населением. Бог, наконец, позволил, чтобы нация в тридцать два миллиона душ, сильная и богатая, оказалась на грани краха и исчезновения в варварстве на следующий день после политической революции — лишь потому, что не смогла прокормить в течение месяца двухсот тысяч рабочих; это стоило бы лишь половину любой из тех кафедральных церквей, которые воздвигло религиозное благочестие в варварские времена. Наконец, господа: Бог позволяет, чтобы политический социализм дошёл до той же точки, что и философский материализм, — чтобы сказать первому: „у тебя нет будущего!“, а второму: „тебе нет спасения!“»
(Николас-Пастор Диас, Проблемы социализма, 1848, Лекция VI, III.)
Философский материализм, который, по мнению анонимного автора статьи «Материальные интересы» от 1850 года, уже утратил свою силу, поскольку этот кафедральный материализм, как мы бы сказали, уже был сметён прагматизмом политического материализма:
«Материализм не всегда воцаряется в обществе с одинаковой силой, когда овладевает им, и не всегда проявляется в одинаковых формах. К счастью, уже прошло то пагубное господство философского материализма, то есть отрицания духа, вызывающего ныне лишь смех у мудрецов и негодование у мира. Но существует и другой материализм, который можно было бы назвать политическим, не научным, а практическим, — это самая распространённая болезнь, от которой страдают сегодня правящие мужи, и которая просматривается в современных законодательствах и в государственных делах. Этот материализм не отрицает дух, но часто им пренебрегает; он не вступает в полемику принципов, он её избегает; он не нападает на своего противника, а уклоняется от него. Его мало интересуют философские системы; он ни одну не принимает и ни одну не отвергает: это своего рода эклектизм, который приспосабливается ко всему, лишь бы ему позволили продвигать по-своему материальные интересы, даже ценой великих религиозных интересов, которые он считает весьма второстепенными. Если философский материализм ведёт от ошибки к ошибке до самого атеизма, то политический неизбежно влечёт к революции — жгучей горячке, которая сжигает внутренности современных обществ.»
(Материальные интересы, El Ancora, Барселона, 1 октября 1850 года, № 274, стр. 2–3.)
В 1854 году «Современная энциклопедия», издававшаяся в Мадриде издателем Меядо, не посвящает отдельной статьи идее материи, но даёт статью по конкретному понятию — «сакраментальная материя». Статья «Материализм» касается чего-то, что уже принадлежит прошлому — временам Спинозы, Левкиппа или Эпикура, — заслуживающего иронии, а то и насмешки, когда речь заходит о выступающих буграх на черепе у френологов, при этом лишь вскользь предупреждая о последствиях подобного абсурда, который «разрушает общественные узы и высвобождает самые грубые страсти через необузданный эгоизм. Если материализм и не делает людей обязательно злодеями, то, по крайней мере, он является полной оправданием всех пороков и всех преступлений.». Но развитие позитивных наук было неудержимым, и продолжали появляться те, кто находил в физических науках единственное строгое понимание материи. Особенно среди врачей. В 1852 году в La Unión Médica, органе Мадридской хирургической академии, бакалавр Хосе Гаррофало-и-Санчес заявляет о себе как о чистом материалисте, а в конце этого десятилетия, в 1859 году, торжественная вступительная речь на открытии сессий Королевской академии медицины в Мадриде, произнесённая доктором Педро Матой Фонтанетом, вызывает значительный скандал. Доктор Мата выступал с лекцией о «Гиппократе и гиппократовских школах» и утверждал, что на тот момент мы становились свидетелями третьего возрождения гиппократовской медицины, «на крыльях политической реакции, стремящейся отрыть всех окаменелостей и оживить всех мумий, которых XVIII век похоронил в пантеоне времени», как части более широкого процесса:
«Эта злополучная реакция дала о себе знать сперва в области философии, и если одни, укрывшись за её спиной, мечтают вернуться ко временам, когда этот факел человечества был служанкой богословия (ancilla theologiae), то находятся и такие, кто с большим успехом превратил её в служанку политики. Раз реакция состоялась в области философии, она неизбежно должна была произойти и в области частных наук, чьи представления всегда являются подлинным отражением философских; фатальный закон, от которого не имеет исключения и медицина.»
Таким образом, Педро Мата, противопоставляя себя этой злополучной реакции, намеревался защитить именно материализм отца Гиппократа, «произведения которого преисполнены ионийского материализма». Жестокая полемика и многочисленные статьи за и против продолжались в течение многих месяцев. Тем временем другой врач — в Германии — Людвиг Бюхнер (1824-1899) утверждался как архетипический представитель монистского, научного и анти-философского материализма, который в течение десятилетий будет популяризироваться в «прогрессивных» кругах. Его знаменитая книга «Сила и материя» (1855) получила исключительное распространение и была издана на испанском языке в нескольких редакциях, начиная с 1868 года.
Ланге публикует в 1866 году свою Историю материализма
В 1866 году другой немец — Фридрих Альберт Ланге (1828-1875) — публикует первый опыт реконструкции предполагаемой исторической эволюции философских систем, именуемых материалистическими, — свою знаменитую Историю материализма (изданную на испанском языке в 1903 году в переводе Висенте Колорадо с французской версии второго немецкого издания). В конце 1874 года гегельянец Антонио Мария Фабиэ Эскудеро (1832-1899) начинает публиковать в Revista Europea серию из десяти статей, в которых проводит «Анализ современного материализма» («Предшественники современного материализма», «Дарвинизм», «Геккель», «Эмпирическая психология: Бэйн, Герберт Спенсер», «Общественная природа человека: Лаббок, К. Фогт, Клеманс Роже, Спенсер», «Философия истории: Конт, Бокль», «Дрейпер, Бэйджот», «Логика эмпирических школ»). В 1890 году, спустя всего несколько месяцев после выхода французского издания, на испанском публикуется Апологетический словарь католической веры, под редакцией Хуана Баутисты Жожэ, в котором содержится длинная статья, посвящённая «Материализму», авторства Хуана Мигеля Альфредо Вакана (1852-1901), католического пресвитера и профессора Большой семинарии в Нанси, где он даёт изложение и опровержение, стремящиеся быть систематическими, тех материалистических теорий, которые представлялись наиболее опасными. Урбано Гонсалес Серрано (1848-1904), колебавшийся между краузианством и позитивизмом, является автором статей «Материя» и «Материализм» в Испано-американском энциклопедическом словаре (том 12, Барселона, 1893), где мы также находим различные смежные статьи, содержащие примеры реального употребления этих терминов в испанском языке конца XIX века. Пользуясь случаем Всемирной выставки в Париже 1900 года, Франция предпринимает свою последнюю крупную попытку глобализации: от почтовой службы до великих европейских железных дорог, от универсального вспомогательного языка до унификации Философского словаря (которым с 1902 по 1923 годы руководит Андре Лаланд и который выходит отдельной книгой в 1926 году). Статьи «материя», «материальный» и «материализм» дают нам пример трогательной наивности, с которой те добродушные французы, в духе профессионального согласия и гармонии, полагали, что решили все вопросы, касающиеся этих понятий, включая исторический материализм.
Ленин публикует Материализм и эмпириокритицизм в 1909 году
Ленин пишет «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» с февраля по октябрь 1908 года (в Женеве, с библиографическим визитом в мае в Британский музей в Лондоне), и книга выходит в печать в Москве в мае 1909 года. После Октябрьской революции 1917 года, со вторым изданием книги в 1920 году с новым предисловием Ленина, и с созданием СССР в 1922 году и Института Ленина в 1923-м, со смертью Ленина в 1924 году и VI конгрессом Коминтерна в 1928 году и проч., это «гениальное произведение В. И. Ленина, которое знаменует новую эпоху в развитии философии диалектического материализма» (см. статью «Материализм и эмпириокритицизм» в Советском философском словаре) становится догмой управляемой философии в СССР и, будучи переведено на множество языков, получает поразительно широкое распространение по всему миру, пока коммунистская агитпропа — а также и антикоммунистская — сохраняли свою силу. Существует множество версий и изданий на испанском языке книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», начиная с опубликованной в 1930 году издательством Ediciones Jasón в «переводе Асиса де Родаса», псевдониме, который, как мы предполагаем, соответствует Аугусто Рьере-и-Солю. Удивительным остаётся факт выхода по меньшей мере шестнадцати испаноязычных изданий в 1970-е годы, семь из них — в 1974 году (за год до смерти Франко четыре вышли в Испании, три других — в Буэнос-Айресе, Мехико и Пекине): очевидно, не все они были санкционированы Москвой, некоторые — да, в рамках Холодной войны…
«Произведение Ленина О значении воинствующего материализма определило основные задачи марксистской философии в её борьбе против буржуазной философии и религии. Страна перешла к Новой экономической политике. В этих условиях ожили надежды на реставрацию капитализма в России — среди буржуазных элементов внутри страны и внешних контрреволюционных сил. Идеологическая борьба обострилась. “Сменовеховство” — новая форма буржуазной идеологии — распространяло, как и другие противники марксизма (Бердяев, Лосский, Радлов, Питирим Сорокин и др.), реакционные и идеалистические воззрения и всеми средствами клеветало на марксизм. Коммунистическая партия вела решительную борьбу против реставрационной буржуазной идеологии. На XI съезде партии Ленин разоблачил реакционный характер сменовеховства. Статья Ленина О значении воинствующего материализма появилась в журнале Под знаменем марксизма в 1922 году. В ней формулируются следующие важнейшие задачи марксистских философов: установить союз коммунистических философов со всеми материалистами для борьбы с идеализмом и дальнейшей разработки материалистической философии; установить союз коммунистических философов с представителями современных естественных наук для философского обобщения новых научных открытий и борьбы против идеализма; осуществить дальнейшую разработку материалистической диалектики, исходя из обобщения данных современной науки и истории; активизировать пропаганду атеизма.»
(История марксистско-ленинской философии и её борьба с буржуазной философией, гл. IX, Москва, 1978, стр. 281–282)
Один из самых широко распространённых философских словарей XX века — составленный Марком Моисеевичем Розенталем (1906–1975) и Павлом Юдиным (1899–1968), первая русская редакция которого вышла в 1939 году под заглавием Краткий философский словарь. Уже в 1946 году он был опубликован на испанском языке под названием Марксистский философский словарь, в 1948 — на китайском, в 1949 — на английском, в 1954 — на иврите, в 1955 — на польском и румынском и т. д. Русское издание 1955 года, вышедшее после смерти Сталина, но до XX съезда, было издано по-испански в 1959 году под названием Краткий философский словарь, ещё не полностью десталинизированное. Третья испаноязычная версия, уже адаптированная к официальной философии, принятой по результатам XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза (17–31 октября 1961 года), получила широкое распространение. Этот Философский словарь, подготовленный Розенталем и Юдиным, переиздавался на испанском языке многократно в течение двух десятилетий: Монтевидео 1965, Росарио 1967, Сан-Сальвадор 1971, Мадрид 1975, Гавана 1981, Гуантанамо 1985 и т. д. После смерти Розенталя и Юдина стала распространяться из Москвы другая испанская редакция этой работы, изданная И. Т. Фроловым: Словарь по философии.
Под заглавием Советский философский словарь проект Философия по-испански предоставляет объединённый текст этих четырёх версий, облегчая тем самым знакомство с ортодоксией (и её правками), которую диалектический материализм представлял для миллионов людей: «Материя», «Материализм», «Материализм естественнонаучный», «Материализм диалектический», «Материализм экономический», «Материализм стихийный», «Марксистский философский материализм», «Французский материализм XVIII века», «Географический материализм», «Исторический материализм», «Механистический материализм», «Метафизический материализм», «Вульгарный материализм», «Материализм и эмпириокритицизм». [Обратите внимание, что статьи «Политический материализм» нет.] Начиная с конца 1950-х годов, широкое распространение получили учебные пособия, подписанные Константиновым: Исторический материализм и Основы марксистской философии, подготовленные Институтом философии АН СССР и немедленно переведённые на испанский язык. Однако доктрина не была неизменной и могла подвергаться правкам и в различных её испаноязычных изданиях. См. в качестве примера главу III «Материя и её основные формы существования» из части I — Диалектический материализм, где московское издание 1977 года, приведённое в соответствие с резолюциями XXV съезда КПСС (24 февраля — 5 марта 1976), содержит любопытные различия с кубинскими изданиями (Гавана 1977, 1986, 1987, 1988), которые заслуживают, в качестве развлечения для герменевтов, публикации в виде параллельного издания в двух колонках.
Буэно публикует Материалистические эссе в 1972 году
В сентябре 1972 года Густаво Буэно публикует книгу Материалистические эссе (Ensayos materialistas), которая становится основным отправным пунктом философской системы, постепенно кристаллизующейся в последующие годы и ставшей известной как философский материализм. Философский материализм, возможно, имеет с традиционными материализмами лишь одно общее — отрицание спиритуализма, то есть отрицание существования духовных субстанций. Правда, когда эти духовные субстанции определяются как нематериальные, мы почти не продвигаемся вперёд в определении материализма, ибо попросту утверждаем реальность неких нематериальных субстанций, не определяя их предварительно. А если вместо того чтобы определять духовные субстанции как нематериальные, мы определяем их как бестелесные, тогда мы предполагаем, что материализм есть корпореизм — тезис, который философский материализм решительно отвергает, поскольку он допускает существование материальных, но бестелесных сущностей (расстояние между двумя телами, безусловно, есть реальное отношение, столь же реальное, как и тела, между которыми оно устанавливается, но оно не является телесным, и также не является «умственным»).
Поэтому философский материализм считает необходимым — чтобы разорвать этот порочный круг (духовная субстанция — это нематериальная субстанция, а материальная субстанция — это недуховная) — обратиться к третьей идее, а именно к идее Жизни, определяя духовную субстанцию как бестелесную живую субстанцию. Материализм, в общем, можно тогда определить как отрицание существования и возможности бестелесных живых субстанций. Такое определение материализма позволяет включить атомизм Демокрита; но атомизм Демокрита есть корпореизм, поскольку он отождествляет бестелесное с небытием, с пустотой; по этой причине философский материализм не имеет ничего общего с атомизмом Демокрита, возрождённым в XVII–XVIII веках в форме, которая блокировала развитие современной науки, и особенно химии, которая смогла продвинуться вперёд, лишь «разбив» атом. Но помимо Демокрита, традиционный материализм развивался как монистский корпореистский материализм — и это была наиболее распространённая его форма в XIX и XX веках (Бюхнер, Молешотт, Оствальд, Геккель, Маркс, Энгельс, Моно и др.). Философский материализм имеет очень мало общего с этим традиционным материализмом.
Философский материализм отвергает монизм, поскольку отстаивает онтологический плюрализм — плюрализм, который не сводится к признанию различий между сущими, а утверждает существование непреодолимых разрывов между ними (опираясь на принцип разрывности, содержащийся в платоновской симплоке, согласно которой «не всё связано со всем»); и в этом он отличается от традиционного монистского материализма, который, подобно теологическому монотеистическому монизму, утверждает, что «всё связано со всем». Философский материализм отвергает корпореизм, поскольку, помимо телесных реальностей (включённых в первый род материальности), он признаёт реальность второго рода материальности — бестелесной, но временной (например, боль при аппендиците), а также третьего рода материальности — внепространственной и вневременной (такой, как, например, математическая теорема).
Философский материализм также использует понятие онтологической Материи в целом как чистого множества, которое даётся по отношению к миру явлений, лизологически (по способу состава) организованному через три рода материальности (перворожденная материальность, второрожденная материальность и третьерожденная материальность), но морфологически организованному в соответствии с различными платформами (неорганическая материя, органическая материя, живая материя, социальная материя, этологическая, антропологическая или институциональная материя) и категориями, установленными на основании позитивных наук. «Философский словарь. Руководство по философскому материализму» (Diccionario filosófico. Manual de materialismo filosófico) Пелайо Гарсия Сьерры предлагает аналитическое введение в философский материализм до 1999 года. В октябре 2003 года Шарон Кальдерон Гордо публикует статью «Мурсийский конгресс и волны философского материализма», в которой излагается идея о волнах, которые уже можно было различить в эволюции философского материализма. Начиная с 2007 года журнал El Basilisco, основанный Густаво Буэно в 1978 году, изменяет подзаголовок, который он носил с момента основания, и начинает называться: El Basilisco, revista de materialismo filosófico (Эль Басилиско, журнал философского материализма).
