
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Версия на украинском и английском языках
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
Как мы уже говорили в предыдущей статье этого цикла, мы разделили проторенессанс Европы, в нашем его понимании, на две крупные части, датируя их по времени правления императоров Священной Римской Империи. В прошлый раз мы говорили про оттоновскую и салическую династии, охватывающие 962-1125 годы. В этот раз речь пойдет преимущественно о времени правления династии Гогенштауфенов, и этот период начинается сразу после смерти последнего императора из салической династии (Генриха V). Здесь мы охватываем промежуток всего в 130 лет, примерно с 1125 по 1254 гг. Это период нового витка борьбы между папами и императорами, в ходе которой на территории Италии развернется полноценная и долгоиграющая война за контроль над Северной Италией, битва гвельфов и гибеллинов. Создаются еретические движения, предвосхищающие протестантизм и критикующие официальную церковь, и впервые против них начинает применяться жесткий аппарат репрессий, массовых казней и т.д. В этот же период начнется активная фаза коммунальных революций, развития городских центров и отчетливо секуляризированной культуры. Наконец-то возникают полноценные университеты, полноценная схоластическая философия, полноценные литературные жанры, такие как куртуазная поэзия и куртуазный роман, новеллы и т.д. Возникает поэзия Вагантов, в полный рост становится вопрос борьбы за национальные языки и против господства латыни (на сей раз даже в Италии, где влияние Рима наиболее сильно). Общеевропейский архитектурный стиль романизма, являющийся скорее региональной версией поздне-римского и византийского искусства, наконец-то сменяется готикой, которая не имеет аналогов и является чисто европейским стилем без оговорок. Это, и много чего ещё (развитие алхимии, ремесел и т.д.), делает рассматриваемый нами период слишком сложным, чтобы привести всех его деятелей в таком же виде, как в первой части этой статьи. Нам все же придется идти на сокращения, и фокусироваться на основных представителях и главных событиях. Этот крупный период мы разобьём на две части, в первой будет идти речь про времена правления двух императоров и короля Германии, который занял период междуцарствия:
- Лотарь II (1125-1137) — не из Гогенштауфенов
- Конрад III (1138-1151)
- Фридрих I Барбаросса (1152-1190)
Некоторые из деятелей прошлой, оттоновско-салической эпохи, доживут до периода Гогенштауфенов и ещё будут активно действовать. Некоторых представителей этого переходного периода мы не затронули в прошлый раз, и затронем теперь, а многих придется упустить, ибо теперь известных писателей стало гораздо больше, чем век назад. Для тех, кто не готов читать эту чисто-техническую компиляцию из фамилий, предлагаем посмотреть только краткие итоги по первому периоду, или сразу общий итог всей статьи.
Первое поколение эпохи Гогенштауфенов (1125-1190)
Германия
Итак, мы начнем с Германии. Здесь одним из крупнейших авторов в этом поколении считается племянник Генриха V, последнего императора из салической династии, а также брат Конрада III и дядя императора Фридриха I Барбароссы из династии Гогенштауфенов — хронист Оттон Фрейзингский (1112-1158). Он изучал философию и богословие в Париже и Шартре; позже в Баварии популяризировал парижскую схоластику и философию Аристотеля. Он также принимал участие во 2-м крестовом походе, сопровождая короля Конрада, и регулярно выступал в качестве посредника между императорами и папой. Своей «Хроникой о двух государствах» в 7 книгах, доведенной до 1146 года и продолженной до 1209 года Оттоном Санкт-Блазиенским, а также «Деяниями императора Фридриха I», Оттон заслужил почётное место среди немецких историков Средневековья, став создателем первой со времен Евсевия Кессарийского философской интерпретации всемирной истории. В книге о двух государствах, имелись ввиду конечно государство мирян (Вавилон, Империя) и государство духа (Иерусалим, Папство). И здесь Оттон последовательно выступал за мир между этими царствами. Выступая в качестве идеолога Священной Римской империи, и вдохновляясь идеей «четырёх монархий» Иеронима Стридонского, Оттон выдвигает постулат «переноса власти», согласно которой владычество над миром «передано» было самим богом от римских императоров сначала Византии, затем Карлу Великому (800), а затем германскому императору Оттону I (962), начинания которого продолжили его преемники вплоть до Фридриха Барбароссы, которого он считал 94-м императором со времен Августа. После четвертой передачи власти должен будет наступить Апокалипсис, а его первыми нотками стал конфликт папы Григория VII и императора Генриха IV. Книга Оттона про Барбароссу не ограничивается германскими делами, так как автор отвлекается, например, чтобы рассказать о проповеди архи-мракобеса Бернарда Клервосского, о его рвении против еретиков и об осуждении и преследовании Пьера Абеляра. Эти события, о которых мы напишем ниже, как видим, взбудоражили всю Европу, и достигли даже немецких владений.
Младший современник Оттона, Гонорий Августодунский (1080-1154), автор всемирной энциклопедии «Об образе мира», популярной космологии и географии, объединённой с хроникой всемирной истории. Она была переведена на многие языки и пользовалась популярностью на протяжении всего средневековья. В ней, помимо прочего, содержалась схема того, как работают ангелы-хранители. По всей видимости, в молодости Гонорий много странствовал, и около 1100 года он наконец осел в английском Кентербери, где учился у самого Ансельма, а затем снова перебрался в южную Германию, в Регенсбург. Известны названия не менее 38 трудов Гонория на самые разные тематики, но из важного назовем лишь Комментарий к «Тимею» Платона, и книгу «Философия мира», в которой с позиции тогдашней схоластики рассматриваются важнейшие теологические проблемы и вопросы мироздания. А также трактат «Неизбежность», написанный в Англии диалог о божественном предопределении и свободе воли, в основу которого положен трактат Ансельма Кентерберийского «De concordia praescientiae et praedestinationis». Ещё один хронист, Гельмольд из Босау (1120-1177) написал «Славянскую хронику», относительно важный источник, описывающий дохристианскую и раннюю христианскую эпоху в жизни полабских славян в период немецкого переселения за Эльбу. А хронист Ансельм Хафельбергский (1099-1158) из Льежской школы, выполнял по сути роль официального посла Империи в страны восточной Европы и Византии. Хотя он и был обычным историком, но его чисто-богословские рассуждения поспособствовали утверждению раскола христианства на католицизм и православие. Кроме того, что он работал в Германии, стоит также отметить и связи с Италией, поскольку он был архиепископом Равенны с 1155 по 1158 год, и в конечном итоге умер в Милане. Из философов и ученых, помимо Оттона, выделяется Рудольф из Брюгге (1100-1170), фламандский астроном и переводчик текстов с арабского на латынь. Он был учеником Германа Каринтийского (Хорватия/Италия), и членом Толедской школы переводчиков, о которых мы ещё будем говорить дальше. Рудольф перевёл на латынь «Liber de compositione astrolabii», важнейший труд исламской науки об астролябии, написанный Масламой ибн Ахмадом аль-Маджрити, который он посвятил своему коллеге Иоанну Севильскому. В 1144 году в Тулузе перевел с арабского языка на латинский «Планисфериум» Клавдия Птолемея. Но как и Гонорий, Рудольф тоже был вынужден искать знаний за пределами Германии.
Ещё в этом регионе выделяется группа писателей, подражавших возникшей во Франции поэзии трубадуров. Создаются первые рыцарские романы. В Германии местные трубадуры носили название миннезингеры, и поэтому период их творчества в немецкой литературе называется Миннезанг (букв. «любовная песня»). В отличие от провансальской и северофранцузской лирики, чувственность и гедонизм в миннезанге несколько более сдержанны и играют значительно меньшую роль. Немецкая рыцарская поэзия умозрительна и морализованна, многие произведения имеют религиозный оттенок. Уже здесь проявляется то, что будет сказываться на немецкой культуре вплоть до XVIII-XIX веков, её выраженный консерватизм в противопоставлении с Францией. Но в целом, в своих произведениях миннезингеры точно также воспевали рыцарскую любовь к Прекрасной Даме, служение Богу и сюзерену. Изначально термин миннезанг использовался только для обозначения песен, связанных с куртуазной любовью, однако позднее распространился на всю сопровождаемую музыкой поэзию, и стал включать также и песни на политические, моральные и религиозные темы. Все миннезингеры, как и их французские коллеги, писали на диалектах своего народного языка, в данном случае немецкого, и иногда сознательно противопоставляли немецкоязычную литературу тому, что написано на латыни (ср. будущие конфликты романтиков и классицистов). В дальнейшем мы будем называть все подобные типы поэзии — поэзией трубадуров, и северо-французских труверов, и немецких миннезингеров, и всех кто ещё появится, ибо так намного удобнее. Самыми ранними представителями немецких трубадуров в Германии являются Кюренберг (1115-1180), Дитмар фон Айст (1115-1171), Мейнлох фон Сефелинген (ок. 1110-1170) и Сперфогель (ок. 1130-1200). Некоторые стихи Дитмара написаны от лица женщины, и она в этих отношениях — сильная сторона и может, например, сама выбирать себе партнёра. Но этот период считается ещё более-менее самобытным, основанным на народном творчестве немцев. Прямое влияние французских трубадуров начинает проявляться уже во второй период, ранними представителями которого считаются Генрих фон Фельдеке (1130-1195) и Фридирих фон Хаузен (1140-1190). Первое произведение Фельдеке — «Серваций» (1170) представляет собой переложение в стихах на народном (лимбургском) диалекте латинского жития святого Серватия. В куртуазном эпосе «Энеида», по сюжету анонимного французского романа «Roman d’Eneas», Фельдеке рассказывает античную историю любви Энея к Дидоне и Лавинии, но уже на современном автору фоне рыцарского быта. «Энеида» считается первым куртуазным романом на немецком языке. Единственное что тут нужно учитывать, что чисто технически Фельдеке был немецкоязычным жителем Бельгии, и в ретроспективе его можно считать бельгийским автором. Второй из них, Хаузен, был приближенным императоров, участвовал в крестовых походах как рыцарь, и погиб в сражении на Ближнем Востоке. В общем и писал он песни на тему крестовых походов, подражая другому крестоносцу и трубадуру из Франции, Конону де Бетюну (о нем дальше). В 1180-1190-х годах это поэтическое движение распространяется на восток, и к концу XII века охватывает всю Германию. Всех его представителей мы не станем перечислять, тем более что их несколько десятков, но некоторых самых крупных рассмотрим уже в следующем периоде.
С другой стороны, мракобесие тоже никуда не пропало, и в этом плане Германия прославлена двумя писательницами, достойными друг друга. Более жесткая из них, Элизабет фон Шёнау (1129-1164), мракобеска и мистик, которая прославилась своими пророческими видениями. Ее главное сочинение так и называется: «Книга видений». Элизабет не отличалась здоровьем, тяжело болела, но всегда оставалась верной монашескому аскетизму. Известно, что её видения начались в 1152 году. Она входила в изменённое, экстатическое состояние, которое могло длиться по нескольку недель, вплоть до потери сознания. Согласно Елизавете, это было время общения с Господом, Божией Матерью и святыми. Написанная Элизабет «Книга путей Божиих» (1156-1163) напоминает сочинение её подруги Хильдегарды Бингенской (1098-1179) ещё одной мистической мракобески, которая была значительно старше по возрасту. Хильдегарда тоже была автором пророческих видений, изложенных в книге «Познай пути света». Но в отличии от Элизабет, она не только записывала свои припадки бреда, но оставила несколько трудов по естествознанию и медицине, и сочиняла музыку на собственные стихи. Среди её работ следует назвать «Книгу о внутренней сущности различных природных созданий», разделенную на две части: «Книга о простой медицине» и «Книга о сложной медицине». В первой описываются растения, минералы, деревья, камни, животные и металлы с присущими им лечебными и нелечебными свойствами. Во второй она обращается к человеческому телу, его органам и функциям, причинам и методам лечения болезней, описывает лечебное действие различных трав, в том числе, например, конопли. Так что кое-какое развитие культуры в Германии все же происходит, хотя большинство немецких интеллектуалов просто переезжали в те мета, где получали образование (в основном в Италию и Францию).

Франция
Во Франции, как мы уже видели в прошлом разделе, возникают почти все ноу-хау эпохи. Здесь формируются первые схоластические школы, первые споры номиналистов и реалистов; это здесь сначала формируются первые формы романской архитектуры, и здесь же возникают первые примеры готической архитектуры. Во Франции появляется куртуазный роман, поэзия трубадуров и труверов, и даже первые масштабные ереси в христианстве. Отсюда же началась и клюнийская реформа монастырей. Почти во всех отношениях Франция оказывается передовым регионом Европы, задающий моду для всех остальных стран. Разве что переводы с арабского здесь появились позже, чем в Испании и Италии (а ещё Италия обошла французов в вопросах юриспруденции, медицины и реформы музыки, но в этом веке Франция выйдет вперед и здесь). Для начала упомянем местных трубадуров и труверов, раз уж здесь это движение возникло ещё в конце предыдущего столетия. Один из этих поэтов сильно выделяется из общей массы. Начиная свою карьеру как трубадур, Кретьен де Труа (1135-1190) вскоре превратился в первого писателя, произведения которого без сомнений называют «романами». Он стал самым крупным и всемирно известным автором рыцарских романов, основал цикл произведений о короле Артуре (бретонский цикл), при дворе которого было основано братство рыцарей Круглого стола. Впервые обработал легенду о религиозно значимом сокрытом, но желанном и недостижимом объекте — Граале. Из сохранившихся сочинений Кретьен де Труа известны 2 песни, 5 рыцарских романов и 2 поэмы: «Филомена» и «Вильгельм Английский». Все 5 дошедших до нас романов писателя написаны на старофранцузском языке восьмисложными стихами с парной рифмой. Сохранившиеся его романы «Эрек и Энида», «Клижес» (где затрагивается история Тристана и Изольды), «Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивэйн, или Рыцарь со львом» и «Персеваль, или Повесть о Граале» стали одними из самых известных произведений средневековой литературы, и превратили французский язык почти в основной язык художественной литературы на ближайшие столетия. Поэма «Филомена» была прямым подражанием на «Метаморфозы» Овидия, влияние которого сказывается на всех произведениях Кретьена. Позже мы увидим прямые переработки романов Кретьена среди немецких авторов.
Среди известных французских трубадуров Маркабрюн (1100-1155) оставил приблизительно 43 произведения, преимущественно сатирического характера. Он автор первой дошедшей до нас средневековой пасторали. Маркабрюн первый из трубадуров поднимает тему морали, падения нравов. В своих сирвентах он обличает похотливость женщин и критикует куртуазную любовь. А в латинском произведении Pax in nomine Domini! он воспевает Испанию как место, где воины очищают душу в сражениях с неверными. Для его произведений характерны грубый, приниженный язык, сложная форма, образы, не всегда поддающиеся расшифровке. Поэтому он считается основателем тёмного стиля провансальской поэзии (этот стиль должен был быть доступен только посвященным, элитной группе людей). Кроме него существовал легкий стиль и позже возник особый изысканный стиль, которые и были наиболее распространёнными. В темном стиле писал Гираут де Борнель (1138-1215), но при этом ему приписывают если не изобретение «лёгкой манеры» (т.е. общедоступной) поэзии трубадуров, то по крайней мере формулировку основных принципов этого стилистического направления. В знаменитом партимене с Раймбаутом Оранским о достоинствах и недостатках двух стилей Гирауту де Борнелю выпало защищать именно «лёгкую манеру». В дискуссии Борнель отмечает, что сочинение в простой манере требует не меньшего мастерства, чем песня, созданная для узкого круга посвящённых. Стихи Гираута де Борнеля ценил равно как Петрарка, так и Данте, отозвавшийся в своём трактате «О народном красноречии» о трубадуре, как поэте, воспевшем прямодушие, в своей «Комедии» он поместил его в Рай. Трубадур Жофре Рюдель (1113-1170), участник второго крестового похода, писал в основном на тему «дальней любви» и разлуки с возлюбленной, что отчасти связанно и с участием в походе. Трувер (т.е. трубадур из северной Франции) Конон де Бетюн (1150-1219) уже был упомянут нами выше в связи с немецкими последователями, как очередной поэт-рыцарь, участвующий в 3-м и 4-м крестовых походах, и сделавший сами военные походы основной темой своего творчества. Помимо этого он даже был регентом Латинской империи (католической версии Византии после захвата Константинополя крестоносцами). Уже в основанных королевствах крестоносцев, а именно в Иерусалимском королевстве родился и активно работал важнейший летописец крестовых походов Гильом де Тир (1130-1186), которого можно считать французом по национальности. Его главная книга: «История священной войны христианских государей в Палестине и на Востоке» представляет собой добросовестный отчёт о виденном и слышанном из первых рук. Это наиболее полное изо всех сочинений по истории крестовых походов, излагающее события начиная с экспедиции против персов византийского императора Ираклия I по 1184 год, особенно подробно освещает события первого и второго крестовых походов. Участник 4-го крестового похода Рамбальд де Вакейрас (1180-1207) большую часть своего творчества провел при дворах итальянских феодалов, и распространял новый стиль поэзии в Италии.
Трубадур Арнаут Даниэль (1150-1210) жил в конце XII века при дворе английского короля Ричарда I, распространяя новый стиль в Англии. Творчество Даниэля — расцвет тёмного стиля. Его лирика туманна, а стихи тяжеловесны. Дворянин по рождению, он получил неплохое образование, но, как сообщает его средневековая «биография», «оставил науки ради пения». Средневековый автор его жизнеописания замечает, что он «избрал род сочинения в изысканных рифмах, так что песни его нелегко ни понять, ни запомнить». Но Данте высоко ценил его рыцарско-придворные песни и называл Даниэля «первым певцом любви». В XXVI песне «Чистилища» «Божественной комедии» от лица поэта Гвидо Гвиницелли он называет Даниэля лучшим поэтом. Также французскую поэзию в Англии популяризовала одна из самых известных средневековых поэтесс XII века, и одна из первых поэтесс во Франции — Мария Французская (1160-1210). Она считается автором сборников «Лэ Мари де Франс» и «Басни», поэмы «Чистилище Святого Патрика», а также агиографического сочинения «Житие Святой Одри», написанных на англо-нормандском языке. Несмотря на то, что она считается француженкой, но находясь на территории подконтрольной английскому королю, она большую часть своей жизни провела в самой Англии. Получив известность в придворных кругах, она завоевала себе непререкаемый авторитет у ценителей поэзии. Как писал один из современников монах-бенедиктинец Денис Пирамус, автор «Жития святого короля Эдмунда»:
«Её стихи, любят везде, ибо графы, бароны и рыцари крайне восхищаются ими и нежно их любят. Они обожают то, что она так много пишет, и находят в этом огромное удовольствие, часто читают и переписывают ее сочинения. Лэ призваны доставить удовольствие дамам, слушающим их с наслаждением, потому что в этих стихах отражены стремления их сердец».
Одно из лэ Марии, «Ланваль», было положено в основу романса из «Рассказа франклина» цикла «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера. Также среди женщин писательниц во Франции можно было бы выделить возлюбленную Пьера Абеляра, знаменитую Элоизу (1100-1064), которая была неплохо образована, читала философские книги, знала латинский, греческий и древнееврейский языки, но она не оставила практически никакого писаного наследия. Но зато Элоиза часто использовалась как символ той самой Дамы, только чаще не в среде куртуазной поэзии трубадуров, а в пародиях поэзии Вагантов (о чем дальше), которые больше ценили в дамах образованность, чем знатность. Менее известная, но более значимая писательница (и художница) из Франции, но все же принадлежавшая к немецкоязычной культуре — Геррада Ландсбергская (1130-1195), настоятельница женского аббатства Гогенбург, пользовавшаяся покровительством императора Фридриха Барбароссы, она же автор иллюстрированной энциклопедии «Сад наслаждений» (Hortus deliciarum, 1175), написанной на латинском языке — компендиума различных знаний, который содержит свыше 300 аллегорических миниатюр, выполненных самой Геррадой.
Если с романами и поэзией Франция явно занимает теперь передовые позиции, то в плане философии ситуация сильно осложнилась, в связи с чрезмерным господством теологов. Процессы против Абеляра не прошли даром, и нанесли философии серьезный урон. Кроме того, Франция по началу почти не участвует в активной переводческой деятельности, считая арабские сочинения слишком приземлёнными, материалистическими, и способными вызывать в рядах христиан опасные ереси (см. дальше). Тенденции клюнийской реформы восторжествовали. Из французских философов этого периода первым мы назовем Пьера Ломбардского (1100-1160). И как не трудно определить по его имени, он происходил из северной Италии (так что технически это итальянский философ). Но все же почти всю сознательную жизнь работал во Франции. Он проходил обучение у эталонных мракобесов и «реалистов» по вопросам универсалий — Бернарда Клервосского и учеников Ансельма Лаонского, но в какой-то момент также слушал лекции Абеляра в Париже и в Шартре. Сам он занимал все же позицию умеренного реализма, а из текстов Абеляра заимствовал скорее диалектический метод изложения. Его богословские труды заложили основы учения о пресуществлении, которое позже было утверждено в качестве догмата Церкви на Четвертом Латеранском соборе (1215). Главное сочинение Пьера Ломбардского — «Сентенции», стало стандартным учебником теологии в средневековых университетах, по которой существовал даже отдельный курс, и стала основной моделью для популярного впоследствии жанра «сумма». С 1220-х годов до XVI-го века, ни одно произведение христианской литературы, за исключением самой Библии, не комментировалось так часто. Даже «Сумма теологии» Фомы Аквинского, написанная около 1270 года, не затмевала «Сентенции» по важности до примерно XVI-го века. Все основные средневековые мыслители в Западной Европе, от Альберта Великого и Фомы Аквинского до Уильяма Оккама и Габриэля Биля, находились под ее влиянием. Даже молодой Мартин Лютер все еще писал глоссы к «Сентенциям», а Жан Кальвин цитировал ее более 100 раз в своих «Наставлениях». Рядом с Пьером Ломбардским стоит Гильберт Порретанский (1085-1154), который тоже преподавал в Париже и Шартре, был сторонником умеренного реализма и критиковал концептуализм Абеляра. При этом, несмотря на открытую полемику с Абеляром, он также активно боролся против Бернарда Клервосского, пытавшегося обвинить Гильберта в ереси. Уже только поэтому он достоин хотя бы некоторого уважения потомков. Любой враг Бернарда Клервосского — почти гарантированно адекватный человек. Гильберт известен своими комментариями к Боэцию, и тем, что его последователи-реалисты назывались даже группой «порретане». Но единственным крупным французским философом, кто прямо выступил в защиту Абеляра от преследований, стал Пётр Достопочтенный (1094-1156). С одной стороны, он учился в самом сердце общеевропейского мракобесия (Клюни), и позже даже стал аббатом Клюнийского монастыря, пытаясь составлять конкуренцию Бернарду и поддерживать имидж главного центра аскетизма Европы. С другой же стороны, кроме того, что он помогал Абеляру, защищал его и укрывал, Пётр также связан с общеевропейским движением переводчиков, сконцентрированном в Толедо. Особое значение для европейской богословской мысли имел выполненный по его просьбе Робертом Кеттонским первый в истории перевод Корана на латынь. Пётр был сторонником изучения ислама на основе его собственных источников, и не только заказал всеобъемлющий перевод корпуса мусульманских текстов, но и сам в 1142 году отправился в Испанию, где встретился со своими переводчиками. Самому же Петру Достопочтенному принадлежит апологетическое сочинение «Summula quaedam brevis», где он защищает основные положения христианства от исламской критики. В этих трудах Пётр изображает ислам как христианскую ересь, граничащую с язычеством.
Шартрская школа продолжает быть главным центром учености, и центром неоплатонизма в духе арабской философии. Иногда братом Бернара Шартрского, крупного представителя этой школы в прошлом поколении, считают его наследника по управлению школой Тьерри Шартрского (ум. 1150). Он тоже известен своим повышенным интересом к «Тимею» Платона и применением философии к теологическим вопросам. Тьерри написал несколько комментариев к трактату Боэция «О Троице» и книгу «Семикнижие» – энциклопедию сведений по свободным искусствам. В ней подробно рассматриваются способы различения видов знания, при этом преследуя единую цель: объяснение порядка в реальности. Тривиум (логика, грамматика и риторика) отвечает за достоверность, последовательность и красоту языка изложения. Квадривиум (геометрия, астрономия, арифметика и музыка) представляет интеллектуальное содержание, требующее выражения. Но его главное произведение — «Гексамерон», где он интерпретирует Книгу Бытия со ссылкой на «Тимей». Текст служит обоснованной защитой существования Бога, опираясь на платоновскую натурфилософию и аристотелевскую логику для объяснения сотворения мира. Тьерри устанавливает, что момент божественного творения был самым началом времени, и после этого творение развивалось естественным образом посредством сочетания четырех элементов (огня, воздуха, воды и земли). По мнению Тьерри, Бог создал четыре элемента в первый момент. Огонь, который постоянно движется, вращался и освещал воздух, вызывая первую ночь и день. На второй день огонь нагрел воду, заставив ее подняться на небеса и образовать облака. Из-за уменьшения количества воды на третий день возникла суша. Продолжающееся нагревание вод над твердью заставило воду создать небесные тела на четвертый день. Продолжающееся нагревание земли привело к возникновению растительной, животной и человеческой жизни на пятый и шестой дни. Объяснение Тьерри сотворения мира основано на теологической интерпретации четырех причин Аристотеля, которые он отождествляет с тремя лицами Троицы и материей (состоящей из четырех элементов): Отец — действующая причина, Сын — формальная причина, Святой Дух — конечная причина и четыре элемента — материальная причина. По мнению Тьерри, акт божественного творения ограничивается созданием четырех элементов, которые затем развиваются сами по себе, смешиваются в математических пропорциях и составляют физический мир. Так, поразительным образом на основе неоплатонизма произрастает почти материалистический деизм и теория стихий в духе Эмпедокла/Аристотеля, аналогично тому, как в арабской Испании многие неоплатоники делали из этого вполне материалистические выводы, касаясь вопросов физики. Дальше, правда, эта физика подчинялась более глобальной конструкции, где она теряла всякую самостоятельность и растворялась в Боге, но все же этот вид неоплатонизма ещё можно считать относительно прогрессивным. Подхватив учение Тьерри, его развил несколько дальше Гильом из Конша (1090-1154), который обучался свободным искусствам в Шартрской школе философии и читал лекции по философии в Париже, отстаивая право свободного мышления. Гильом полагал, что платоновская философия, как учение о явленном и не явленном, при правильном истолковании не вступает в противоречие с христианской верой. Вера в божественное могущество не подразумевает, что Бог совершает какие-либо действия, не понятные разуму; в связи с этим методы богословия согласуются с философскими принципами. Мировая душа, описанная в платоновском «Тимее», есть то же, что и Святой Дух. В основе мировоззрения Гильома лежит натурализм и деизм в его средневековом понимании: мир создан Богом, но затем развивался на основе своих собственных законов, понять которые под силу человеческому разуму. В основе мироздания, согласно Гильому, заложены в качестве первичных элементов неощутимые и «понимаемые лишь через дробление разумом» атомы, которые не являются вечными. Различные сочетания атомов образуют четыре элемента: землю, воздух, воду и огонь. Гильом отвергал учение Аристотеля о пятом элементе, но принимал его доказательство сферичности Земли. От части своих учений ему пришлось отказаться под давлением архи-мракобеса Бернарда Клервосского. Из-за чрезмерной близости их учений, Тьерри из Шартра и Гильом из Конша могут рассматриваться в паре. Как мы увидим позже, их учение максимально созвучно арабским натуралистам и может считаться передовым на то время. Также тут стоит отметить также одну цитату из сочинений Гильома:
«Нет столь ложной школы, которая не имела бы некоторой примеси истины, хотя эта истина и затемняется примесью чего-нибудь ложного. И в самом деле, говоря что мир состоит из атомов, эпикурейцы говорили правду, однако их слова, что эти атомы безначальны и что, разделенные, они порхали в великой пустоте и что затем они объединились в четыре великих тела, — басня, ибо ничто, кроме Бога, не может быть безначальным и не имеющим своего места».
Также во Франции творит богослов Пьетро Коместор (1100-1178), автор «Схоластической истории», комментированного пересказа Библии, который стал одним из первых базовых университетских учебников XIII века и отличался новаторством в традиционном богословском образовании. В 1271 году эта книга была переложена на немецкий язык, при чем даже рифмованными стихами фламандским поэтом Якобом ван Марлантом, этот перевод будет назван «Рифмованной библией» (тут сразу и перевод на национальный язык, и коверкание формы, казалось бы, священного писания).
И если тут ещё можно сказать, что связи с Шартром оживляли философию и удерживали её от скатывания в чистое мракобесие, то уже такие деятели, как Гуго Сен-Викторский (1110-1173) и Ришар Сен-Викторский (1123–1173) в открытую предпочитали мистические трактовки религии. Что характерно, Гуго проходил обучение у самого жесткого и крайнего «реалиста» Франции, Гильйома де Шампо, а позже дружил и вел переписку с королем мракобесия Европы Бернардом Клервосским. Но если Гуго ещё пытался сочетать религиозную мистику с умозрительным мышлением и вообще был энциклопедически образован и разбирался кроме теологии ещё и в самых разных эмпирических науках, то Ришар уже отдался чистому полету религиозного бреда и ставил мистическое созерцание выше логического мышления. Гийом де Сен-Тьерри (1085–1148) вообще написал биографию своего любимого Бернарда Клервосского и сделал огромный вклад в то, чтобы Абеляр был наказан. В этом деле Ришара и Гийома дополнял Алан Лилльский (1128-1202). Конечно, Алан считался энциклопедически образованным человеком (прославился под кличкой Doctor Universalis), как и многие другие он учился в Париже и Шартре, но следы этой образованности совсем блеклые. Единственное что хоть немного выдает в нем ученого, это попытки примирения разума с верой, и конечно же на условиях веры. Но примирение с разумом это уже хотя бы не отрицание. В этом плане он в принципе мог быть соратником Тьерри и Гильома. Так, Алан утверждал, что разум, ведомый благоразумием, может самостоятельно открыть большинство истин о физическом мире; но для того, чтобы постичь религиозную истину и познать Бога, мудрец должен быть верующим. В сочинении «Плач Природы», написанной по модели Боэциева «Утешения Философией», Природа выступает наподобие платоновского демиурга (своеобразная форма пантеизма). Она является Алану в сновидении и объявляет себя наместницей Бога в деле творения, сошедшей на землю для борьбы с грехами пьянства, чревоугодия, гордыни и т.д. В окружении прибывающих, одного за другим, священнослужителей Природы в итоге объявляется отлучение от Природы и божественной Любви всех, кто погряз в смертных пороках. По оглашении этого декрета все Добродетели гасят лампады, и Алан пробуждается. Но если тут делается хоть небольшая лазейка для освобождения физических наук от вмешательства религии, то в остальном это типичный неоплатоник, который активно борется с ересями, защищает чистоту веры и в специальном сочинении критикует, среди прочего, мастурбацию и гомосексуализм. Фигура Алана Лилльского стоит где-то посередине между Сен-Викторским мракобесием и Шартрской школой.
Тем не менее, несмотря на наличие ярко выраженных деятелей-мракобесов во Франции, она же дает нам немало выдающихся просветителей, и по крайней мере их здесь больше, чем в Германии. Франция продолжает создавать новые явления в культуре, которые она экспортирует в другие страны, а не наоборот. Хотя и не так явно, как в Италии, Англии и Испании, но здесь появляются свои школы перевода с арабского, и особенно на юге, который близок с арабской культурой Испании. И если в XI веке Германия и Франция ещё конкурировали за культурную гегемонию, то в начале XII века немцы явно выбывают из гонки (при этом, как и раньше, большая часть заметных фигур в Германии происходили скорее из Бельгии и Нидерландов). Но теперь у Франции появляются конкуренты в других регионах, так что пока не стоит спешить с выводами о том, что Тьерри Шартрский или Гильом из Конша стали крупнейшими мыслителями Европы в этот период.
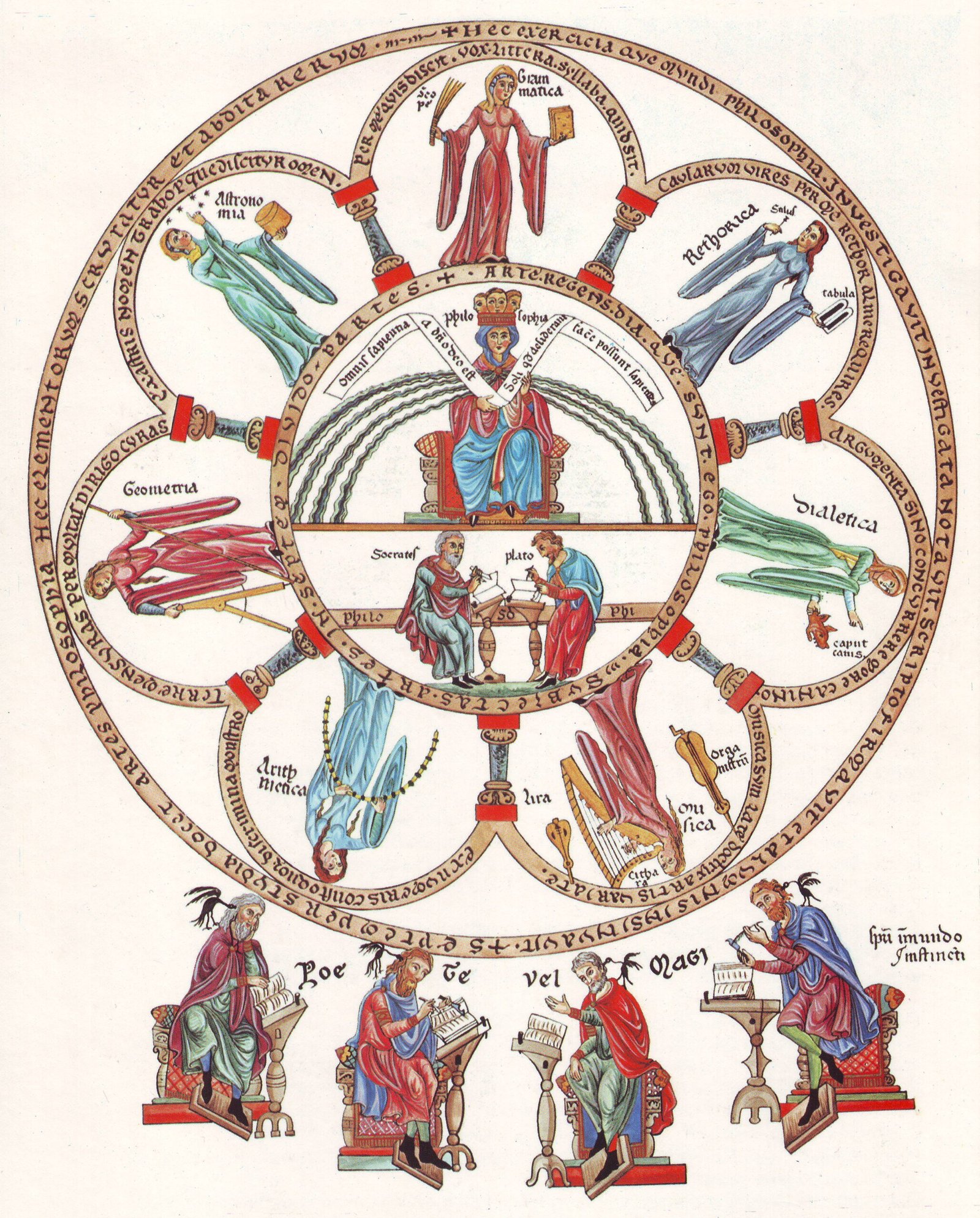
Италия
Среди мыслителей Италии крупнейший вклад в развитие науки Европы для первой половины XII века сделал писатель и переводчик Герард Кремонский (1114-1187) чье значительное количество переводов с арабского языка на латынь позволило переоткрыть многие научные сокровища античности, впоследствии интегрированные в мусульманскую цивилизацию, но утраченные на христианском Западе. Переводческая деятельность Герарда является частью более широкого движения по переводу греческих и арабских научных и философских трудов (т.н. Толедская школа; выше мы уже поминали Рудольфа из Брюгге и Петра Достопочтенного), которое имело место в XII веке в Испании и Италии. Около 1144 года Герард переехал в Толедо с целью изучения арабского языка. Главным его достижением считается перевод «Альмагеста» Птолемея, но он также переводил труды по философии, астрономии, математике и медицине, включая труды Гиппократа и Галена (всего несколько десятков сочинений). Его перевод «Канона» Авиценны, первый на Западе, имел значительное влияние. Полу-немецким, полу-итальянским переводчиком из этой же традиции был Герман Каринтийский (1105-1154), философ, астроном, астролог и математик родом из Истрии, который наряду с Аделардом Батским, Иоанном Севильским, Герардом Кремонским и Платоном Тиволийским стал важнейшим переводчиком арабских астрономических трудов XII века. Мало того, что он связан с передовой естественнонаучной школой, так перед этим он успел прослушать лекции Тьерри Шартрского, а потом отправился в путешествие на Восток, где выучил арабский язык, и только после этого направился в Толедскую школу, став одним из её самых ранних представителей и самых плодотворных сотрудников. Он участвовал в переводе «Начал» Евклида, «Планисфериума» Птолемея, и нескольких арабских книг по астрономии, астрологии и алхимии, на основе которых создал аналогичные собственные произведения. Также считается автором собственного сочинения «О сущностях», где рассматривает пять аристотелевских категорий (causa, motus, spatium, tempus, habitudo). Также заметной фигурой стал итальянский математик, астроном и астролог Платон Тиволийский (1110-1145), известный своими переводами на латынь с еврейского и арабского языков. Хотя мы отмечаем его среди итальянцев, но большую часть жизни он провёл в испанской Барселоне, где он сотрудничал с еврейским математиком Авраамом бар Хийей, чью «Книгу мер тел» он также перевёл на латынь. Благодаря его трудам в Италии стали известны некоторые сочинения Архимеда. Также он сделал перевод с арабского языка труда Птолемея «Альмагест» (параллельно с Герардом Кремонским или вместе с ним). Чрезвычайное значение имел также его перевод с арабского на латынь астрономического труда аль-Баттани.
В то же время северной Италии творит поэт и переводчик Моисей из Бергамо (ок. 1090-1160). В какой-то момент он переезжает в Венецию, налаживает связи с местными купцами и отправляется в Константинополь, обосновавшись там в венецианском квартале. Он жил в Константинополе, где был одним из первых западных европейцев, заинтересовавшихся коллекционированием греческих рукописей. Он известен своей «Liber Pergamensis» – поэтическим описанием города Бергамо в латинской поэзии. Это самый ранний из сохранившихся образцов этого жанра: патриотическое описание средневековой коммуны. Он также перевел несколько богословских сочинений с греческого на латынь, включая даже стихи Феогнида. Яков Венецианский (1080-1147) провёл несколько лет в Константинополе и перевёл «Вторую аналитику» Аристотеля с греческого на латынь в середине XII века, сделав тем самым полный аристотелевский логический корпус «Органон» впервые доступным на латыни. А также он перевёл «Физику», «О душе» и «Метафизику». Такую же роль моста между греческой и итальянской культурой выполнял Гуго Этериан (1115–1182) советник по делам западной церкви византийского императора Мануила Комнина. Он учился у Альберика (врага Абеляра) в Париже незадолго до 1146 года, затем находился в Константинополе примерно с 1165 по 1182 год. Он и его брат Лев Туск были тосканцами по происхождению, служившими при дворе Константинополя. Известен своими трактатами против еретиков. А крупнейшей фигурой периода, работавший на сближение Европы и Византии, был Николай Гидрунтский (1150-1235), приблизительно в 1219-1220 годах получил место настоятеля монастыря святого Николая в Казоле, рядом с Отранто. В 1223-1225 годах был послом императора Фридриха II Штауфена в Никее, при дворе императора Иоанна III Дуки Ватаца, а в 1232 году представлял греческие церкви Апулии на Папской курии. Возглавлял общество итало-византийских поэтов в родном Отранто. Свои произведения Николай Гидрунтский писал на греческом языке. Его сохранившееся поэтическое наследие представлено примерно 25 стихотворениями, написанными 12-сложником, представляющими собой короткие эпиграммы, адресатами которых были прежние настоятели возглавлявшегося им монастыря. Из прозаических произведений Николая Гидрунтского сохранились три «речи против латинян», написанные им на латинском и греческом языках. Эти речи были написаны им приблизительно в 1222-1225 годах; в них он рассуждает в догматической форме о превосходстве православного учения над римско-католическим, а также известен антисемитическими сочинениями. Перевёл несколько текстов, в основном литургических, с греческого на латынь и наоборот.
Копия «Альмагеста» Птолемея, ещё до переводов Герарда и Платона, была доставлена на Сицилию Генрихом Аристиппом (1105-1162), как дар от императора королю Вильгельму I. Сам Аристипп перевёл платоновские «Менон» и «Федон» на латынь, но право поехать на Сицилию и перевести «Альмагест», а также несколько произведений Евклида с греческого на латынь было предоставлено анонимному студенту из школы в Салерно. Хотя сицилийцы обычно переводили напрямую с греческого, в тех случаях, когда греческие тексты были недоступны, они переводили с арабского. Адмирал Евгений из Сицилии (1130-1202) перевёл на латынь «Оптику» Птолемея, опираясь на свое знание всех трёх языков, использованных в её тексте. Незадолго до активного всплеска переводов в XII веке, как мы уже писали раньше (см. предыдущую главу цикла), Константин Африканский, христианин из Карфагена, изучавший медицину в Египте, в конечном итоге стал монахом в монастыре Монте-Кассино в Италии, где активно переводил медицинские работы с арабского языка, и резко поднял авторитет медицинский школы в Салерно. Так что Генрих и Евгений прямо продолжали традиции переводов, начатые ещё Константином в прошлом веке. Сама же школа в Салерно продолжает работать в XII-XIII веках, и с ней связаны имена таких врачей, как Пьетро Барлиарио (1055-1148), который также был алхимиком и исследователем магических текстов арабской традиции. Ходили легенды, что за короткое время, благодаря сговору с дьяволом, он стал могущественным колдуном, настолько могущественным, что мог влюблять в себя самых красивых женщин с помощью особых магических зелий, превращать воду в вино и заставлять расти рога на головах тех, кто ему не нравился. Согласно ещё одной легенде, самым известным творением Барлиарио было строительство за одну штормовую ночь с помощью демонов средневекового акведука, который до сих пор существует в Салерно и называется «Чертовым мостом». Это внушительное сооружение, возведённое на скале и впервые с использованием стрельчатой арки, должно быть, произвело огромное впечатление на жителей Салерно, чьё воображение приписывало его строительство «дьявольской» руке. Это суеверие сохранялось по крайней мере до начала XX века, когда всё ещё считалось, что проход под арками в сумерках приведёт к встрече со злыми духами.
Из школы в Салерно также вышел Джованни ди Кастелломата (1180-1250), который вероятно был врачом папы Иннокентия III. Здесь же проходил обучение Рожерио Фругарди (1140-1210), сын врача из Палермо. В своих работах он опирался на учения византийцев Александра Траллийского и Павла Эгинского, но, безусловно, мог также изучать труды арабских хирургов, особенно перса Али ибн Аббаса аль-Маджуси. Ему приписывают важный хирургический трактат «Practica Chirurgiae» (1170), считающийся первым учебником по хирургии, написанным в Италии, который лег в основу средневековой хирургии и был принят другими великими хирургами, а также использовался в ранних университетах, таких как Болонский и Монпелье, известных своими медицинскими исследованиями (и вытеснивших Салерно в XIII веке). Маттеус Платеарий (1090-1161) и его брат Джованни Платеарий (1100-1170) считались сыновьями легендарной женщины-врача Тротулы из Салерно и авторами латинского манускрипта XII века о лекарственных травах под названием «Circa instans». Это был алфавитный список и учебник-травник, основанный на «Vulgaris» Диоскорида, в котором описывались внешний вид, приготовление и использование различных лекарств. Архиепископ Салерно, хронист и историк церкви Ромуальд Салернский (1115-1181) в юности тоже учился в Медицинской школе Салерно, где, помимо медицины, изучал богословие, право и историю. Рассматривая историю Сицилийского королевства, Ромуальд чётко разделяет в своём сочинении компетенции нормандской монархии, империи и папства. Алькадино Сиракузский (1160-1212) и Пётр Эболийский (1150-1220) стали двумя врачами из салернской школы приближенных ко двору Гогенштауфенов, занимавшиеся также философией и поэзией. Они воспевали правление императоров в своих произведениях и стихах. Петр Эболийский также написал дидактическую поэму «De balneis Puteolanis» («Термы Поццуоли»), которая стала первым широко распространённым путеводителем по термальным источникам, служившим оружием в экономическом соперничестве, возникшем в Южной Италии, из-за лечебных ванн и туристической индустрии. В общем, Салернская школа всё ещё действует и процветает.
Из чистых философов местного происхождения можно выделить религиозного реформатора и общественного деятеля из северной Италии по имени Арнольд Брешианский (1090-1155). Под влиянием Пьера Абеляра он проповедовал отказ от роскоши в церковной жизни и возврат к первоначальному христианству (до 150 н. э.), чем поставил своё учение в оппозицию римским папам. Вместе с Абеляром он повёл ожесточённую борьбу против высших иерархов церкви, лидером которых выступал король мракобесов Бернард Клервосский (как можно понять, спор шел не о пользе аскетизма, тут они сходились, а скорее про роль церкви и методы познания мира). После начала террора в отношении Абеляра, он тоже попал в опалу как сообщник, и из Франции Арнольд бежал в Германию. Но Бернар достал его и там, и добился изгнания из Баварии, после чего Арнольд выпросил прощения у Папы Римского. Это позволило Арнольду Брешианскому оказаться в Риме. В 1143 году он поддержал первые восстания горожан Рима против папства, а в 1145 году Арнольд уже пытался, во главе народной партии в Риме, воссоздать республику (события т.н. Римской коммуны, пытавшейся добиться в Риме такого же городского самоуправления как в Северной Италии, окончательно проиграла папам в 1193 году). После многократных изгнаний Арнольд был казнён по приказу папы Адриана IV. Он был повешен, затем тело было сожжено, а пепел выброшен в Тибр, чтобы останки Арнольда не почитались его многочисленными приверженцами. Это событие можно считать одним из самых ярких примеров папских репрессий против еретиков, до активного распространения катаров и будущих массовых репрессий инквизиции. Первые ростки христианского тоталитаризма начинают давать о себе знать. Приверженцы учения Арнольда — арнольдисты. Позже их смешивали с катарами и альбигойцами, и они действительно находят некоторые сходства. Последователи этого движения отличались тем, что отрицали необходимость крещения младенцев, а также поддерживали старые взгляды на причастие, излагаемые Беренгаром Турским ещё столетием ранее. Конечно, это далеко не философ, а скорее новое издание Протестантизма в духе Беренгара, но всё же влияние Абеляра сказывается на нем скорее положительно, и мракобесные элементы здесь сильно уступают анти-теологическим мотивам. Но были здесь и более отчетливые мракобесы в Италии, без всяких ноток адекватности, например Иоахим Флорский (1132-1202) поддерживавший идеи бредовых откровений (ср. с немками Хильдегардой и Элизабет). Он считается родоначальником средневекового хилиазма: свои пророчества, включая приход тысячелетнего царства Божия на земле, строил на основе толкования Библии. Иоахим Флорский разделил всю историю человечества на три периода: (1) Отца, от Авраама до Иоанна Крестителя, (2) Сына, от воплощения Сына Божия до 1260 года, (3) Святого Духа — с 1260; вывод о 1260 годе основывался на словах Откровения Иоанна Богослова о «тысяча двухсот шестидесяти днях» (Отк. 11:3 и 12:6). У каждого периода был свой Завет: Ветхий, Новый и Вечный. Наступление Третьего Завета связывалось Иоахимом с господством монашества. По учению Иоахима, переход человечества к каждому периоду его истории связан с постепенным одухотворением его жизни в отношении к Богу. Существование Католической церкви Иоахим Флорский относил ко второму периоду, в третьем же будет обновлённая церковь без недостатков прежней и установится тысячелетнее царство Божье на земле. Учение Иоахима было осуждено католическими Соборами, но пользовалось популярностью среди францисканских спиритуалов, апостольских братьев и ряда других движений, объявленных ересями (про активное подавление ересей см. дальше).
Постепенно на север Италии проникает влияние южно-французских трубадуров, здесь же начинают формироваться первые университеты, а после Бускето появляется несколько крупных архитекторов. Всего их известно около двух десятков, но мы перечислим только нескольких. Это Ланфранко (ок. 1070-1140) и Ансельмо да Кампионе (1140-1210), среди главных архитекторов Моденского собора (где, среди прочего, есть барельеф с сюжетами из мифов о короле Артуре). Продолжатель работы Бускето над собором в Пизе по имени Райнальдо (ок. 1050-1110) и Бенедетто Антелами (1150-1230), способствовавший распространению готической культуры в Италии и её переработке в классическом стиле. В Италии также появляются сильные юридические школы, представленные такими людьми, как Грациан (1090-1150), составитель Decretum Gratiani и основатель школы канонического права в Болонье (на основе чего возникнет и первый университет). Грациан свёл воедино и систематизировал огромный массив папских постановлений, решений локальных и центральных вселенских соборов, писем отцов церкви, накопившихся за 11 веков истории церкви. Грациана, как и Ирнерия, можно считать основоположником нового направления науки. Если Ирнерий считается основоположником римского права, то Грациан — канонического права. В Декреталиях указывается, что человечество регулируется двумя способами: с помощью естественного права и с помощью обычаев. Главный принцип естественного права, выраженный также в Евангелии, состоит в том, чтобы каждый относился к другому так, как он желает, чтобы относились к нему. Все законы Грациан делил на божественные и человеческие. При этом божественные законы, по мысли Грациана, состоят из естественных законов и обычаев. Грациан выделял три вида права: естественное право, гражданское право, право народов.
- Естественное право является общим для всех людей, поскольку оно поддерживается природным инстинктом. Причём Грациан утверждает примат естественного права над обычаем и законом.
- Гражданское право — это такое право, которое было установлено каждым народом или государством для себя в соответствии с божественной или человеческой причиной.
- По мнению Грациана, который следовал в этом вопросе за Исидором Севильским, к праву народов относятся такие вопросы, как «оккупация территории, строительство, укрепление, войны, плен, рабство, право восстановления, мирные союзы, перемирия, неприкосновенность послов, запрет браков с чужеземцами». «Это право, — отмечалось в Декреталиях Грациана, — называется правом народов по той причине, что оно применяется почти всеми народами».
Во второй части своего сборника Грациан излагает свои размышления по поводу войны и рассматривает восемь вопросов международно-правового характера. Он, в частности, допускает возможность законной войны, если это вызвано реальной необходимостью и связано с обеспечением мира. Что же до историков, то упомянем тут только хрониста южной Италии, работавшего нотариусом папского дворца Фалько из Беневенто (1070-1144). Очередной автор всемирной хроники, но также и автор истории города Кремона — Сикард Кремонский (1155-1215). Он участвовал в 4-м крестовом похоже и поддержал юного императора Фридриха II в борьбе за престол. Таким образом, Италия, как и столетием раньше, продолжает доминировать в сфере юриспруденции и в сфере медицины, за счет старых традиций изучения права в школах, и за счет старой Салернской школы. Но первенство в плане переводов с арабского Италия утратила, и теперь даже итальянские переводчики едут ради этого в Испанию. Сами итальянцы переключаются больше на переводы с греческого, особенно это направление усилится уже в следующем поколении, после того, как крестоносцы в ходе 4-го крестового похода захватили Константинополь, и вывезли оттуда много ценностей и книг именно в Италию. Французские новшества в плане поэзии и архитектуры только начали проникать в Италию, но ещё не пустили глубоких корней, хотя философия Абеляра даже привела к появлению заметных последователей его школы. Расцвет культуры ещё ждет Италию впереди.

Англия
В XI веке Англия ещё ничем не выделялась из ряда других стран, кроме всего одной монументальной фигуры Ансельма Кентеберийского, ставшего главным столпом всего платонического мракобесия Европы, но тем не менее фигуры действительно эпохального масштаба. Только в самом конце века появляются первые связи с испанскими переводчиками. В этот раз Англия налаживает все больше прочных связей с культурой материка. Именно из Англии происходил тот самый папа Адриан IV, казнивший Арнольда Брешианского и остановивший республиканскую революцию в Риме (первый и последний английский папа). В предыдущем, XI столетии, мы упоминали и Аделарда Батского (1080-1160), английского путешественника, который после своего тура по странам Востока, привез в Англию культуру переводов с арабского языка, который также связан и с переводами Педро Альфонсо, переехавшего в Англию испанца. В новом поколении мыслителей Англии переводами продолжил заниматься Даниэль из Морли (1140-1210), философ-схоласт и астроном, прошедший обучение в Оксфорде, Париже и Толедо. Он писал, что вернулся в Англию по просьбе друзей, привезя с собой «множество драгоценных книг». Но его первой реакцией было разочарование: он обнаружил, что свободные искусства на его родине, также как и в Париже, ограничены юридическими науками, а Аристотель и Платон почти преданы забвению. Вместе с некоторыми своими современниками, такими как Герард Кремонский, Роберт Честерский и Альфред Сарешельский, он продолжил усилия Аделарда Батского по развитию науки в Европе. Морли был автором книги под названием «Философия магистра Дэниела из Морли» и «Книга о низших и высших натурах». В версии, хранящейся в Британской библиотеке, работа разделена на две книги: «О Верхней части мира» и «О Нижней части мира». В ней Морли часто цитирует арабских и греческих философов, восхваляя при этом превосходство первых. Даниэль из Морли становится активным распространителем восточной версии аристотелизма в Англии. Роберт Честерский (1100-1170) тоже изучал язык и науки арабов в Испании, интересовался математикой, астрономией и алхимией. Вместе с Герардом Кремонским он первым перевёл на латынь трактаты по алгебре великого персидского математика и астронома аль-Хорезми. Также Роберт был первым, кто перевел алхимический текст с арабского языка на латынь: ему приписывают перевод Liber Morieni в 1144 году. Некоторые историки склонны отождествлять его с другим арабистом XII века, жившем в Испании — Робертом Кеттонским (первым переводчиком Корана на латинский, работавшего на заказ Петра Достопочтимого из Франции), но во время нахождения в Испании он проживал в Наварре, а Роберт Честерский — в кастильской Сеговии, так что, скорее всего, это разные люди. Среди других переводов Роберта Честерского выделяются сочинения Джабира ибн Хайяна (он же великий алхимик Габер). Рядом с Даниэлем, Робертом и Герардом в Испании работал ещё один британец, Альфред де Сарешель (1154-1220). В качестве переводчика он издал на латыни арабскую книгу Авиценны «Сифа», посвященную минералам и алхимии, а также труд De plantis, автором которого был греческий автор I века Николай Дамаскин. В остальном же считался неплохим автором комментариев к Аристотелю. Альфред по-прежнему следовал традиции неоплатонической метафизики, но уже рассматривал психологию Аристотеля и физиологию Галена. Он описывал сердце как дом души, из которого она управляет всеми жизненными процессами. Душа бестелесна, духовна, проста, неделима и является энтелехией тела.
Некоторый вклад в английскую культуру сделал Бенедикт из Петерборо (1135-1193). Сам он писал в основном религиозную литературу и деяния святых, но по его распоряжению были переписаны десятки рукописей, и хотя большинство из них — библейские, теологические и юридические, но встречаются также труды Сенеки, Марциала, Теренция и Клавдиана. Так что его можно считать достаточно полезным автором. Английский гуманист XII века, плодовитый писатель, автор нескольких дидактических поэм, энциклопедист, монах-августинец Александр Неккам (1157-1217) сочинил в стихах целую энциклопедию светских знаний под заглавием «Хвала божественной мудрости», в 10 книгах описывающую небо, воздух, море, землю, недра, растения, животных и человека. Более краткий её вариант носил название «О природе вещей». Значительную часть информации для этих трактатов Неккам почерпнул в древнегреческих и арабских источниках, сделав, таким образом, эти сведения доступными для европейцев. В трудах Неккама содержится одно из первых в Европе упоминаний о компасе. Известен также как автор басенных сборников «Новый Эзоп» и «Новый Авиан», в которых переложил элегическим дистихом «Ромула» и Авиана.
Англо-французский богослов, философ и политический мыслитель Джон Солсберийский (ок. 1115-1180), по достижению своего совершеннолетия переехал из Англии во Францию, где в течении двенадцати лет учился у самых знаменитых ученых своего времени: Пьера Абеляра, Роберта Меленского, Гильома Коншского, Бернара Шартского, Роберта Пулла. После обучения принял духовный сан и служил при папском дворе, был секретарём канцлера. В 1154 году возвращается на родину и становится секретарём примаса церкви Англии, архиепископа Кентерберийского Теобальда. Он часто исполнял дипломатические поручения в Европе, и известен политическими и педагогическими трудами. В «Поликратике» Джон Солсберийский рассуждает о строении государства и общества, высказывает приверженность платоновским идеям о том, как следует управлять государством, а также соображения о необходимых качествах государя и путях их достижения. Особенно известен его «Металогик» — типичное сочинение по педагогике эпохи Средневековья. В теме педагогики оно появилось одним из первых, знаменуя собой выделение педагогики как отрасли знаний о человеке. В «Металогике» изложена теория и практика преподавания дисциплин, входивших в тривиум, вопросы психологии ученика и логики подачи материала. Поддерживая священников в их борьбе против светской власти короля Англии (что никак его не красит), и уже почти старик, Джон был вынужден бежать во Францию, и последние годы он доживал в статусе епископа в Шартре (см. Шартрская школа). Несмотря на такие связи, Джон все же более консервативен, чем условный Тьерри из Шартра. Но ещё не настолько, чтобы его можно было поставить в ряды мракобесов. Конечно, в Англии были и свои мракобесы-мистики, но никто из них не выделяется ничем примечательным в плане своей глупости. Среди типичных и малоинтересных фанатиков, скорее в хорошую сторону здесь выделяется английский отшельник, торговец и популярный средневековый святой Годрик из Финчейла (1065-1170). Он, пожалуй, больше всего запомнился своей добротой к животным, и многие истории повествуют о его защите существ, живших близ его лесного дома. Согласно одной из них, он спрятал оленя от преследовавших его охотников; согласно другой, он даже позволял змеям греться у своего огня. Годрик питался травами, диким мёдом, желудями, дикими яблоками и орехами. Он спал на голой земле и вообще подавал идеальный пример аскета-киника. Не считая этого, он совершил несколько паломничеств в Иерусалим и написал несколько популярных в то время стихотворений.
Что же до влияния трубадуров на Англию, о чем мы уже говорили выше, когда рассказывали о французских поэтах при дворе в Лондоне, то среди местных писателей можно упомянуть такого, как Уолтер Мап (1140-1209), придворный священник короля Генриха II. Наибольшую славу он заслужил своим сочинением «О придворных безделицах», представляющим собой сборник анекдотов, вымышленных историй и случаев из придворной жизни. Объёмистое сочинение Мапа, содержащее, наряду с цитатами из античных классиков вроде Теренция, Вергилия, Горация, Овидия, Цицерона, Плиния, Ювенала, Марциала, Квинтилиана, Авла Геллия и Аврелия Августина, ряд реминисценций и пародий на исторические и легендарные сюжеты, не получило широкой известности при жизни автора. Ориентированное преимущественно на придворные круги, оно является важным источником сведений о ментальности и духовных настроениях правящей элиты Англии эпохи первых Плантагенетов. С той или иной долей вероятности Мапу также приписывают большое число латинских стихотворений и небольших поэм, написанных в стиле поэзии вагантов, вроде «Meum est propositum», а также памятников «голиардической» сатиры на духовенство, в частности, «Confessio Goliae». Наряду с Уильямом Ньюбургским, Мап записал самые ранние истории об английских вампирах. Ещё одним купным английским трубадуром того времени был Вас (1115-1183). В своём «Романе о Бруте», написанном в 1155 году, Вас рассказывает о подвигах Брута Троянского, потомка Энея, который после многих побед сначала над греками, потом над франками, прибывает в Альбион и там основывает Лондон; затем поэт передает историю потомков Брута, королей Великобритании, их подвиги и победы над врагами. Он четко формулирует куртуазные идеалы, которые станут затем непременным аксессуаром последующих рыцарских романов. Военная доблесть и великодушие, любовь к славе и чувство меры, защита слабых и сирых и щедрость. Вас отчасти почерпнул материал своего романа из латинской хроники своего современника Гальфрида Монмутского. Главное отличие романа Васа от хроники Гальфрида — придуманный мотив «Круглого стола», столь важный для дальнейшего развития рыцарского романа. Король Артур в трактовке Васа царил не просто над всем Западным миром; благодаря Круглому столу он оказывался главой, «первым среди равных», некоего абстрактного мира рыцарства, символом которого и становился Круглый стол. Но Гальфрид тоже писал сочинения в артуровском цикле. Например «Пророчества Мерлина» (1133), «История королей Британии» (1137), из которой и черпал вдохновение Вас, и где среди прочего описывается правление Артура, а также «Жизнь Мерлина» (1149). Стоит отметить, что и Гальфрид и Вас — старшие современники Кретьена де Труа, что важно в вопросах определения источников легенд об Артуре.
Хронистов в Англии того времени так же много, как и в XI веке, и как и в любой стране Европы. Поэтому назовем только таких, как Генрих Хантингдонский (1080-1160), автор «Истории английского народа». Гиральд Камбрийский (1146-1223) автор исторических и географических описаний Уэльса и Ирландии. Радульф де Дисето (1130-1200), автор сокращенной версии истории норманнов. Гервасий Кентерберийский (1141-1210), обычный хронист, который кроме историй Англии, отметился странной записью про Луну, которую можно трактовать как наблюдение крупного удара астероидом по спутнику, в результате которого даже были видны выбросы крупных масс лунного грунта в открытый космос. Всех остальных хронистов, которых насчитывается десятки, мы называть не будем, но отметим здесь только одного, и это Ричард Девизский (1150-1200). Вроде обычный историк, как и десятки других, но он отметился невероятным примером антисемитизма своего времени, и создал первый известный пример использования слова холокост. Описывая коронацию Ричарда Львиное Сердце в сентябре 1189 года, он использовал термин «холокост» (лат. holocaustum) применительно к произошедшим тогда массовым погромам евреев в Лондоне, хотя ещё в античную эпоху этим словом описывалось жертвоприношение, в ходе которого жертва сжигалась целиком.
Ныне, в год воплощения Господа нашего 1189-й, Ричард, сын короля Генриха II от Элеоноры и брат Генриха III, был помазан на царство в Англии Балдуином, архиепископом Кентерберийским, в Вестминстере, в день третий до сентябрьских нон. В самый день коронации, примерно в тот торжественный час, когда Сын был принесён в жертву Отцу, в городе Лондоне началось жертвоприношение евреев своему отцу, Дьяволу, и так долго длилась эта знаменитая мистерия, что холокост едва ли мог быть завершен на следующий день. Другие города и поселения королевства подражали вере лондонцев и с подобной же преданностью отправляли своих кровопийц вместе с кровью в ад.
«Деяния Ричарда» поэтому начали рассматривать не в качестве достоверного исторического свидетельства, а как своеобразный христианский памфлет c элементами сатиры, направленный против иудаизма и еврейской общины Англии. Его рассказ о ритуальных убийствах христианских мальчиков иудеями Уинчестера продолжает литературную традицию «кровавого навета». Из архитекторов выделяется разве что француз Гильйом (Вильям) Сенский (1110-1180), который может считаться английским архитектором, поскольку его главное творение, после собора во французском Сансе — это перестройка внутреннего дизайна Кентерберийского собора в Англии. Он считается первым важным примером раннего готического стиля в архитектуре в Англии. Влияние французской поэзии и архитектуры здесь, по-видимому, намного сильнее, чем в Италии (что и не удивительно, ибо Италия буквально живет на руинах Рима, и тяготеет к классицизму, а Англия управляется королями, укорененными во французской Нормандии), а приобщение к переводческому делу дало для Англии по меньшей мере такое же количество успешных авторов, как и в Италии, которые к тому же возвращались домой и распространяли знания на родине. Более того, эти знания были во-многом практического характера, это был мусульманский натурализм и алхимия. Плоды этого явления мы увидим уже в следующем периоде, к середине XIII века.

Испания
В Испании тем временем, как уже можно было заметить по предыдущим разделам, происходит небывалый расцвет культуры, который затмевает все старые потуги XI века. Чтобы понять этот подъем в Испании, нужно вернуться немного назад, и вкратце описать происходившие здесь политические события. Когда после падения династии Омейядов (1031) арабская держава в Испании распалась на части, графство Леон-Астурия под правлением Фердинанда I получило статус королевства и стало главным оплотом Реконкисты. На севере в это же время баски основали Наварру (король которой в один момент мало не объединил все христианские государства под своей властью, см. прошлый раздел), а Арагон слился с Каталонией в результате династического брака. В 1085 году христиане захватили Толедо, а затем Талаверу, Мадрид и другие города тоже попали под власть христиан. Однако вскоре Альморавиды, призванные севильским эмиром из Африки, придали новую силу исламу своими победами при Саллаке (1086) и Уклесе (1108) и вновь объединили арабскую Испанию, сумев даже отвоевать некоторые регионы полуострова. Несмотря на эти успехи мусульман, религиозный пыл и воинская отвага христиан вскоре получили новый толчок от происходивших на Востоке крестовых походов. Альфонс I Арагонский браком с Урракой, наследницей Кастилии, временно (до 1127 года) соединивший оба королевства, принял титул императора Испании (удержавшийся до 1157 года), в 1118 году завоевал Сарагосу и сделал её своей столицей. По отделении Кастилии от Арагона оба государства держались союза друг с другом в борьбе с мусульманами. Хотя Альморавиды (1090-1145) ненадолго остановили распространение Реконкисты, к периоду их правления относятся подвиги легендарного рыцаря Сида Кампеадора, отвоевавшего земли в Валенсии в 1094 году, и ставшего национальным героем Испании. В 1147 году африканские Альморавиды, свергнутые Альмохадами, теперь уже обратились за помощью к христианам, которые завладели по этому случаю Альмерией и Тортозой. Против Альмохадов, подчинивших южную Испанию, особенно успешно сражались рыцарские ордена: Калатрава — с 1158 года, Сантьяго-де-Компостела — с 1175 года, Алькантара — с 1176 года, загладившие поражение при Аларкосе (1195) победой при Лас-Навас-де-Толоса (16 июля 1212 года). Это была самая внушительная победа над Альмохадами, которую одержали объединившиеся короли Леона, Кастилии, Арагона и Наварры. После этой победы христианам стала принадлежать большая часть Иберийского полуострова, примерно 60% его территории, и при этом с сохранением наступательной инициативы, что позволит в течении следующих веков уже почти полностью отвоевать Испанию. Такое расширение позволило активно интегрировать арабское население и обильно перенимать их культурные и научные достижения. Новые правители унаследовали обширные библиотеки, содержащие некоторые из ведущих научных и философских идей не только древнего мира, но и исламского Востока, передовые научные рассуждения той эпохи — и все это было в основном на арабском языке.
Ранний период активного переводческого движения связан с Раймондом Толедским (1085-1052), архиепископом Толедо. Стоит отметить сразу, что сам Раймонд не был испанцем, родился и вырос во Франции, и только потом переехал в Толедо уже по долгу службы. Его важнейшей работой стало создание группы переводчиков, которая впоследствии стала известна как Толедская школа переводчиков. Он распорядился о реконструкции Толедского собора, отведя часть здания для школы. Группа под его руководством восстановила утраченные классические древние тексты и способствовала достижению значительных успехов в Толедской школе медицины, алгебры и астрономии. Часть иностранных сотрудников мы уже перечисляли выше. В разные годы здесь работали Рудольф из Брюгге (1100-1170), Пётр Достопочтенный (1094-1156), Герард Кремонский (1114-1187), Герман Каринтийский (1105-1154), Платон Тиволийский (1110-1145), Даниэль из Морли (1140-1210), Роберт Честерский (1100-1170), Альфред де Сарешель (1154-1220) и ещё примерно такое же количество других, менее известных иностранцев. Правда они зачастую работали в разных городах Иберийского полуострова, включая Сарагосу, Барселону и т.д., но все же были связаны с Толедо, как основным центром. И было бы странно, если бы в самой Испании не нашлось собственных энтузиастов. Не считая Педро Альфонсо, о котором мы говорили в прошлой статье цикла, среди испанских переводчиков можно выделить Доминика Гундиссалина (1115-1190), ставшего первым непосредственным руководителем Толедской школы. Что характерно, Доминик получил образование в Шартре, предположительно следуя учению Гильома де Конша и Тьерри Шартрского. Он привлек к переводческому движению еврея Авраама ибн Дауда (1110-1180), под прозвищем Галеви, одного из первых еврейских философов-аристотеликов, чтобы вместе с ним переводить сочинения Авиценны, а позже к этим троим присоединился ещё один переводчик иудейского происхождения — Иоанн Севильский (1100-1185). Он переводил в основном астрономические, медицинские и философские сочинения, в том числе Абу Машара, Ибн Гибероля, Ибн Курры, аль-Кинди, аль-Фергани, аль-Хорезми и др. Примечательным произведением, переведенным Иоанном Севильским с арабского языка, является «Изумрудная скрижаль», алхимический труд герметической традиции, изначально приписываемый самому Гермесу Трисмегисту. В своей «Книге алгоритмов практической арифметики» Иоанн Севильский приводит одно из самых ранних известных описаний индийской позиционной нотации, появление которой в Европе обычно связывают с книгой «Liber Abaci» Фибоначчи. Также здесь работал испанский переводчик Гуго из Санталлы (1080-1150), которому приписывают переводы аль-Фергани, Хали Абенрагеля, «Liber de secretis naturae» Аполлония Тианского, трактата «De Spatula» о гадании и «Tabula Smaragdina» и Марк Толедский (1165-1226), который участвовал в переводе Корана, а также был врачом, а потому переводил Галена и Гиппократа.
Из-за территориальной и культурной близости Испании с южной Францией, сюда раньше всех проникает поэзия трубадуров (и в такой же форме она здесь дольше всего продолжает сохраняться). Тем более, что с другой стороны к этому подталкивала арабская культура, что сама служила одним из источником для возникновения нового жанра поэзии в Европе. Испанские храмы подчинялись клюнийской системе, а её короли даже выстроили специальную инфраструктуру, связывающую храмы Франции и Испании между собой. Это не самое прогрессивное влияние из Франции, но, тем не менее, всё же влияние (и значительно позже, когда начнется раскол римских пап и Авиньонский плен, инициированный французами, Испания будет поддерживать про-французского папу). В интересующем нас поколении известны такие трубадуры, как Гильем де Бергеда (1130-1195), автор жестких, критических в отношении современников и неприличных для того времени стихов. Гильем де Кабестань (1162-1212), известный своей легендарной смертью из-за любви, когда ревнивый муж убил Гильема и накормил свою жену его сердцем. Когда она узнала об этом, то громко заявила мужу о своей вечной любви к поэту и выбросилась с балкона. Сюжет «съеденное сердце» использовал в «Декамероне» Бокаччо (день 4, новелла 1), встречается он и в подражаниях «Декамерону». Эти двое самые заметные из трубадуров в Испании, но само собой их было не меньше, чем в других регионах, и до нас дошли десятки разных имен. Более-менее известны также и такие, весьма вторичные деятели, как хронист Пелайо из Овьедо (1085-1153), автор «Хроники королей Леона» и поддельных исторических фактов, которого мы упоминали в предыдущем разделе, и святой Мартин Леонский (1130-1203), писавший в общем-то только религиозные тексты и комментарии к Библии.
Не связанный с испанской школой переводчик Моше ибн Эзра (ок. 1055-1138), которого мы упоминали в прошлой части этого цикла, заслужил признание у переводчика Иуды ибн-Тиббона (1120-1190) из Люнеля, начавшего свою деятельность на 20 лет позже, и который оценивал по достоинству значение ибн Эзры для еврейства Средней Европы, называя его своим предшественником в деле «пробуждения интереса к светским наукам на еврейском языке». Они оба не переводили тексты на латынь, поэтому их деятельность почти не пересекалась с Толедской школой или другими школами Европы, хотя позже уже некоторые из их переводов повторно переведут и на языки Европы. Как и Эзра, его последователь ибн-Тибон столкнулся с ухудшением положения евреев при владычестве христиан в Испании, и чтобы облегчить себе жизнь — мигрировал на юг Франции. Кроме него так поступили и многие другие евреи. Эту группу даже обобщают как «Провансальских иудеев XII-го века», или в еврейской литературе их называют «мудрецы Прованса». Одним из ранних примеров здесь выступил Моисей га-Даршан. Они создали на юге Франции целую школу по толкованию священных текстов, которая просуществует больше столетия, и даст миру также нескольких философов и врачей, а также повлияет на еврейские общины в Италии. Например Соломон ибн Пархон, один из учеников Ибн Эзры, после длительной работы филологом в Испании, переехал в Салерно. Но цитировать и упоминать всех было бы слишком долго.
Безусловно, самый известный иудейский писатель этого периода, а также один из самых известных в истории Европы — Маймонид (1138-1204). Помимо толкований Торы и собраний талмудических законов, он отметился как врач и философ. Правда, ещё до того, как стать философом, он мигрировал из Испании в Египет, и поэтому технически Маймонид даже не считается испанским автором, но его влияние на испанскую культуру все же сказывалось очень сильно, и поэтому его тоже стоит учитывать. В Египте он даже заслужил право быть личным врачом султана Саладина. Маймонид высоко ценил арабских философов и считал себя продолжателем традиции арабских перипатетиков. Он самостоятельно познакомился с текстами мусульманских философов и Аристотелем. В своих трудах он сделал попытку примирить учение Аристотеля с положениями Торы в их более традиционном понимании (и между прочем прямо упоминает Эпикура, как опасного еретика). Его книга «Путеводитель растерянных», философские отделы комментариев на «Мишну», написанные на арабском, оказали большое влияние на средневековую схоластику, в особенности на Альберта Великого, Фому Аквинского и Дунса Скота. Но поскольку Маймонид выступал против христианства, то следование его учениям в Европе считалось признаком ереси. Споры вокруг его наследия активно бушевали в еврейской диаспоре в течении двух веков после смерти Маймонида. Уже при его жизни эти споры были очень активными. Среди тех, кто защищал его доктрины, можно выделить провансальского мудреца Давида Кимхи (1160-1235), а среди мистических мракобесов, которых в иудаизме ещё называют каббалистами, выделяется Йеуда бен Барзилай (1070-1140). И все же стоит признать, что хотя Маймонид был аристотеликом в духе Фомы Аквинского, и это по-своему прогрессивное явление, и даже шаг вперед на фоне того, что было раньше, но всё же он остается очень и очень консервативным писателем и набожным теологом. Маймонид это не про прогрессивных писателей, особенно если смотреть на него в контексте арабского мира, а не в контексте Европы.
Самыми интересными, на наш взгляд, иудейскими писателями из Испании представляются даже не Маймонид и Кимхи, а такие люди, как Авраам бар Хийя (1065-1140), математик, астроном и философ из Барселоны. Это первый автор научных и философских книг, и разработчик научной терминологии на иврите. Он первым в Европе дал полное решение квадратного уравнения. Также он переводчик с арабского языка на латынь, чем способствовал ознакомлению Европы с достижениями мусульманской математики и астрономии. Совместно с Платоном из Тиволи в период 1134-1145 годов он перевёл с арабского языка на латынь более десятка научных трактатов по математике и астрономии. Правда в философии он уступает даже Маймониду, и является чистейшим неоплатоником и теологом, но в сфере чистой науки сделал немало полезных работ, в частности выдвинул интересное решение исчисления площади круга, напоминающий метод неделимых Бонавентуры Кавальери, возникший аж в XVII веке. В трактате Авраама встречается новое доказательство связи между площадью круга S и длиной L окружности с радиусом R. Оно носит геометро-механический характер: круг разрезается на тонкие концентрические кольца, которые распрямляются в прямые отрезки и укладываются в треугольник, с основанием равным длине окружности, и высотой равной радиусу. Предполагается, что когда кольца достаточно тонкие, ошибка при их распрямлении пренебрежима. Доказательство, тем самым, неявно использует элементы работы с бесконечно малыми величинами. Потом треугольник разрезается надвое, одну из половин переворачивают, и эти два равных куска складываются в прямоугольник, площадь которого измерить уже совсем элементарно просто. Интересна также фигура Иехуда Алхаризи (1165-1225), тоже переводчика, но также поэта и путешественника. Его сборник плутовских менипповых сатир (жанр в арабской литературе под названием макама) «Ты меня умудряешь» («Техкемони»), состоит из пятидесяти макам, написанных рифмованной прозой вперемежку со стихами. В них мы находим ценные замечания о нравах и обычаях того времени, характеристики современников поэта и людей предшествующих поколений. Сквозь пессимизм и критичность этих произведений зачастую прорывается жизнелюбие, активное неприятие уродливых явлений жизни, остроумный сарказм. Именно последний дал повод Генриху Гейне назвать Алхаризи «остряком французским» и отметить, что он «…задолго до Вольтера был чистейшим вольтерьянцем». Место его рождения в точности не известно, но сохранились сведения о том, что он много странствовал по свету, посетил Александрию, Иерусалим и другие города.
Но самым интересным представителем этого периода в иудейской культуре стал путешественник Вениамин Тудельский (1130-1173) который в 1165-1173 годы предпринял паломничество в Святую землю, посетив по пути Марсель, Рим и Константинополь. Записки Вениамина Тудельского являются ценным источников для истории евреев в Византии. Как следует из оставленного Вениамином описания своего странствия, по пути он останавливался в еврейских общинах, выяснял их численность, записывал имена раввинов. Коммерческий интерес к драгоценным камням заставил его пуститься в путешествие на восток от Иерусалима, в ходе которого он посетил Дамаск и Багдад, морем обогнул Аравию и вернулся в Египет. Книга Вениамина Тудельского была очень популярна, многократно переписывалась. Латинский перевод его текста был популярен в Европе XVI века; русский перевод появился в печати в 1881 г. Помимо собственных странствий, в своём сочинении Вениамин передаёт рассказы мореходов об Индии, Цейлоне и дороге в Китай. Его яркие описания Западной Азии опередили работы Марко Поло на сто лет.

В арабской части Испании тоже были свои путешественники, один из них, Ибн Джубайр (1145-1217) из Валенсии, поэт, служивший при дворе наместника Альмохадов в Гранаде, совершил поездку по маршруту, отчасти напоминающему маршрут Вениамина. Вообще арабы чаще делали вылазки на Ближний Восток, поскольку у них не было языковых и религиозных барьеров, и хадж в Мекку был для них очень почетным и почти необходимым делом. Такие хаджи совершал и Ибн Джубайр, например в 1183 году. По пути он заехал в Александрию, посетил пирамиды и видел Сфинкса. Обратно вернулся через Мосул, Алеппо и Палермо. В 1189-1191 годы ибн Джубайр вновь ездил на восток, однако подробности этой поездки неизвестны. Во время третьего путешествия, предпринятого в 1217 году, поэт умер в Александрии. Из его поэтических сочинений сохранилась касыда с посвящением Саладину. Из поэтов, которые меньше любили путешествия, известен Ибн Бассам (1058-1147), заставший завоевание Португалии, и помимо поэзии выступивший в качестве хрониста и этнографа своей родины. А также Ибн Хафаджа (1058-1138) из Валенсии, после захвата которой христианами — он бежал в Северную Африку. Большинство стихов Ибн Хафаджи представляют собой либо воспевание красоты природы, либо панегирики, несмотря на то, что он никогда не искал себе богатых покровителей, поскольку не нуждался в деньгах. Одним из самых известных его панегириков является посвящение Юсуфу ибн Ташфину, который начал отвоевание области Валенсии у испанцев в начале 1100-х годов.
Если же говорить про ученых и философов, то здесь выделяется Ибн Туфайль (Абубацер) (1110-1185), автор книги «Повесть о Хайе, сыне Якзана». Герой этого романа вырастает на необитаемом острове, где он появился на свет, самозародившись в «первичной глине» (при этом автор дает и альтернативную версию с брошенным ребенком). Выкармливает его газель, потерявшая детеныша; подрастая, он научается подчинять себе окружающую природу и отвлечённо мыслить, самостоятельно добывая всю сумму философских знаний человечества и достигая в конце экстатического единения с божеством. Это произведение, повествующее о восхождении человека и его мышления от чувственного восприятия к дискурсивному и интуитивному познанию единого сущего, пользовалось большой популярностью как в эпоху Средневековья, так и в Новое время. Будучи врачом, Ибн Туфайль был одним из первых, кто поддерживал вскрытие и вскрытие трупов, что нашло отражение в его романе. Здесь по сути дается поэтапное изложение философии Аристотеля для самой широкой публики, и заодно полноценная концепция развития философии идеализма, вернее того, как к этому могли приходить в своих рассуждениях. Кроме того, здесь по сути дается версия истории развития цивилизации (а-ля Лукреций), и подчеркивается роль кисти руки человека, как главного органа, отличающего человека от животных (для преобразование природы), что в античной философии подчеркивалось ещё Анаксагором. Этот роман — третий по частоте переводимый текст с арабского языка после Корана и «Тысячи и одной ночи», и считается даже, что он мог иметь виляние на Даниэля Дефо и его «Робинзона Крузо» (поскольку перевод книги Туфайля на латынь вышел в Англии раньше), а также мог иметь какое-то влияние на концепцию Локка «Tabula rasa». Спиноза и Лейбниц призывали к переводу этой книги на голландский и немецкий языки. Что характерно, эта книга была написана в ответ на сочинение «Непоследовательность философов» аль-Газали, одного из крупнейших мракобесов арабского мира. Но все же в основу этой книги заложена философия суфизма и неоплатонизма, т.е. также достаточно мистических и консервативных систем; а также в ней отчасти пересказываются идеи Ибн Сины. В значительной мере идеи Тьерри из Шартра и Гильома из Конша, описанные нами выше, совпадают со взглядами Ибн Туфайля, хотя оба этих француза писали несколькими десятилетиями раньше. Книга переведена на русский язык и поэтому советуем прочитать её, хотя она оставляет скорее двойственное впечатление.
В 1169 году Ибн Туфайль познакомился и подружился с самым значимым философом этого столетия, как в Испании так и во всей Европе — Ибн Рушдом (Аверроэс) (1126-1198). Этот писатель известен даже среди тех, кто не интересуется историей философии. Автор трудов по логике, аристотелевской и исламской философии, религиозному праву, географии, математике, физике, астрономии, небесной механике, медицине, психологии и политике. Самый видный представитель восточного аристотелизма (очистивший это учение от наслоений неоплатонизма), основоположник философского движения аверроизма. Переводы его трудов на латынь способствовали популяризации Аристотеля в Европе, как никогда до этого. И во многом именно аверроизм выступал как первая форма материализма в Средние Века, хотя и очень сглаженная. Между прочем, Ибн Рушд и Ибн Туфайль также поддерживали дружеские отношения и с упоминаемым нами в прошлой статье цикла ученым-медиком Ибн Зухром, что тоже немаловажно. Все передовые мыслители своего времени находили контакты друг с другом. Самые известные и влиятельные тезисы аверроизма:
- существует одна истина, но как минимум два способа её достижения: через философию и через религию, т.н. теория двойственной истины, благодаря которой ученым не нужно было ссылаться на божественное откровение.
- мир вечен, несотворен, однако нуждается в Боге как в первопричине своего движения;
- индивидуальная душа не вечна и умирает вместе с телом, а воскресение из мёртвых невозможно;
- Бог существует, но лишен личностных характеристик. Ему неведомы частные проявления бытия. Он управляет миром в силу необходимости, а не по произволу.
С другой стороны, как и всюду в мире, в арабской Испании были и свои мракобесы. Мы назовем всего одну фигуру, главного среди них, и это — Ибн Араби (1165-1240), мурсийский мистик, поэт, философ и крупнейший представитель и теоретик суфизма. Известен как «Величайший шейх» суфизма. Он разработал монистическую доктрину о единстве бытия, которая предполагает, что все вещи во вселенной являются проявлениями «абсолютного бытия». Критики, такие как Ибн Таймийя и др., видели в этом учении пантеизм, а его сторонники — истинный монотеизм. По сути, он возродил позиции Парменида и элейской школы. Ибн Араби различал три типа знания. Первый – рациональное знание, полученное из теоретических рассуждений, которое он считал подверженным ошибкам и заблуждениям. Второй – dhawq (что переводится как «вкус» или «наслаждение»), форма опытного знания, которое невозможно достичь посредством рационального размышления или выразить посредством логических аргументов. Примерами служат знание любви, удовольствия или сексуального опыта. Третий тип – мистическое или божественное знание, выходящее за пределы разума. Ибн Араби считал, что эта форма знания была дарована пророкам и их духовным наследникам. Он считал, что истинное знание, понимаемое как знание о вещи в себе, принадлежит исключительно Богу.

Между XII и XIII веками (Ваганты, университеты, городской бум)
Середина XII века оказывается очень насыщенным периодом. Конечно, можно сказать, что здесь начинается более открытая, чем раньше, кампания по дискредитации науки, а Папская власть обретает такие масштабы, что способна принуждать королей к отправке в далекие походы. Но несмотря на сильную церковь, в XII веке мы видим расцвет культуры и искусства, который затмевает все достижения VI-XI вв. вместе взятые. Мы увидели распространение новых литературных жанров (рыцарские романы и любовная поэзия трубадуров) по всем странам Европы, также как и формирование сначала одного общеевропейского стиля архитектуры (романского), а затем его трансформацию в другой стиль, так же массово распространенный на все страны (готический). Старые школы, бывшие центрами наук, такие как Шартр и Салерно, продолжают работать и воспитывать поколения ученых, но теперь их деятельность дополнена школой в Толедо. Мы видим небывалую активизацию переводов с арабского и греческого языков, и уже к 1150 году оказывается переведено достаточно много литературы, чтобы возродить полноценный классический аристотелизм и вкус к естественнонаучным вопросам. В это время Франция как была, так и остается главным центром Европейской культуры, особенно учитывая тот факт, что Испания до этого момента оставалась, в культурном плане, как бы окраиной и провинцией культурного пространства французов. И все же, Испания теперь сепарируется, и здесь возникает один из главных центров модернизации Европы. Ранее совсем забытая глушь, теперь даже Англия демонстрирует неплохую динамику. Да, итальянская культура в это время не показывает ничего такого, чтобы показалось прогрессом на фоне достижений XI века, но по крайней мере она удерживается на достигнутом уровне, а вот Германия оставляет желать лучшего. Все общеевропейские процессы задевают, конечно, и немцев, но задевают слишком поздно, слишком слабо, и никаких действительно крупных представителей культуры в этом регионе не появляется. Хотя многие немцы ездят в другие страны Европы набираться мудрости.
Главные достижения века, кроме возрождения школы Аристотеля, наплыва арабских переводов (в основном книг о практической науке, медицине, алхимии, астрономии, математике и т.д.), а также новой литературы и архитектуры, это также и активизация путешественников, которые спокойно объезжают территории от Испании и Франции до Багдада, берегов Омана и Йемена и возможно даже Индии. Книги о путешествиях активно читаются всей Европой, также как и книги о своеобразных путешествиях крестоносцев в Святую Землю. Горизонт интересов и познаний о мире сильно расширяется. В каждой стране можно найти по меньшей мере несколько десятков авторов историй (страны, церкви, всего мира), трубадуров и романистов, так что всего по Европе в каждом поколении создается по несколько сотен произведений, одних только романов и книг по истории. Почти в каждом городе строятся новые церкви, едва ли не по несколько штук в одно десятилетие, так что в якобы темном и застойном средневековье мы наблюдаем активное каменное строительство в огромных масштабах, что быстро преображает внешний вид целого континента. Но кроме всего перечисленного, и появления таких феноменальных фигур, как Ибн Рушд, Ибн Туфайль, Маймонид, Авраам бар Хийя, Вениамин Тудельский, Герард Кремонский, Тьерри Шартрский и Кретьен де Труа, уже к середине XII века происходит несколько событий общеевропейского значения, которые мы рассмотрим здесь в отдельности.
Теперь мы расширим то, о чем в самом начале статьи сказали лишь вкратце. Во-первых, в Европе наконец-то начинают возникать университеты. Некоторые из названных нами выше деятелей уже преподавали в них, или проходили там обучение. Основной функцией этой корпорации ученых было присуждение учёных степеней, важнейшей из которых была licentia ubique docendi — «право преподавания повсюду». Это отличало университет как высшую школу: присуждённая степень признавалась по всей Европе, гарантом чего выступала папская или императорская власть. Первоначально университеты создавались на основе церковных школ, и входили в систему духовного образования. Их задачи заключались в подготовке специалистов (по философии, богословию, праву и медицине), а также в изучении научных трудов древности и святоотеческого наследия, повышении уровня образования в обществе и обучении студентов самостоятельно мыслить и проводить исследования. Принципы преподавания были сходными: читались курсовые лекции и «толкования», разъясняющие лекции; особое внимание уделялось искусству выделять вопросы и умению вести полемику. Диспуты проводились по особым законам чести и напоминали рыцарский турнир. Возраст студентов был различным, но, в общем случае, обучение начиналось в 14-15 лет, а степень магистра искусств могла быть получена лицом не моложе 21 года, проучившимся не менее 5-7 лет. Количество учеников в крупнейших университетах могло достигать нескольких тысяч, но в среднем их численность достигала несколько сотен. Часто считается, что старейшим в Европе является Болонский университет, основанный якобы в 1088 году, и возможно он таки является одним из первых, но источники фиксируют его существование несколько позже. Документированная история возникновения и становления европейских университетов начинается в XII веке. Болонский университет вырос прямо на основе одной из многочисленных в Италии школ права, и связан с уже упоминаемой ранее Матильдой Тосканской и её придворными философами. Оксфордский университет в Англии основан якобы около 1090 года, чуть позже Болонского, и начал быстро расти с 1167 года, когда Генрих II запретил английским студентам посещать Парижский университет. После споров между студентами и оксфордскими горожанами в 1209 году некоторые ученые бежали на северо-восток в Кембридж, где они основали то, что стало Кембриджским университетом. Парижский университет основан около 1150 года, и уже вскоре после основания стал самым престижным университетом Европы, а количество звездных выпускников из Парижа затмевает любого конкурента в ближайшие несколько веков. В Монпелье (юг Франции) создание университета растянулось во времени, но технически можно считать, что его основы были заложены ещё в 1180 году, когда местный правитель разрешил практиковать и преподавать в городе медицину. В 1220 году кардинал Конрад, легат папы Гонория III, основал в Монпелье первый во Франции медицинский факультет (поэтому 1220 год считается датой официального основания). В 1242 году епископ Магелона подтвердил устав новосозданной Школы свободных искусств. Около 1260 года в Монпелье начали организовываться юристы. Наконец в 1289 году папа римский Николай IV буллой «Quia Sapientia» провозгласил основание университета в Монпелье. Здесь можно было изучать медицину, право, теологию и философию. Итальянский университет Модены и Реджо-Эмилии основан в 1175 году, тоже вокруг юридической школы, которыми славились все города Италии. В первой трети XIII века основываются ещё университеты в итальянских Виченце (1203), Падуе (1222), Неаполе (1224), Салерно (1231), в испанской Саламанке (1218) и французских Тулузе (1229) и Орлеане (1235). До конца XIII века откроется еще несколько университетов в городах Испании, Италии и Франции. Но ни в XII, ни в XIII веках университеты не проникают на территорию Германии, Нидерландов или Швейцарии (т.е. немецкоязычной культурной среды). Даже в этом плане немцы начали отставать, а первый из немецких университетов был основан не в самой Германии, а в чешской Праге аж в 1348 году.
Первая из университетских привилегий датируется 1155-м годом, она была дарована Болонскому университету императором Фридрихом Барбароссой. В тот период император нуждался в услугах болонской юридической школы для обоснования своих притязаний на римский престол. Привилегия университету, отчасти, была благодарностью за предоставленные им услуги. Болонские учёные начали активное изучение Кодекса Юстиниана, который был ими распространён по всей Европе, это вновь служило признанию за Барбароссой роли прямого наследника древних императоров. В первую очередь, в этой привилегии речь шла о разрешении конфликтов: любой член университетской корпорации, на которого поступил вызов в суд, получал право самостоятельно выбирать судью, причём из числа членов его же собственной корпорации, у которых он учился (магистров). Запрещалось широко распространённое заключение студентов под стражу за долги, сделанных одним из его соотечественников. Иными словами, члены университета — студенты и преподаватели — освобождались от юрисдикции местных властей, а сам университет приобретал права самостоятельной судебной инстанции. В немецкой традиции это право получило название нем. Selbstgerichtbarkeit («осуществление собственного суда»), именно это понятие стало синонимом «академической свободы» — основой самосознания университетской корпорации. Указ Фридриха Барбароссы даровал членам Болонского университета право беспрепятственного передвижения по всем территориям империи.
Привычные для всех нас факультеты возникли не сразу, но старейшим из всех был артистический факультет Парижского университета, основанный в 1240 году. Он объединял преподавателей семи свободных искусств, и позднее получил название философского. В 1260 году в Париже были официально утверждены три высших факультета — богословский, юридический и медицинский, причём именно в таком порядке (он влиял на ранговые отношения профессоров). В университетах Священной Римской империи наличие четырёх факультетов было главным признаком «полноты университета». Артистический факультет, как правило, превосходил по численности студентов и преподавателей прочих факультетов вместе взятых, к тому же степень из артистического факультета была почти обязательной для выпускников всех остальных, как некая общеобразовательная минимальная база. Существовали также «нации» в университетах, которые не играли важной роли, но все же пытались поддерживать кое-какую сегрегацию по национальному признаку. Благодаря успехам переводческого движения попытки мракобесов ограничивать развитие наук все усиливались. Вплоть до начала XIII века парижские власти запрещали изучение натуральной философии Аристотеля и его арабских комментаторов. В постановлении легата Робера де Курсона 1215 года прямо сказано:
Никто не должен учить по книгам Аристотеля, «Метафизике» и по философии природы или читать суммы по этим книгам. Никто не учит по книгам, содержащим доктрины Давида Динанского, еретика Амальрика или Маврикия Испанского.
В послании папы Григория IX от 1228 года также содержалось воспрещение изучать натуральную философию Аристотеля, а богословы обвинялись в том, что они «совершают прелюбодеяние с философией», которая должна быть «послушной служанкой теологии». Поэтому магистрам теологии предписывалось преподавать богословие без примеси мирских наук. Это связано напрямую с распространением ересей и активизацией репрессивного аппарата Церкви, о чем мы поговорим чуть ниже. И тем не менее Парижский университет, наряду с Оксфордским, считался передовым учебным заведением Европы.
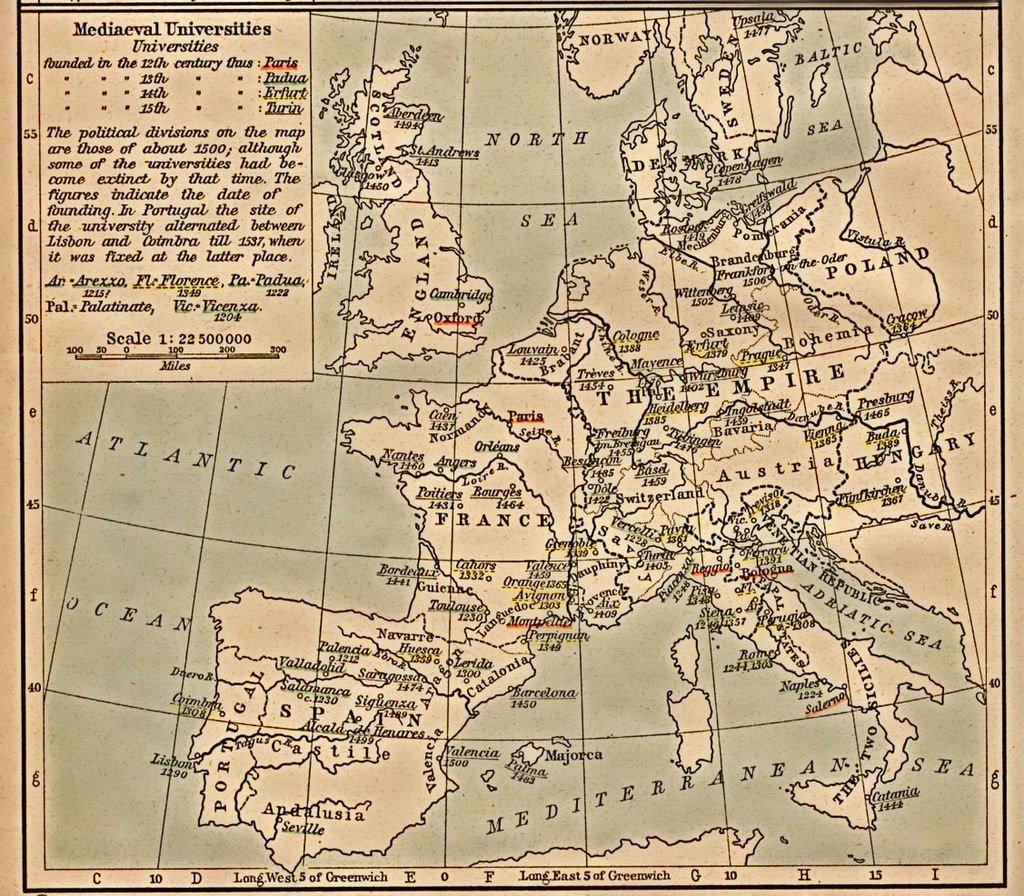
Университеты стали преимущественно городским феноменом, и их возникновение отчасти связано с коммунальными революциями в Европе. Если совсем просто, то это результат экономического роста Европы, возникновение новых городов и расширение старых, которые вследствие своего растущего статуса начали требовать права самоуправления, какие для себя требовали впоследствии и городские университеты. Города стали центрами светской культуры, далекой от рыцарско-трубадурской куртуазности и теологических требований. Поэтому бум развития городов отлично стимулирует развитие науки и техники, и защищает образование от посягательств церкви (не идеально, но все же защищает). Чуть детальнее об этом можно прочитать в статье про Итальянский предренессанс XIII века, которая пересекается с нашим циклом, и отчасти повторяет сказанные здесь вещи, а отчасти их дополняет. К сказанному там, добавим, что самое раннее письменное упоминание о ветряной мельнице относится к Йоркширу (Англия) и датируется 1185 годом. Производство бумаги началось в Испании около 1100 года, а оттуда в течение XII века оно распространилось во Францию и Италию. Магнитный компас уже использовался в навигации, что было засвидетельствовано в Европе в конце XII века. Древнейшее известное на Западе изображение руля, установленного на корме, можно найти на церковной резьбе, датируемой примерно 1180 годом. И в начале XIII века начинается изобретение механических часов. Сама готическая архитектура смогла стать возможной только благодаря новым технологическим решениям, и она сама по себе свидетельствует о значительном прогрессе прикладных знаний. Создавались новые механические решения для строительных кранов, возродилась античная технология центрального отопления (использовалась не массово, но уже была известна), начали выплавлять чугун в первых доменных печах Германии. Уже использовались первые модели промышленных ткацких станков. Короче говоря, бум развития городов оживил все сферы жизни.
Одним из важных новшеств в культуре, связанных с этой тенденцией к секуляризации стала Поэзия Вагантов, или странствующих студентов, которые составляли рифмованные латинские стихи в форме церковных гимнов. Произведения имели светское, жизнерадостное содержание, а также сатиры на монашество и духовенство, пародии. Они продолжали традиции античных гистрионов. Эти последние были труппами профессиональных актеров античного Рима, название которых начали применять к бродячим актерам средневековья. В Древнем Риме гистрионы обычно вербовались из низов общества, и их профессия считалась малопочтенной. Искусство средневековых гистрионов восходило к сельским обрядовым играм; гистрион мог быть одновременно музыкантом, танцором, певцом, рассказчиком, гимнастом, дрессировщиком животных и т. д. В разных регионах эти люди получали различные названия: во Франции это жонглёры (jongleur, jogleor — от латинского joculator — «шутник»), в Германии это шпильманы (Spielmann — «игрец»), в Англии менестрели (minstral — от латинского ministerialis — «слуга»), в Италии — мимы, в Испании — голиарды, а в России — скоморохи. В общем смысле их ещё можно было бы назвать шутами. В общем, поэзия Вагантов является прямым наследником этих традиций. Характерно что трубадуры относились к шутам-гистиронам высокомерно, как к своим коллегам низшего уровня, хотя иногда разница между ними могла стираться. В отличии от трубадуров и гистиронов, ваганты сочиняли свои стихи в основном на латыни, а не на национальных языках, что связано, возможно, с обязательным изучением латыни в университетах. А также они гораздо хуже известны по именам, ибо изначально выступали группами. В этом плане поэзия трубадуров гораздо индивидуальнее. Среди известных имён вагантов: французский поэт Вальтер (Готье) Шатильонский (1135-1201), товарищ философа Джона Солсберийского, написавший «Contra ecclesiasticos juxta visionem apocalypsis». Главное сочинение Вальтера — эпическая поэма в 10 книгах «Александреида», о жизни и деяниях Александра Македонского. Известен ещё Примас Орлеанский (1093-1160). А немецкий вагант, известный под своим прозвищем «Архипиита» (1110-1175), упоминает о том, что учился в медицинской школе Салерно. Кроме них тяжело назвать ещё каких-то авторов, известных по именам. Но поэзия вагантов не становится от этого хуже, и одной из важнейших для нас тематик, которые поднимали Ваганты, это прямые упоминания философии Эпикура в около-позитивном ключе. Например в сочинении «Вещание Эпикура»:
1. Эпикур вещает зычно:
«Брюху сыту быть прилично!
Брюхо будь моим кумиром,
Жертва брюху — пышным пиром,
Храмом брюху — будь поварня,
В ней же дух святой угарней.
2. Бог удобный, бог угодный,
Бог, с постом отнюдь не сродный:
Поутру едва он встанет —
Натощак вино он тянет:
В винной чаше он обрящет
Благо, благ небесных слаще.
3. Чрево божье сановито,
Словно мех, вином налитый,
Тело тучностью прекрасно,
Щеки красны, взоры страстны,
Дух покоен, бодр и весел
И безмерны силы чресел.
4. Кто утробу чтит примерно,
Тот Венере служит верно!
Брюху бремя не наскучит,
Хоть порой его и пучит;
Жизнь блаженна, жизнь досужна
Тех, кто с сытым брюхом дружны.
5. Брюхо кличет: „Прочь сомненье,
Мне единому почтенье!
Чтобы в неге и покое,
Сыто вдвое, пьяно втрое,
Я меж блюда и бокала
Отдыхая, почивало!“»
В дополнение вставим сюда же фрагмент из стихотворения вагантов «Флора и Филида», где Эпикур вроде бы и критикуется, но скорее в добродушном смысле:
Чтят бродяги-школяры бредни Эпикура.
Голодранцам дорога собственная шкура.
Бочек пива и вина алчет их натура.
Ах! Студента полюбить может только дура.
То есть, в поэзии вагантов мы видим не только ироническое и сатирическое настроение, не только абстрактные темы гедонизма и попоек, критика церковников и правителей и т.д., что можно считать эпикурейским мотивом только из-за общих сходств тематики, но даже прямые отсылки на Эпикура. Вспомним, что в Италии XIII в. «эпикурейство» (в более высоком понимании, конечно) было настоящей сектой, приверженцев которой Данте помещает в свой «Ад». Этот термин в качестве ругательства употреблял историк Джованни Виллани, который усматривал во флорентийских пожарах 1115 и 1117 гг. наказание за ереси, «между прочим, и за беспорядочную и невоздержанную секту эпикурейцев». Так что эпикуреизм выходит даже за пределы светской, гедонистической поэзии, и становится явлением общекультурного значения. Весь этот контекст при переходе от XII к XIII веку нужно учитывать, точно также, как желательно знать хотя бы основных деятелей XI века, описанных нами ранее. Только тогда феномены типа Данте и Петрарки смогут быть окончательно понятными, и, неизбежно, потеряют весь свой блеск новизны. Если ваганты были светской, городской альтернативой аристократической куртуазной поэзии трубадуров, то в плане крупных жанров, таких как рыцарский роман (которые, впрочем, тоже зачастую писались образованными горожанами), аналогично возникает городской жанр фаблио, небольшие новеллы, целью которых было развлекать и поучать слушателей. Фаблио отличает тематическое разнообразие: значительную группу образуют рассказы, разоблачающие жадность, лицемерие церковников («Завещание осла»), в другой группе с большой симпатией и сочувствием показана жизнь простых людей, полная лишений, прославляется их ум, смекалка («Тытам», «О бедном торговце»). В фаблио широко отображена жизнь Франции XII-XIII вв.: быт и нравы города, жизнь рыцарского замка и деревни. Главные герои фаблио: ловкий крестьянин или горожанин, жадный купец, представители духовенства, плутоватый судья, хитрая жена и др. Занимательность сюжетов фаблио обеспечила им популярность среди всех сословий французского общества. Большинство из 140 известных фаблио были написаны в между 1159 и 1340 годами, преимущественно в северных провинциях Франции — Пикардии, Артуа и Фландрии. Многие сюжеты фаблио использовали в своих произведениях писатели последующих эпох (Дж. Боккаччо, Ф.Рабле, Мольер, Ж.Лафонтен и др.). Из оригинальных авторов фаблио мы редко знаем имена, а если даже и знаем, то почти ничего не знаем об их биографии. Часто это бывали сборники историй сразу с разных регионов с анонимным авторством (как например антипод рыцарского Романа о Розе — «Роман о Лисе», про хитрого лиса Рейнеке).
Аналог фаблио в Италии назывался фацеция, в Германии шванк, но их проще называть одним термином фаблио. Если добавить ещё произведения в других странах Европы, то всего их c середины XII по середину XIV века было создано несколько сотен штук, но расцвет жанра приходится уже на период жизни Данте и следующих за ним поколений, и основные фаблио выходят за рамки нашего периода. В XIII веке они только начинают набирать обороты. Из немецких авторов можно назвать австрийского поэта Штрикера (1190-1250). В цикле весёлых шванков «Поп Амис», в центре которых стоит фигура ловкого попа, извлекающего для себя пользу из любой ситуации, представлена немецкая действительность XIII века. Хотя как и многие другие авторы фаблио, он писал и серьезные произведения. Например рыцарский роман «Даниэль из Цветущей долины» и переработка песни о Роланде под названием «Поход Карла Великого в Испанию». Во Франции известны такие авторы фаблио, как Жан Бодель (1265-1210) автор фаблио «Корова священника Брюннена»; Рютбёф (1245-1285), высмеивающий монашеские ордена, который также был защитником Парижского университета в его борьбе с религиозными орденами. Например, он защищал Гийома де Сент-Амура, когда того отправили в изгнание; Анри д’Андели (1190-1260), известный своим произведением «Битва вин» (про лучшие винодельни Франции) и сатирической поэмой «Битва семи искусств»; Готье ле Лонг (1210-1280), среди названий фаблио которого есть такие, как «Глупый рыцарь», «Безумный злодей», «Испорченный священник»; Гюон-король (1220-1280) и Филипп де Бомануар (1252-1296).
В музыке этого периода выделяется т.н. период «Ars antiqua» (прим. 1170-1310), и центром распространения нового стиля, подготовленного реформой Гвидо Аретинского, стала снова-таки Франция, а именно собор Нотр-Дам. Обычно термин ars antiqua ограничивается церковной или полифонической музыкой, исключая светские монофонические песни трубадуров и труверов. Хотя в разговорной речи термин ars antiqua используется более свободно для обозначения всей европейской музыки XIII-го века и немного ранее. Почти все композиторы ars antiqua анонимны. Леонин (1135-1201), лучший органист своего времени, и Перотен (1155-1230) были двумя композиторами, известными по имени из школы Нотр-Дам; в последующий период Пьер де ла Круа (1270-1347), композитор мотетов, является одним из немногих, чье имя сохранилось. В музыкальной теории период ars antiqua ознаменовался несколькими достижениями по сравнению с предыдущей практикой, в основном в концепции и обозначении ритма. В раннесредневековую музыкальную эпоху нотация указывала высоту звука песен, не указывая ритм, в котором эти ноты должны были исполняться. Самый известный музыкальный теоретик первой половины XIII века, Иоанн де Гарландия (1250-1320), иногда считается автором трактата «De Mensurabili Musica» (ок. 1240 г.), который определил и наиболее полно прояснил ритмические лады. Это нововведение оказало огромное влияние на последующую историю европейской музыки. Но трактат скорее был написан каким-то анонимом, а Иоанн стал лишь издателем книги.
И ещё одно значимое явление стоит рассмотреть здесь — это еретические движения. Уже в XI веке Европу потрясло учение Беренгара Турского, о чем мы много писали в прошлой главе, но действительно серьезных санкций на это не последовало, ибо церковь не была тогда ещё настолько могущественной, да и в её рядах было достаточно либералов, считавших что за ереси не нужно наказывать силовыми методами. Теперь мы увидели как аналогичные движения возникли под влиянием Пьера Абеляра, и он, как и все его последователи, уже столкнулись с куда более жесткими последствиями. Но даже в XII веке в большей части случаев дело обходилось без серьезных репрессий, и страдали в основном самые видные вожди движений за реформу. Теперь в Европе возникло новое масштабное движение еретиков, называемых в основном катарами или альбигойцами. Истоки их учения находят в манихействе, неоплатонизме Оригена, учениях армянских павликиан и болгарских богомилов. Общины, которые можно отнести к катарским, начали появляться одновременно во Франции и в Германии в 1140-х годах, а до конца века их церковь стала общеевропейским явлением. В житии Бернарда Клервосского сказано, что уже в 1145 году он столкнулся с «арианской ересью» в окрестностях Тулузы. 1170-х годах катары смогли закрепиться в Южной Франции и создали своё подобие церковной иерархии, а их влияние распространилось в Испании и Италии. Две основные группы этого движения — альбигойцы и вальденсы, но их было значительно больше и в каждой стране со своими названиями. Различие между всеми их сектами незначительно, все они едины в самом главном, в поддержке дуализма. Но не души и тела, а дуализма двух принципов мироздания, доброго и злого начал, двух божеств, как в древнем зороастризме. Таким образом ставился под сомнение сам принцип монотеизма. Не трудно понять, почему католики хотели запретить изучение Аристотеля, особенно в арабских версиях Аверроэса, ибо тот своим учением о двух истинах тоже мог наталкивать на мысль о правоте еретиков и подстегивать к переходу в катаризм. Большинство таких сект отрицали необходимость крещения детей, не верили в превращение хлеба в плоть Христа, отрицали что Бог воплощался как человек и т.д. Главная же особенность, делавшая их особо опасными в глазах Рима — это отказ подчиняться католической церкви, полная самостоятельность еретиков, которые считали Рим узурпатором, стараниями которого первоначальное христианство испортилось. Себя же катары называли не иначе как «добрые христиане».
Известно, что Пьер Вальдо (лидер и основатель движения вальденсов) не желал довольствоваться существовавшими в его время изданиями Библии на французском языке и заказал персональный перевод с латинского некоторых мест. Изучение этих текстов привело его к идее о необходимости раздать нищим своё имущество, чтобы добровольной бедностью восстановить первоначальную чистоту христианских нравов. Вместе с группой единомышленников он отправился проповедовать Евангелие. Есть сведения о том, что около 1170 года поп Никита, богомильский епископ из Константинополя, совершил поездку в Западную Европу, чтобы помочь общинам катаров и поделиться опытом восточных церквей, укоренившихся в Византийской империи. Вначале он посетил Ломбардию, затем по приглашению Тулузской катарской церкви отправился в Лангедок, где руководил общим собранием западноевропейских катарских церквей в Сен-Феликс. На юге Франции катары смогли завоевать большинство среди прихожан и начали пользоваться политическим покровительством местных феодалов. В 1177 году граф Раймунд V, искренне враждебный к катарам, писал капитулу Сито, что он не в состоянии побороть «ересь», потому что её поддерживают все его вассалы. Но ситуация уже явно вышла из под контроля. Его сын Раймунд VI (1198-1221) уже был настроен к катарам крайне дружелюбно. Династия Транкавелей долгое время оказывала катарам ещё большее содействие. Наконец, графы де Фуа пошли ещё дальше, непосредственно вовлекаясь в катарскую церковь. Но поскольку соотношение сил в окситанских сеньориях было в пользу катарских церквей, и это исключало любые преследования. В то время, как в Шампани, Фландрии, Рейнских землях и Бургундии катаров преследовали, а в Италии их гонения приветствовались партией гвельфов, светские власти Лангедока и гибеллинских городов Италии были терпимы к этой вере и даже защищали диссидентов от церковных властей. В 1179 году Третий Латеранский собор католической церкви осудил «катарскую ересь» (вместе с «ересью» вальденсов). Веронские декреталии, согласованные между папой и императором в 1184 году, явились первыми мерами общеевропейского масштаба против «еретиков». «Ересь» была приравнена к государственному преступлению — «оскорблению величества» по отношению к Богу. Церковный собор в Нарбонне дал епископам обязательное к выполнению поручение разыскивать «еретиков» и докладывать о них вышестоящим. Параллельно проводились попытки публичной дискуссии. Посланцы папы Иннокентия III — Рауль де Фонтфруад и Пьер де Кастельно — проводили открытые теологические дебаты с «добрыми людьми». Успеха это не принесло, напротив, распространение катаризма продолжалось. На Сицилии против катаров проповедовал в церквях Ангел Кармелит, и был убит одним из них. Убедившись в бесплодности богословских попыток, кастильский каноник Доминик де Гусман (основатель доминиканского ордена, о нем дальше) решил перенять для борьбы с «ересью» методы самих «еретиков». С 1206 года он начал проповедовать в Лангедоке, соблюдая обеты бедности и нищенствования. Ему удалось добиться нескольких десятков обращений в католицизм. Однако и эта проповедь не принесла желаемого результата.
В 1209 году папа Иннокентий III призвал к крестовому походу против катаров, получившему название альбигойского. Откликнувшись на этот призыв, бароны Франции и Европы в 1209 году атаковали земли графства Тулузского и виконтства Транкавель. Руководство походом осуществлял папский легат Арно Амори, аббат Сито. Для крестового похода против альбигойцев характерны жестокие расправы с мирным населением (Безье в 1209 году, Марманде в 1219 году), а также огромные массовые костры, где сжигали христиан — в Минерве (140 сожжённых в 1210 году), Лаворе (400 сожжённых в 1211 году). Однако местное население, для которого война носила как религиозный, так и национально-освободительный характер, оказывало активное сопротивление крестоносцам, поддерживая своих законных графов. В 1220 году окончательно стало ясно, что попытка насадить в Тулузе и Каркассоне католическую династию Монфоров потерпела неудачу. Общины катаров, которым крестоносцы поначалу нанесли серьёзный урон, начали постепенно восстанавливаться. В 1226 году Людовик VIII Французский, сын Филиппа-Августа, решил восстановить себя в правах на средиземноморские графства, переданные ему Монфором, и сам возглавил французскую армию, двинув её против Раймунда Транкавеля, Раймунда VII Тулузского и их вассалов. Несмотря на ожесточённое сопротивление в некоторых регионах, королевская армия завоевала Лангедок. В 1229 году граф Тулузский, покорившись, подписал мирный договор, ратифицированный в Париже. В 1229 году, король окончательно выиграл войну, объявленную папой, а последний воспользовался победой короля: с этого времени Церкви была предоставлена полная свобода действий. Светские властители — защитники катаров — согласно постановлениям Латеранского Собора 1215 года и Тулузского Собора 1229 г. были лишены земель и имущества. Общины катаров укрылись в подполье. Однако они оставались очень многочисленными. Для защиты от репрессий они организовали тайную сеть сопротивления, основанную на общественной и семейной солидарности. Инквизиция, созданная папством в 1233 году в качестве институции обязательных исповедей, имела право налагать наказания и покаяния, воссоединяя с католической верой население Лангедока. Инквизиция была передана доминиканскому и францисканскому орденам, которые кроме того, проповедовали официальную доктрину Церкви. Сопротивление продолжалось аж до конца XIII и начала XIV века, пока не сошло совсем не нет (хотя движение вальденсов переживет все репрессии, и оно существует до сих пор). Феномен провансальских трубадуров исчезает из южной Франции вместе с катарами; большинство трубадуров поддержали это движение и либо погибли во время войны, либо бежали в другие страны. Именно в этот период начинаются активные запреты чтения Аристотеля, Маймонида и других философов, которые могли пошатнуть авторитет Церкви.
Второе поколение эпохи Гогенштауфенов (1190-1254)
Второе поколение занимает период в 64 года, и хотя он охватывает меньше времени, но знаменитостями он насыщен даже больше, чем любой из предыдущих. Это времена правления двух императоров, одного короля Германии (который занял период междуцарствия) и одного вторичного монарха на закате династии:
- Генрих VI (1190-1197)
- Оттон IV Брауншвейгский (1198-1215) — из династии Вельфов (см. гвельфы), активно противостоял в борьбе за престол Филиппу Швабскому из Гогенштауфенов.
- Фридрих II Гогенштауфен (1220-1250)
- Конрад IV Гогенштауфен (1250-1254) — технически уже не признан императором.
В этот период все названные нами ранее культурные феномены достигают своего полного расцвета. Всё, что описывалось в статье про XI век (например, борьба Папы и Императора тут достигает своей кульминации), все, что говорилось выше о готической архитектуре, городских революциях и т.д. Всё это встало в полный рост только к середине XIII века и времени правления императора Фридриха II Гогенштауфена. Об этом правлении мы уже говорили в статье про Итальянский предренессанс XIII века, но здесь придется повторить это вкратце (за остальным — придется переходить по ссылке). Император Фридрих II старался прослыть просвещенным монархом и активно подражал Римским императорам, пытаясь создать вокруг себя нечто подобное каролингскому и оттоновскому возрождению. Хотя он и немецкий император, но его родиной была Южная Италия, и туда он перенес де-факто свою резиденцию. Вместе с этим оказалось, что за исключением папских земель, теперь почти вся Италия номинально входила в состав Священной Римской Империи. Целью Фридриха стало укрепление централизации власти и окончательное подчинение Италии. В результате он смог создать практически абсолютную монархию в своих личных итальянских владениях на Юге, но не смог подчинить Папу, и даже потерял контроль над северной Италией. Города-государства севера получили фактическую независимость, получая активную поддержку от церкви. Основные партии в политической борьбе этого периода — гвельфы (за децентрализацию и Папу) и гибеллины (за императора). Папа римский и гвельфы активно поддерживали немецких феодалов, которые стремились укрепить свою местечковую власть, и централизация Священной Римской Империи не только не укрепилась, а даже наоборот ослабла, да ещё и так, что больше это государство никогда не имело смысла, как реальное государство, и скорее представляло из себя номинальный федеративный союз, близкий по смыслу к современному ЕС или НАТО. Фридрих в процессе этой борьбы несколько раз отлучался от церкви, и даже был объявлен антихристом (которого в это время регулярно предрекали). Этому также способствовало то, что по легендам он окружил себя арабскими учеными, якобы завел себе гарем, дружил с султанами востока, сам лично занимался научными экспериментами. А будучи отлученным от церкви, успешно отвоевал Иерусалим, даже не прибегнув при этом к военным действиям; т.е. просто договорившись с султанами. В общем, ему приписывали поэтому многочисленные страшные легенды на уровне колдовства и сделок с сатаной. Но из вполне реальных его заслуг перед культурой можно назвать то, что он собрал вокруг себя поздних Провансальских трубадуров, которые как раз бежали из Прованса, раздираемого террором Церкви против катаров, и создал с их помощью местную итальянскую школу — Сицилийскую школу поэзии. И сам император, и его придворные, писали стихи на литературном итальянском языке, впервые в истории, фактически создав этот язык с нуля (до этого в Италии доминировала латынь). Позже Фридрих основал в Неаполе университет в противовес Болонскому на севере, и издал указ для империи, что все врачи должны допускаться к практике только после прохождения аттестации в Салернской школе медицины. Так, при его правлении в течении 1220-1240х годов Италия форсированно прошла те этапы развития культуры, которые прошли раньше все остальные страны Европы. Но также при нем ужесточились преследования еретиков, и эти репрессии были официально узаконены на уровне всей империи. Это если коротко о правлении этого императора, и его значении для Италии.
Италия
Здесь мы упомянем тех итальянских деятелей, которые ещё не были упомянуты в статье про Итальянский предренессанс XIII века. Если в южной Италии трубадуры возымели успехи из-за административных действий императора, то на севере, где влияние окситанской (юга Франции) культуры также стало решающим, эти процессы происходили стихийно, из-за географической близости регионов. Среди последователей поэзии трубадуров, писавших на окситанском языке, здесь мы находим имена Альберико да Романо, Данте да Майано, Ланфранко Чигала, Перчивалле Дориа, Рамбертино Бувалелли, Сорделло да Гойто и многих других. Окситанская лирическая поэзия также оказала сильное влияние, помимо уже названной сицилийской, ещё и на тосканскую школу, однако, к тому времени они обе использовали свои собственные языки – куртуазный сицилийский и тосканский. Из местных хронистов мы уже не будем упоминать так много людей, как раньше, потому что их всегда много, и все они предельно однотипны. Единственно кого можно упомянуть, это Гвидо де Колумна (1210-1287), историк, поэт и судья из Мессины, написавший «Историю разрушения Трои» (основанную на античных сочинениях Диктиса и Дарета) из которой Шекспир заимствовал сюжет «Троила и Крессиды». Данте назвал Гвидо поэтом, писавшим на народном языке, и действительно до нас дошло пять его стихотворений на итальянском. Отдельно стоит упоминания сборник новелл в духе фаблио, анонимного авторства, под названием «Новеллино», созданный около 1281 года. Анализ сюжетов отдельных новелл показал, что часть из них имеет арабское происхождение, многие новеллы повествуют о дворе императоров Священной Римской Империи, одним из любимых героев книги является Фридрих II Гогенштауфен, ко двору которого, очевидно, был близок автор сборника. В ряде рассказов фигурируют герои артуровсколго цикла — Ланцелот, Мерлин. На страницах новелл фигурируют такие исторические личности, как принц Генрих («молодой король Генрих») — старший брат Ричарда Львиное Сердце; Генрих Шампанский — будущий король Иерусалимский, Раймонд-Беренгарий граф Прованский, Саладин — эмир Египетский и другие герои крестовых походов. Книга оказала большое влияние на литературу Возрождения. Ряд сюжетов «Новеллино» прослеживается в произведениях Мазуччо, Бокаччо и пр.
Поэтов сицилийской школы мы здесь пропустим, поскольку они более чем достаточно уже рассмотрены в названной выше статье, пропустим и знаменитого архитектора Никола Пизано, его сына и его последователей. Мы упомянем сначала самых звездных представителей этого периода, которых мы почти не затронули, или таких, которых просто нельзя не упомянуть повторно. Во-первых, это Майкл Скот (ок. 1175-1232), шотландский философ, математик и переводчик с арабского языка, работавший при дворе Фридриха II. Он проходил обучение в университетах Парижа и Оксфорда, а позже был каноником в Толедо (см. Толедская школа), где в 1217 году закончил перевод трактата Аль-Битруджи о сфере, перевел трактаты Аристотеля: «История животных» с иврита или арабского, «О небе», «О душе» с комментарием Аверроэса. Он пользовался успехом даже у папского престола, был назначен архиепископом одного городка в Ирландии и рекомендовался королю Англии, но всё же решил остаться в Италии на службе у императора. Прежде чем примкнуть ко двору Фридриха в Сицилии он провел год в Болонье, где уже существовал университет (таким образом он учился в трех крупнейших университетах Европы, и лично участвовал в Толедском движении). В этот последний период жизни Скот в основном писал трактаты по астрологии, также ему приписываются несколько алхимических произведений. Фридрих II разрешил первые анатомические вскрытия, несмотря на протесты католической церкви, поскольку знание анатомии человека было жизненно важно для улучшения медицины. В письме от 1227 года, записанном Скотом в его «Книге частностей», Фридрих задавал ему вопросы о происхождении земли, о географии и управлении небесами, о том, что находится за пределами последнего неба, в котором находится Бог, о точном местоположении ада, чистилища и райского сада. Он также спрашивал о душе, о вулканах, реках и морях. Не позже середины 1232 года, Майкл посвятил Фридриху свой перевод трактата «О животных» Ибн-Сины. После смерти Майкл стал известен как маг и чародей. Данте поместил его в Аду среди магов и предсказателей; Боккаччо упоминал его как некроманта, Вальтер Скотт писал, что в Шотландии Скота считали волшебником.
Один из легендарных математиков Европы, и крупнейший в XIII веке — Леонардо Фибоначчи (1170-1250) из Пизы, тоже находился при дворе императора. Он изучал математику в Алжире, находясь там по торговым делам, и поэтому неплохо понимал арабский язык. Позже Фибоначчи посетил Египет, Сирию, Византию, Сицилию. Он ознакомился с достижениями арабских математиков, а также античных и индийских в арабском переводе. На основе усвоенных им знаний Фибоначчи написал ряд математических трактатов, представляющих собой выдающееся явление средневековой западноевропейской науки. Труд Леонардо Фибоначчи «Книга абака» способствовал распространению в Европе позиционной системы счисления, более удобной для вычислений, чем римская нотация; в этой книге были подробно исследованы возможности применения индийских цифр, ранее остававшиеся неясными, и даны примеры решения практических задач, в частности, связанных с торговым делом. Фибоначчи использовал переводы Майкла Скотта для написания второй редакции «Книги абака», и в 1228 году Фибоначчи, уже из Пизы, прислал Майклу исправленную копию своего главного труда с посвящением Майклу. Придворный Фридриха, Иоанн Палермский (1180-1250), как-то предложил Фибоначчи решить несколько задач, основанных на арабских математических трудах. В 1240 году Пизанская республика почтила Фибоначчи, назначив ему жалованье в указе, признающем его заслуги перед городом в качестве советника по вопросам бухгалтерского учета и обучения граждан. Иоанн Палермский также известен переводчик математических трудов с арабского на латынь, выполнял поручения императора в Северной Африке и упоминается в одной из книг самого Фибоначчи. Математик и астролог Джованни Кампано (1220-1296), один из переводчиков Евклида с арабского на латынь, был капелланом у четырех разных римских пап. Роджер Бэкон называл Кампано одним из двух «хороших» математиков. Школа врачей в Салерно тоже никуда не пропала и продолжала работать, но из её представителей мы упомянем разве что Джованни да Прочида (1210-1292), который после получения образования стал придворным врачом императора и его наследников (Манфреда и Конрадина). Когда Манфред из Гогенштауфенов потерпел поражение, и Папа решил отдать южную Италию во владение Карлу Анжуйскому, то Джованни примирился с этим решением и поступил на службу новому королю. Но когда Конрадин поднял восстание и попытался вернуть итальянские владения, то сначала Джованни его поддержал, а когда и Конрадин потерпел неудачу, то попытался произвести переворот в свою пользу. Он потерпел неудачу и был приговорён к изгнанию с конфискацией всех владений (1270). С этих пор его не покидала мысль о низвержении Анжуйской династии. Он 12 лет готовил план мести, подбирал законных претендентов на престол, служил королям Арагона, чтобы в итоге добиться успеха и на знаменитой «Сицилийской вечерне» (истребление и изгнание французов из Неаполя), Педро Арагонский, муж одной из дочерей Манфреда Гогенштауфена, был провозглашён королём Сицилии. Теперь Прочида был назначен канцлером Сицилии. Несмотря на преклонный возраст, он вёл активную дипломатическую деятельность при различных европейских дворах с тем, чтобы убедить их признать арагонского короля законным правителем Сицилии. Из более поздних врачей Салерно, выходящих за рамки нашего периода, назовем Никколо да Реджио (1280-1350), который тоже способствовал возрождению эллинистики в Италии. Он известен переводами с греческого на латынь трудов Аристотеля и Галена, выполненными по заказу анжуйских королей.
Но другие университеты тоже начинают выпускать своих врачей, и авторитет школы в Салерно постепенно начинает угасать. Так, Болонский университет выпустил Таддео Альдеротти (Альдеротто) (1215-1295) из Флоренции, который считается самым известным врачом Средневековья. Эрудированный ученый и философ, он написал для своего друга и защитника Корсо Донати один из первых медицинских текстов на просторечии. Таддео преподавал в Болонском университете с 1260 года, применяя новаторский схоластический метод в своих медицинских лекциях. Он начинал свой урок с lectio или expositio отрывка, взятого из авторитетного текста (Гиппократа, Галена, Авиценны и т. д.). Затем он переходил к quaestiones, ссылаясь на четыре аристотелевские причины: материальную причину (предмет обсуждения), формальную причину (её описательную форму), действующую причину (автора произведения) и конечную причину (цель или назначение выбранной темы). На этом этапе преподаватель формулировал ряд dubia, за которыми следовали эвристические моменты disputatio и, наконец, solutio. В одной из его работ описывается метод концентрирования этанола, включающий повторную фракционную перегонку через охлаждаемый водой куб, с помощью которого можно было получить чистоту этанола 90%. В Болонском университете учениками Таддео Альдеротти были известный анатом Мондино де Луцци и врачи Дино дель Гарбо и Бартоломео да Вариньяна. Другой значимый врач за пределами салернской школы — Пьетро д’Абано (1250-1316) немного выходит за наши хронологические рамки и является скорее современником Данте, но он слишком яркая персона, чтобы его пропустить. Какое-то время он жил в Греции, проходил обучение в Константинополе и позже в университете Парижа, где прославился как «Великий Ломбардец». Пьетро защищал идеи аверроистов, и баловался различными алхимическими, астрологическими и оккультными практиками. Он приобрёл известность за сочинение «Согласование противоречий между философами и врачами». Будучи также астрологом, он был обвинен в занятиях магией: в частности, его обвиняли в том, что он с помощью дьявола приносил обратно в свой кошелек все деньги, которые он платил, и что он обладал философским камнем. В итоге его обвинили в ереси и атеизме, и он предстал перед инквизицией, и не дождавшись конца разбирательств, умер в тюрьме. Так формируются альтернативные школы медицины, как в Италии, так и за её пределами (в основном во Франции, в Париже на севере и Монпелье на юге).
На самом деле в XIII веке каждый университет и каждая страна Европы имела до десяти философов, которые по своей образованности могли бы стоять на уровне с передовыми именами XI века. Но в этих новых реалиях они уже не были столь выдающимися людьми. Это стало обыденной нормой. Поэтому здесь мы их даже не упоминаем. Самым крупным представителем философии и теологии в Италии становится всем известный Фома Аквинский (1225-1274), ученик Альберта Великого (о нем дальше), получивший почётный титул Учитель Ангелов (лат. Doctor Angelicus). Святой Католической Церкви, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма который связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Фома сформулировал пять доказательств бытия Бога. Признавая относительную самостоятельность естественного бытия и человеческого разума, утверждал, что природа завершается в благодати, разум — в вере, философское познание и естественная теология, основанная на аналогии сущего, — в сверхъестественном откровении. Сначала он учился в университете Неаполя (основанного Фридрихом II), а позже поехал получать образование в Париж и Кёльн. Какое-то время он преподавал философию в Риме и городах Италии, а в 1269 году вернулся в Париж, где возглавил борьбу за «очищение» Аристотеля от арабских толкователей и против учёного Сигера Брабантского. К 1272 году относится написанный в резкой полемической форме трактат «О единстве интеллекта против аверроистов». В том же году его отозвали в Италию для учреждения новой школы доминиканцев в Неаполе, и он также преподавал в Салерно. Несмотря на критику Аверроэса, в конечном итоге Фома тоже признавал две отдельные сферы знания, «истины разума» и «истины откровения». Он достаточно дотошно очищал Аристотеля от наслоений, и следовал ему даже в таких концепциях, которые вполне можно назвать прогрессивными с точки зрения эпикурейца. Например, Фома отрицал врождённые идеи и понятия, а интеллект до начала познания считал подобным tabula rasa. Однако, подобно Канту он считал, что людям прирождённы «общие схемы», которые начинают действовать в момент столкновения с чувственным материалом. Наиболее известные работы Фомы – незаконченная «Сумма теологии» (1265-1274), «Спорные вопросы об истине» (1256-1259) и «Сумма против язычников» (1259-1265). Фома написал несколько важных комментариев к трудам Аристотеля, включая «О душе», «Об истолковании», «Вторую аналитику», «Никомахову этику», «Физику» и «Метафизику». В вопросе универсалий Фома занимает умеренно-реалистическую позицию, т.е. он отвергает самостоятельное, вне-мировое существование универсалий, и для него нет отдельного «мира идей» в духе Платона, но также для него универсалии — это не просто имена или словесные ярлыки, а реально существующие сущности в вещах, которые и определяют свойства вещей.
Среди последователей Фомы в первом поколении выделяется Эгидий Римский (1246-1316), защищавший Фому во время преследований против аверроистов. Хотя Фома и боролся против Аверроэса, но он сам популяризировал Аристотеля и поэтому церковь считала его, на первых порах, не менее опасным. В политических трактатах Эгидий выступал за превосходство духовной власти над светской, т.е. был достаточно консервативен. Педагогические идеи Эгидия Римского — это новый уровень размышлений на темы воспитания, отличный от идей Гуго Сен-Викторского и Винсента из Бове. Круг вопросов достаточно широк: во второй книге трактата говорится о роли родителей в воспитании детей, о любви родителей к детям и заботе о них, о целях воспитания, о программе образования, об условиях успешного обучения, об учителе и его качествах, о греховных склонностях и должном поведении детей, об их отдыхе, одежде, об обществе друзей, о возрастных периодах детей, особенностях их образования и воспитания в этих периодах. Варфоломей Луккский (1240-1327) хронист и теолог, ученик и духовник Фомы Аквинского, библиотекарь римского папы Иоанна XXII (1316-1334), автор исторических и богословских сочинений, прозванный за свою большую учёность «Птолемеем из Лукки». Будучи убежденным республиканцем, Птолемей сыграл центральную роль в разработке теории для практики североитальянского республиканизма и был первым писателем, который сравнил примеры смешанных конституций Аристотеля — Спарту, Крит и Карфаген — с Римской республикой, древнееврейским политическим устройством, Церковью и средневековыми коммунами, однако он оставался ярым защитником абсолютной светской и духовной монархии папы, не рискуя подвергать его авторитет, в чем его поддерживал Эгидий Римский.
С Италией тесно связно происхождение ордена францисканцев (эдакий орден мистиков-неоплатоников в духе арабских суфиев). Его основателем был Франциск Ассизский (1181-1226). В общем-то он продолжал традиции мракобесов вроде Бернарда Клервосского, но несколько сменил акценты в аскетизме, пытаясь сделать его не мрачным отречением от мирской жизни, а положительным подражанием самому Христу, и вместо отшельничества в глуши он предлагал монахам-аскетам заниматься активной пропагандой среди людей. По сути, его мотивация совпадала с великими еретиками из секты катаров. То же желание морально возвышать бедняков за сам факт их бедности, та же критика официальной церкви. Единственное что позволило Франциску не попасть под каток репрессий — он не отказывался от главенства Рима над всеми христианами Европы и не боролся против них с политической точки зрения. В 1219 году Франциск отправился в Египет, чтобы попытаться обратить в свою веру султана Аль-Камиля и положить конец конфликту Пятого крестового похода. Франциск также считается покровителем животных и окружающей среды, поэтому часто изображается в окружении животных. Тут же можно упомянуть и Клару Ассизскую (1194-1253), одну из первых последовательниц Франциска и основательницу ордена клариссинок (женский филиал францисканцев). Многие монастыри клариссинок соблюдают строгий затвор — общение монахинь с мирянами может происходить лишь через решётку, символизирующую преграду между мирской и затворнической жизнью. Одеяние клариссинок — чёрная туника, опоясанная белой верёвкой, и белый головной убор с чёрным покрывалом. Из итальянских представителей ордена выделяются Антоний Падуанский (1195-1231), хотя он родился в Португалии, и который якобы своими проповедями примирял гибеллинов с гвельфами и возрващал целые города еретиков-катаров в лоно Церкви. И крупнейший философ ордена Джованни Фиданца (Бонавентура) (1221-1274), который даже учился в Парижском университете под руководством знаменитых богословов Александра Гэльского, Жана из Ла-Рошели и Гийома Овернского (о них дальше). Он направил орден францисканцев на умеренный и интеллектуальный курс, предпринимая попытки полностью объединить веру и разум. Но по сути он продолжает линию развития аскетического и консервативного неоплатонизма, выступает скорее как полноценный реалист в споре об универсалиях и мало интересуется при этом естественными науками. Так что Бонавентуру можно считать одним из центральных персонажей-мракобесов в новом поколении.
Ещё в этом ордене отметились хронист Фома из Челано (ок. 1185-1265), прославленный как автор гимна Dies irae, и Иаков Ворагинский (ок. 1230-1298), автор Legenda aurea (сборник житий святых). За пределами ордена отметился и хронист Филипп Новарский (1200-1270), итальянец, проведший всю свою взрослую жизнь на Ближнем Востоке. Он служил семье Ибелинов и участвовал в ряде важных сражений и переговоров, связанных с Иерусалимом и Кипром. Он записал хронику Лангобардской войны – спора между семьёй Ибелинов и Фридрихом II. Но куда интереснее выглядят путешественники францисканского ордена: Иоанн де Плано Карпини (1182-1252), первым посетивший Монгольскую империю и оставивший описание своего путешествия. В сопровождении другого монаха-францисканца, Бенедикта Поляка, который присоединился к нему во Вроцлаве, он через Чехию, Польшу, Киев, низовья Дона и Волги, Хорезм, Семиречье, впадину озера Алаколь добрался до района расположения главной ставки монголов в верховье реки Орхон. В 1246 году Карпини посетил Сарай, где встречался с Батыем, затем — кочевую ставку близ Каракорума в совр. Монголии. После него ещё несколько представителей ордена забирались так далеко на восток, а один из них, Джованни Монтекорвино (1246-1328) проповедовал в Индии и Китае, и даже стал первым архиепископом католической церкви в Пекине. К этому моменту связи Европы и Китая стали невероятно прочны. В Китай отправили несколько десятков монахов из Европы, путешествие туда уже опишет Марко Поло, и все это началось ещё в середине XIII века. Италия в этом поколении начинает выглядеть действительно передовой страной Европы, задавая теперь моду для всех философских диспутов. Главные её культурные феномены, это конечно же сицилийская школа поэзии, Фома Аквинский и Бонавентура. Но даже помимо этого Италия показывает неплохие результаты.
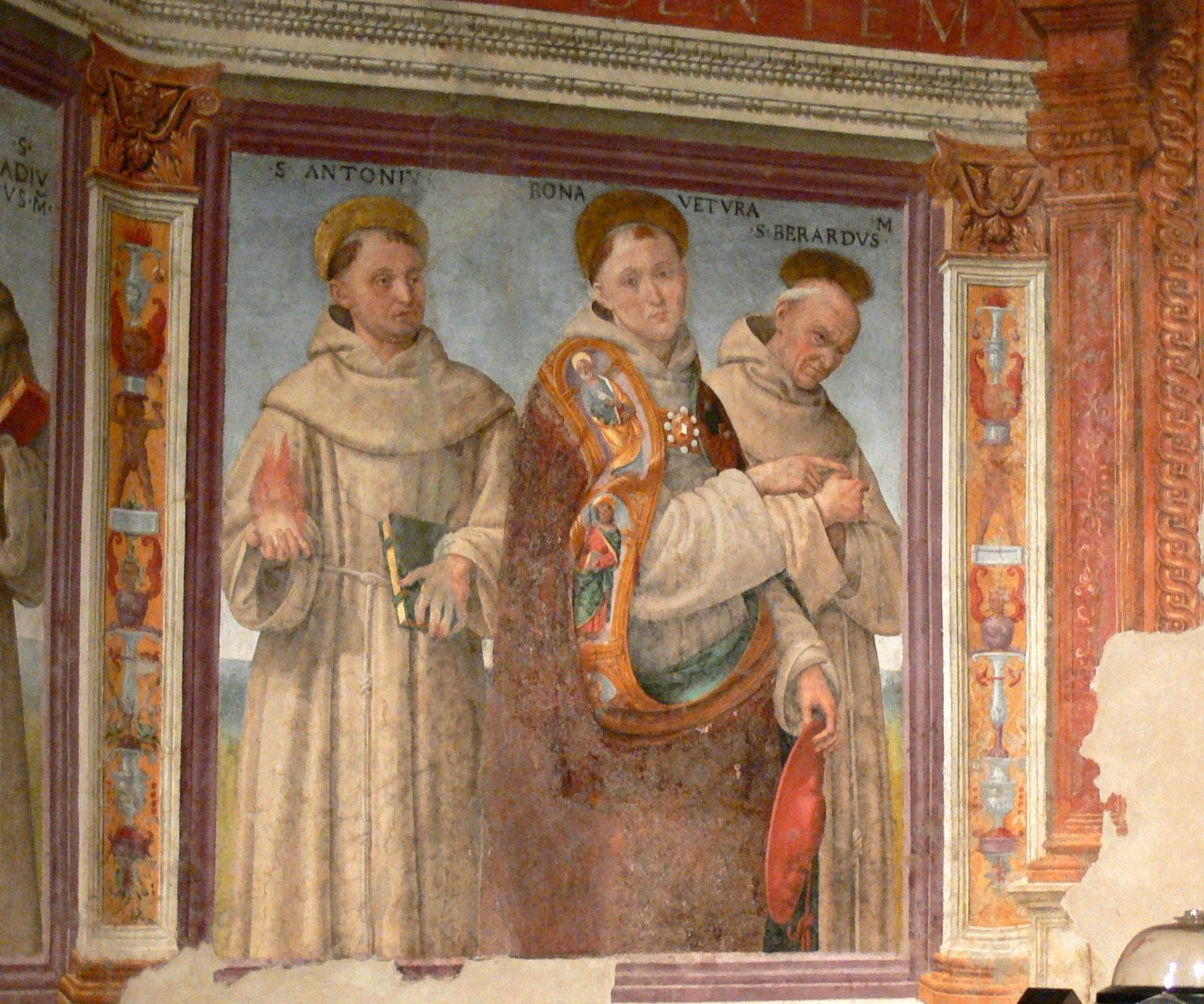
Германия
Германия в этом поколении дает гораздо больше известных философов, чем в любой из предыдущих периодов, сказывается обучение немецких студентов в Италии, Франции и Испании. И несомненно первое место здесь занимает Альберт Великий (1200-1280). При жизни он был известен как Doctor universalis, а также Doctor expertus. Представитель доминиканского ордена (оппоненты францисканцев, больше аристотелики, чем платоники), и главный учитель для Фомы Аквинского. Вероятно, получил образование, в основном, в Падуанском университете в Италии, где к тому времени уже был развит центр распространения философии Аверроэса, позже слушал лекции в Болонье, а с 1228 по 1254 годы преподавал в крупнейших университетах Баварии и Франции (среди прочего преподавал и в Париже). Альберт первым прокомментировал практически все труды Аристотеля, сделав их доступными для более широких академических обсуждений. Изучение Аристотеля привело его к изучению и комментированию учений исламских учёных, в частности Авиценны и Аверроэса, и это вовлекло его в многочисленные академические споры. Альберт полагал, что подход Аристотеля к натурфилософии не представляет никаких препятствий для развития христианского философского взгляда на естественный порядок вещей. Его книги по таким темам, как ботаника, зоология и минералы, включали информацию из древних источников, а также результаты и его собственных эмпирических исследований. За столетия после его смерти возникло много историй об Альберте как алхимике и маге. И он действительно интересовался алхимией, астрономией и всеми новинками, приходящими из арабского мира. Среди главных сочинений: Summa de creatoris («Сумма о творениях»), De anima («О душе»), De causis et processu universitatis («О причинах и о возникновении всего»), Metaphysica («Метафизика»), Summa theologiae («Сумма теологии»), De animalibus («О животных»), De vegetalibus et plantis («О растениях»), De mineralibus («О минералах»), De caelo et mundo («О небе и мире»). Он поддерживал идеи о свободной воле, и по вопросу универсалий придерживался такого же умеренного реализма, как и его ученик Фома Аквинский.
Других реально крупных философов в Германии этого поколения совсем мало, или практически нет, тут выделяются разве что Ульрих Страсбургский (1225-1277), защитник учения Фомы Аквинского, который в своём доказательстве существования Бога Ульрих приводит аргумент Эпикура «consensus omnium» и переданную Цицероном аристотелевскую версию мифа о пещере в обоснование своей теории естественно вживлённого, привычного знания о Боге. И один из друзей Аквинского, родом из немецкоязычной Фландрии — Вильем из Мёрбеке (1215-1286), известный знаток греческого языка и переводчик, а впоследствии — архиепископ Коринфа. По просьбе Фомы он перевёл ряд трудов Аристотеля, — это были первые переводы трудов Аристотеля с оригинала, а не с арабского перевода. Перевёл также математические труды Герона Александрийского и Архимеда и «Первоосновы теологии» Прокла, произведения Плутарха и др. Уже в следующем поколении, скорее современник Данте, выделяется доминиканец Дитрих Фрайбергский (1250-1310), преподаватель в Париже, главный наследник Альберта по преподаванию в школах, в том числе внесший вклад в изучение радуги. Теологические труды Дитриха, как правило, в значительной степени неоплатонические, в то время как его более светские философские работы скорее аристотелевские. Дитрих не соглашался с Фомой Аквинским по некоторым метафизическим вопросам и, по-видимому, писал работы, противоречащие отдельным работам Аквинского. Здесь стоит также отметить и отношения между самим Альбертом Великим и эпикурейцами, чтобы немного оттенить его прогрессивные тенденции его же поддержкой мракобесия. Известен факт, что Альберт Великий обвинил в эпикуреизме парижского богослова и философа Давида Динанского, развивавшего пантеистическое учение о материи в духе Шартрской школы (практически полностью предвосхитив спинозизм). Альберт указывал, что Эпикур, так же, как Анаксагор, аль Фараби, Авиценна, Абубацер и Аверроэс, враждебен христианской вере и теологии. Обвинения некоторых ересей в страшных заблуждениях связывались с эпикуреизмом. Ещё в XI в. летописец Родульф Глабр назвал эпикурейцами секту катаров. А в XIII веке один из аббатов монастыря Сен-Виктор в проповеди против амальрикан назвал их «учениками Эпикура»:
«Существуют новые безбожные учения, которые проповедуют скорее ученики Эпикура, нежели Христа. Они с опаснейшим коварством пытаются уверить тайно в безнаказанности за прегрешения, убеждая, что и грех — это ничто и за совершение греха никто не должен быть наказан Богом; по виду и разговору они благочестивы, но в помыслах и тайных деяниях они отвергают могущество его. Но, что является верхом безумия и нечестивой лжи, это то, что, будучи таковыми, они ничего не боятся и, не краснея, приравнивают себя Богу».
В общественном сознании укрепилось идущее от Нового Завета и отцов церкви отношение к эпикурейцам, как к враждебным церкви безбожникам, признающим лишь удовольствия плоти. Якоб Буркхардт писал, что доминиканская инквизиция употребляла слово «эпикуреец» как орудие против тех самых ранних оппонентов церкви, в отношении которых трудно было начать процесс за отсутствием определенно выраженного еретического учения. В таких случаях было достаточно умеренной роскоши, чтобы при помощи имени Эпикура выдвинуть обвинение. Скорее всего за этими обвинениями уже могли стоять и какие-то реальные группы людей, которые, неважно правильно или нет, но решили использовать учение Эпикура. Это важные ранние свидетельства возрождения эпикурейской тематики в Европе.
А из совершенных мракобесов, которого до сих пор очень почитают всякие марксисты и фанаты Гегеля, выделяется Майстер Экхарт (1260-1328), один из крупнейших христианских мистиков, учивший о присутствии Бога во всём существующем (пантеизм). К тому времени пантеистов уже было немало, в том числе в Шартрской школе, или среди арабов и испанцев, но для захолустной Германии этот мракобес мог выглядеть более-менее свежим примером новой философии, впрочем, равно как и Альберт Великий. Из-за близости к различным сектам, напоминающих катаров, и собственно из-за противопоставления своего учения официальному канону, Экхарт был объявлен еретиком и предстал перед инквизицией. Умер ещё до вынесения вердикта. Из последователей Франциска Ассизского в Германии выделяется разве что Бертольд Регенсбургский (1210-1272), путешествующий по Восточной Европе с тем, чтобы распространять католицизм.
Среди хронистов Германии выделяется Альберт Штаденский (1187-1264) автор «Штаденских анналов», очередной компиляции старых исторических работ. Он интересен не этой банальной работой, а тем, что ему приписывают авторство «Троила» (1249), переложения латинской эпической поэмы Дарета Фригийского о Троянской войне в 5320 стихах, с использованием также трудов Вергилия, Овидия, Павла Орозия и Джеффри Винсофского. Как историк Альберт дал некоторые подробности относительно крестового похода детей 1212 года, рассказ о путешествии двух монахов, ведущих философский диспут, а также кратко описал монгольское нашествие на Русь и Венгрию, и династические связи русских княжеств с германскими правящими домами. Является также автором морально-дидактического сочинения «Раймундус» (1234-1244), вольного перевода руководства для исповедников «Сумма случаев, требующих покаяния», принадлежащего перу каталонского богослова Раймунда де Пеньяфорта.
Наконец в Германию полноценно проникает влияние поэзии трубадуров, она достигает здесь своих самых зрелых форм. Среди поэтов выделяются Вальтер фон дер Фогельвейде (1165-1228), в юности скорее вагант, но со временем перешедший в куртуазный жанр. В любовной лирике Вальтер своеобразно осуществил синтез куртуазной и вагантской поэзии. Так любовь не является у него беспредметным обожанием абстрактной женственности; любовь должна быть земной и взаимной. В споре между «высокой» (бестелесной) и «низкой» (чувственной) любовью Вальтер занимает промежуточную позицию. В его поэзии также звучат отчетливые нотки немецкого национализма и требования политической и религиозной сепарации от Италии. Вальтера называют величайшим немецким лирическим поэтом до Гёте. Рейнмар фон Хагенау (1155-1210) это пример самого типичного и классического куртуазного поэта, без никаких выразительных особенностей, но зато считавшегося вторым по значимости при своей жизни, после Вальтера. Поэзия Генриха фон Морунгена (1170-1222) отличается образностью. Для описания красоты своей Дамы он использует блеск солнца, луны, вечерней звезды, золота, драгоценных камней и зеркал. Дама для средневековых авторов была образом античной богини любви Венеры. По форме и содержанию поэзия Генриха Морунгена близка к лирике провансальских трубадуров. Гартман фон Ауэ (1160-1210) стал очередным примером трубадура, который воспевал свое собственное участие в крестовых походах, но выделился из общей массы тем, что переносит в немецкую литературу тематику и формы романов артуровского цикла, пересказывая куртуазные эпопеи Кретьена де Труа — «Erec» (Эрек) и «Iwein» (Ивейн). Сильнее и глубже, чем его прототип, выдвигает он основную идею рыцарского долга — преодоление личного счастья во имя «чести». Мотив отречения, приобретающего религиозную окраску, выступает ярче в позднейших, более оригинальных произведениях Гартмана: небольшой стихотворной повести о «Столпнике Григории» (1210) — эпической переработке христианского варианта легенды об Эдипе — и наиболее известном произведении Гартмана — стихотворной повести о «Бедном Генрихе», — не раз вдохновлявшей поэтов романтизма и символизма. Вольфрам фон Эшенбах (1170-1220) дополнил эти тенденции, написав самый известный немецкий роман Средних веков «Парцифаль» (1210), и ещё несколько произведений вокруг мифа о Граале. Он же употреблял по отношению к Кретьену де Труа понятие «мэтр». Готфрид Страсбургский (1170-1215) дополнил их труды стихотворным романом «Тристан», представляющего собой пересказ одноимённой поэмы англо-норманского трувера Томаса Британского и образующего вместе с ней так называемую «куртуазную» версию знаменитого сюжета бретонского цикла — сюжета любви Тристана и Изольды.
Все их романы издаются всего-то спустя 30-40 лет после романов Кретьена, что для средневековья не такое уже и большое расстояние во времени. Сюда мы ещё добавим переводчика «Метаморфоз» Овидия, Альбрехта фон Гальберштадта (1180-1240) и не менее интересного его современника, Нейдхарта фон Ройенталя (1180-1240), лирика которого отличается большим новаторством: в куртуазный жанр он ввёл образы крестьян, которые часто противопоставляются рыцарскому сословию. Оба сословия иногда рассматриваются как объекты сатиры. Его песни традиционно делятся на летние и зимние (Sommerlieder, Winterlieder), каждая из которых начинается с описания природы, соответствующего времени года. Из поздних трубадуров отметим таких, как Ульрих фон Лихтенштейн (1200-1275), автор романа «Служение дамам» (1255), полного отсылок на истории про короля Артура, и Конрад фон Вюрцбург (1220-1287), чья поэзия уже гораздо консервативнее и нравоучительнее, чем у всех перечисленных выше. Из архитекторов тут выделяются мастер Герхард (1210-1271) — архитектор Кёльнского собора, и Эрвин фон Штайнбах (1244-1318) — архитектор Страсбургского собора, два примера зрелого готического стиля, перенесенного с Франции в Германию.

Франция
Франция, как центр культуры в XI-XII веках и место расположения самого престижного университета Европы, постоянно оказывается местом, с которым связаны выдающиеся деятели всех стран Европы. Здесь учатся и здесь преподают Альберт Великий, Фома Аквинский и т.д. Но и сами французы на самом деле не понижают планку, заданную в прошлых веках. Традиции Тьерри Шартрского продолжает его ученик Кларембальд Аррасский (1110-1187), хотя уже со все большей примесью Платона и со все уменьшающейся ролью натурфилософии. Несколько более плодотворным стал Амори Шартрский (1150-1208), который развивает христианство в сторону пантеизма. Самому Амори с достоверностью можно приписать только следующие три положения: Бог есть все. Каждый христианин должен верить, что он член в теле Христа, и эта вера так же необходима для спасения, как вера в рождение и смерть Искупителя. Пребывающим в любви не вменяется в вину никакой грех. Обвиненный в пантеистическом учении, Амори в 1204 г. должен был оправдаться в Риме перед Иннокентием III и по возвращении в Париж отречься от своего учения. Согласно учению его последователей (очередная еретическая секта): Ад — это невежество, поэтому Ад находится внутри всех людей, «как больной зуб во рту»; Бог тождественен всему сущему, даже зло принадлежит Богу и доказывает всемогущество Бога; человек, знающий, что Бог действует через все, не может грешить, потому что тогда каждое человеческое действие есть действие Бога; человек, осознающий истину о том, что Бог действует через всё, уже на Небесах, и это единственное воскресение. Другой жизни нет; только в этой жизни человек находит своё осуществление. Из-за преследований эта секта, по-видимому, не просуществовала долго после смерти своего основателя. Вскоре после сожжения десяти своих членов (1210 г.) сама секта утратила свое значение, в то время как некоторые из выживших амальрийцев стали Братьями Свободного Духа. Среди последователей учения Амори резко выделяется Давид Динанский (1160-1217), тот самый, которого Альберт Великий обвинил в эпикуреизме. На самом деле он тоже был пантеистом, и в отличии от немца Экхарта, даже относительно адекватным в своей форме выражения (и поэтому его не так сильно любят марксисты-гегельянцы, в отличии от Экхарта). Основа учения Давида Динанского состоит в том, что материя идентична Богу и мировому разуму («нус»). Эта «первоматерия» нераздельна, является общей субстанцией всех вещей. Следовательно, все вещи: материальные, рациональные и духовные — составляют одно целое. Давид категорически убежден в том, что «мир есть сам Бог». Формы, по мнению Давида Динанского, это проявление материи. Форма существует для чувства, материя раскрывается умом. Но средневековый материализм был невозможен вне одновременного утверждения наличия высшей духовной сущности — Бога, которого Давид и признает последней субстанцией как телесного, так и духовного. Отсюда главный вывод его натуралистического пантеизма — «Бог есть разум всех душ и материя всех тел». Вот как резюмировал это учение, спустя 150 лет, Иоанн Жерсонский:
«Всё есть Бог, и Бог есть всё. Бог есть одновременно творец и творение. Подобно тому, как Бог есть источник и начало, он также есть конец всех вещей, которые должны вернуться к нему, чтобы незыблемо покоиться и образовать неделимое единство. Всё есть единое, то есть всё есть Бог. Вслед за Альбертом Великим Давид Динанский в своей книге «De Tomis, id est de divisionibus» стремился доказать, что Нус, интеллект и первоматерия тождественны и что это тождество соответствует высшему понятию духа. Если мы различаем их, мы должны предположить более высокое общее понятие, в котором они объединяются, и это понятие было бы именно тождеством Бога и первоматерии».
В 1210 году Давид Динанский был осужден Римско-католической церковью за произведение «Quaternuli» (Записная книжка), а в 1215 году официально проклят на церковном соборе и объявлен еретиком. Экземпляры произведения были изъяты и сожжены. Содержание «Quaternuli» известно благодаря свидетельствам современников и оппонентов Давида, в основном, Альберта Великого и Фомы Аквинского. Последние, возражая Давиду Динанскому, оправдывали Аристотеля, произведения которого «Физика» и «Метафизика» оказали значительное влияние на формирование, по сути, пантеистических воззрений Давида Динанского и были строго запрещены после сожжения книг Давида. Так что Шартрская школа быстро теряет значение с появлением университетов. А из философов, связанных уже с Парижским университетом мы назовем основателя Сорбонны, богослова Робера де Сорбона (1201-1274), собравшего крупнейшую библиотеку в Европе и Гийома де Сент-Амура (1202-1272), ректора Парижского университета, который в 1255 году написал памфлет против новых нищенствующих орденов (францисканцев, а затем доминиканцев): «Краткий трактат об опасностях конца света», подражая писателям фаблио и пользуясь их поддержкой. Это высмеивало более крайние эсхатологические спекуляции некоторых монахов, которые утверждали, что братские ордена возвестит о наступлении третьего и последнего века мира, славной эры Святого Духа. В своей книге Гийом подразумевал, что монахи действительно сыграют важную роль в ускорении конца света, но только потому, что они будут способствовать пришествию Антихриста, и перечислил 41 признак наступления конца света, в которых содержались грехи самого духовенства, как институции. Трактат вызвал письменное противодействие со стороны Фомы Аквинского, Бонавентуры и Альберта Великого, а в 1257 году папа Александр IV осудил его автора, а Людовик IX изгнал его из Франции.
В Париж того времени также проникли виднейшие последователи аверроизма в Европе. Главный представитель этого движения — Сигер Брабантский (1240-1284), родом из совр. Нидерландов, профессор факультета искусств в Париже. Автор многочисленных комментариев к сочинениям Аристотеля. Сигер считал, что истина рационального знания может противоречить истине религиозного откровения. Он признавал существование Бога как первопричины, отрицал творение из ничего, считал, что мир совечен Богу. Сигер пришёл к выводу о вечности мира, полагая, что Бог есть перводвигатель, отрицал бессмертие индивидуальной души человека, отстаивал приоритет разума, который в аверроистической концепции считался единым, универсальным и общим для всего человечества. В политике Сигер считал, что хорошие законы лучше хороших правителей, и критиковал папскую непогрешимость в мирских делах. Взгляды Сигера Брабантского были осуждены Альбертом Великим, Фомой Аквинским (трактат «О единстве разума против аверроистов») и другими. Дальнейшее разбирательство по поводу осуждения Сигера было перенесено к папскому двору, однако во время следствия по неизвестным причинам философ был убит. Его ближайшим соратником в деле распространение аверроизма был Боэций Дакийский (1230-1284), родом из Дании. Из прогрессивных моментов можно ещё выделить деятельность врача Жиля де Корбейля (1140-1224), автора «Поэмы о медицине», состоящей из нескольких книг, которая служила образцом для обучения на медицинском факультете в Париже вплоть до XV века. Медицину он изучал в итальянской школе Салерно, но позже продолжил её изучение в новосозданной медицинской школе Монпелье на юге Франции, которая уже вполне могла считаться одной из 4-х крупнейших школ Европы. Корбейль считается автором сатирического памфлета «Святая лень, очищающая прелатов» («Hierapigra ad purgandos prelatos»). В прологе поэт взывает не к музе, а к папе (очевидно, к Иннокентию III), от которого надеется получить противоядие, способное исцелить морально больных прелатов. Но ещё более значимым автором, связанным с наукой, стоит признать физика Пьера Пелерена де Марикура (1240-1300), который первым в Европе предпринял систематическое экспериментальное исследование свойств магнитов и опубликовал результаты в обширном трактате «Послание о магните». В нём де Марикур подробно перечисляет свойства магнита, сообщает, как найти у него северный и южный полюса, как намагничивать иглу компаса. Описывается процедура перемагничивания и законы взаимодействия двух магнитов между собой. В конце трактата де Марикур призвал применить изложенные знания для постройки вечного двигателя, чертёж которого был приложен.
Малоизвестный философ Гийом Осерский (1140-1231) был ранним сторонником Фомы Аквинского в Париже. Ещё один член доминиканского ордена, начавший свою карьеру там же, где и Гийом, это куда более знаменитый Винсент из Бове (1190-1264), хронист, философ и педагог, а также воспитатель детей короля Людовика IX Святого. Главным трудом Винсента является универсальная энциклопедия гигантского объёма «Зерцало великое», состоявшая из четырёх частей: (1) Зерцало природное (2) Зерцало вероучительное (3) Зерцало историческое (4) Зерцало нравственное. Написанное на латыни, оно состоит из 80 книг и 9885 глав, являясь, по сути, самой значительной энциклопедией Средневековья. Энциклопедия Винсента из Бове сохранилась более чем в 250 рукописях, и уже в XIII веке была переведена на несколько языков, включая французский, фламандский и каталонский. На протяжении нескольких столетий она пользовалась непререкаемым авторитетом не только у учёных-схоластиков, начиная с Альберта Великого и Роджера Бэкона, но и некоторых поэтов, включая Джеффри Чосера. Но нужно отметить, что изложенная в этой книге философия природы очень архаична и пропитана официальным богословием, гораздо сильнее, чем было принято в то время. Парижский архиепископ Гийом Овернский (1190-1249), толкователь Аристотеля и профессор теологии в Париже, больше прославился своим антисемитизмом, борьбой с проституцией и учениями катаров. Он же активный участник Парижского диспута на счет Талмуда (1241 год), результатом которого стало массовое сожжение иудейской литературы. А важнейшим примером культивации мракобесия в Париже стал Александр Гэльский (1185-1245), основатель францисканской школы при Парижском университете, «неопровержимый доктор» (doctor irrefragabilis), задавший структуру «суммы» как философского стиля. Его знаменитым студентом и последователем был итальянец Бонавентура. Александр известен тем, что размышлял над трудами нескольких других мыслителей Средневековья, особенно над трудами Ансельма Кентерберийского и Августина Блаженного. Он также цитировал таких мыслителей, как Бернард Клервосский и Ришар Сен-Викторский. Четыре фундаментальных столпа платонического мракобесия Европы. Этих мракобесов ещё поддерживал достаточно заметный в то время автор Этьен де Бурбон (1180-1261), автор известных сборников exempla (примеры) — своеобразного жанра средневековой латинской литературы с ярко выраженной дидактической функцией (один из источников для ранних фаблио). С другой стороны францисканцы во Франции, также как и в Италии, подготовили путешественника на дальний Восток — Гильома де Рубрука (1210-1293). По поручению французского короля Людовика IX он совершил путешествие к монголам, и написал по этому поводу книгу «Путешествие в восточные страны». Книга была достаточно заметной, чтобы Роджер Бэкон, современник и соратник Вильгельма, в своём «Большом труде» цитировал этого путешественника.
Традиции трубадуров, начатые во Франции столетием ранее, продолжаются дальше, но вскоре трубадуры исчезнут, поскольку большинство из них поддержали ересь катаров и подверглись жестким репрессиям. Многие бежали в Испанию, некоторые в Италию, но всё же во Франции деятельность продолжают Пейре Видаль (1175-1210), крестоносец, служивший во многих дворах Испании, но все же не покинувший Францию насовсем. Адам де ла Ааль (1240-1287), творил в основном во Франции, хотя и умер в Неаполе. Его пьесы: «Игра о беседке» и «Игра о Робене и Марион» рассматривают как дальний прообраз оперы. От покровительницы трубадуров Марии Вентадорнской (ум. в 1221 году), которая сама писала стихи сохранилась тенсона, где рассматривается вопрос о равенстве куртуазных влюблённых. Также технически можно считать французским трубадуром (трувером) короля испанского королевства Наварра — Тибо IV Шампанского (1201-1253). Хоть он и правил не совсем во Франции, но был французом по происхождению. Тибо автор большого количества произведений («Пререкание», «Песнь о Крестовом походе» и т. д.), многих лирических песен о любви с музыкальным аккомпанементом, автор религиозных поэм, сирвент. Получил прозвище «принц труверов». Испытал влияние лирики Прованса. Считается, что он привёз розы во Францию. Крупным религиозном поэтом, слабо связанным с куртуазной лирикой был Готье де Куэнси (1177-1236), в его наследии наиболее известен сборник легенд (ок. 30000 стихов) о чудесах Богородицы. И забегая вперед на столетие сразу упомянем Гильома де Машо (1300-1377), который считается «последним трувером» и одновременно представителем исторического периода в музыке Ars nova. В своей поэзии он активно пользуется отсылками на крупнейшее произведение французских романистов со времен Кретьена де Труа — «Роман о Розе».
Эта книга состоит из двух самостоятельных частей, написанных разными авторами в разное время и различных по духу. Из 22 817 стихов поэмы первые 4028 написаны около 1225-1230 годов Гийомом де Лоррисом (1180-1238). Произведение Гийома де Лорриса может во многом рассматриваться как кодекс куртуазной любви для аристократического общества, хотя и содержит в себе некоторые отклонения от куртуазной доктрины. Книга создана под влиянием «Сна Сципиона» Макробия (он упомянут в тексте Гийома), а также произведений Овидия и Кретьена де Труа. Кроме того, Гийом опирался на созданный за полтора десятилетия до его книги «Роман о Розе» Жана Ренара, значительно трансформировав его. Продолжение романа принадлежит перу Жана Клопинеля, уроженца города Мёна (1240-1305). Основательный знаток схоластической науки средневековья, он создал своего рода поэтическую энциклопедию, сумму познаний своего времени. Жан де Мён хорошо знал античную и средневековую философию, астрономию, астрологию, алхимию, оптику. Во второй части «Романа о Розе» он цитирует Аристотеля, Платона, Вергилия, Овидия, Горация, Ювенала, Боэция. Из хронистов назовем нескольких: это Робер де Клари (1175-1220), рыцарь из Пикардии, участник и летописец 4-го крестового похода, написал книгу «Завоевание Константинополя». Хронист Жан де Майи (1190-1250) создает сокращенную версию деяний всех знаменитейших святых. Не говоря уже об очередной всемирной хронике, очередной пример которой составил не только Жан, но ещё и его коллега, доминиканец Жеро из Фраше (1205-1271).
В этом поколении в архитектуре уже гораздо лучше выделяются конкретные имена авторов. Известны как минимум Жан д’Орбе (1175-1231), архитектор Реймсского собора. Жан де Шелль (1200-1265) и Пьер де Монтрёй (1200-1267), архитекторы, работавшие над собором Парижской Богоматери. Робер де Люзарш (1170-1222) и Томас де Кормон (1190-1250), архитекторы Амьенского собора. А также известен крупный скульптор и ювелир Никола де Верден (1130-1205). Все это дает нам в целом неплохой пример развитой культуры, но все же приходится признать, что это происходит скорее вопреки, а не благодаря социально-политической обстановке во Франции. Крестовый поход против катаров, как мы видели выше в массе частных примеров, развязал руки церковным реакционерам и Франция стала одним из центров, где активнее всегда внедрялись запреты литературы, сожжения книг, угрозы убийствами и т.д. На этом фоне можно даже подумать, что Италия уже здесь начала опережать Францию по своему культурному развитию, хотя на самом деле это далеко не так.

Англия
Включение аристотелизма в христианство, которое раньше казалось почти невыполнимой задачей, было достигнуто благодаря работе Фомы Аквинского и его единомышленников. В то время как доминиканское движение быстро приняло его, сильное движение францисканцев отвергло его, и осталось верным святому Августину (или Бонавентуре). Многие доминиканцы, пускай и критично, но все же обратились к Авиценне или Аверроэсу (или Сигеру Брабантскому, Боэцию Дакийскому). Последовавшая ожесточенная интеллектуальная борьба привела к осуждению в 1277 году 219 положений Аристотеля и Аверроэса епископом Парижа. Обучение томизму было приостановлено до 1285 года, пока не была организована решительная оппозиция томизму. Именно из этой оппозиции в начале XIV века возникли новые школы, происходящие от францисканских учителей: Дунса Скота и Вильяма Оккама (их мы тоже затронем, хотя они относятся уже к следующему поколению, современников Данте). Удивительным образом Англия, демонстрирующая догоняющее развитие на рубеже веков, в XIII веке резко вырывается вперед в плане развития секуляризованной науки. Первым делом мы рассмотрим фигуру Роберта Гроссетеста (1175-1253), основателя оксфордской философской и естественнонаучной школы, теоретика и практика экспериментального естествознания. Он учился в Оксфорде и Париже, стал магистром искусств в Оксфорде в конце XII века, а магистром теологии — в 1214 году. В трактате «О свете или о начале форм» Гроссетест развивает концепцию «метафизики света», исходящую из понятия о свете как тончайшей телесной субстанции и одновременно как первичной форме и энергии. Гроссетестом созданы также трактаты «О сфере», «О линиях, углах и фигурах», «О радуге», «О наступлении и отступлении моря». В своих работах Гроссетест высказывает мысли о том, что изучение явлений начинается с опыта, посредством их анализа устанавливается некоторое общее положение, рассматриваемое как гипотеза. Отправляясь от неё, дедуктивно выводятся следствия, опытная проверка которых устанавливает их истинность или ложность.
Всё это перенимают и развивают ученики Роберта, где среди многих можно было бы назвать Адама Марша, и ещё некоторых, но это затянет и без того огромную компиляцию авторов. Так что перейдем сразу к самому знаменитому ученику Роберта по имени Роджер Бэкон (1219-1292), который, между прочем, во время кратковременного путешествия Майкла Скотта из Италии в Англию, и успел с ним лично познакомиться, будучи ещё юношей. Это несколько странно, но Роджер, как и остальные крупные ученые Англии того времени, был францисканцем, а не доминиканцем, как можно было бы ожидать. Он занимался математикой, химией и физикой; в оптике разработал новые теории об увеличительных стёклах, преломлении лучей, перспективе, величине видимых предметов и другие. Хотя в философии Бэкон не создал принципиально нового учения, но он дал аргументированную критику методов и теорий своего времени, исходивших из того, что философия достигла совершенства; он первым выступил против схоластики и резко отзывался о тогдашних великих авторитетах (Альберте Великом, Фоме Аквинском и др.). Это обстоятельство в связи с его критикой распущенности духовенства навлекло на него преследование духовной власти и 12-летнее тюремное заключение. Его сочинение «Opus majus» (1268) проводит мысль о бесполезности отвлечённой диалектики, о необходимости изучения природы посредством наблюдения с использованием математических вычислений. Из-за этого его часто считают предшественником эмпиризма. Правда и сам Роджер признавал, что значительная часть его открытий в оптике и само применение эмпирического метода и индуктивной логики он заимствовал у своего учителя, Роберта Гроссетеста. Бэкон отмечал о Вильгельме Шервудском, что «никто не был более велик в философии, чем он»; восхвалял Пьера Марикура (автора «Письма о магнетизме») и Иоанна Лондонского как «совершенных» математиков; Кампано из Новары и магистра Николаса как «хороших»; признавал влияние Адама Марша и менее значительных личностей. Роджер считал, что только математика, как наука, наиболее достоверна и несомненна. С её помощью можно проверять данные всех остальных наук. Кроме того, он утверждал, что математика — самая лёгкая из наук и доступна каждому. Бэкон выделял два типа опыта: 1) реальный, жизненный опыт, который можно приобрести только в процессе жизни; и 2) опыт — доказательство, полученный через внешние чувства. Он касается только материальных предметов. Но существует ещё духовный опыт, утверждал Бэкон, который возможно познать только избранным людям через мистическое состояние, через внутреннее озарение. Данная идея предвосхитила собой появление идей об эвристическом озарении и роли интуиции в науке. Бэкон пытался внести в алхимию элементы науки. Он подразделял алхимию на умозрительную (теоретическую), которая исследует состав и происхождение металлов и минералов, и практическую, занимающуюся вопросами добывания и очистки металлов, приготовления красок и т. п. Считал, что алхимия может принести большую пользу медицине, предвосхитив в некоторой степени идеи Парацельса. Бэкон дает теорию и способ устройства телескопа, но описание это настолько неудовлетворительно, что нельзя быть уверенным в том, чтобы он владел подобным инструментом. Порох, изобретение которого также приписывалось ему, был уже до него известен арабам. То место в сочинении Бэкона, где говорится о порохе и на основании которого ему приписали честь этого изобретения, едва ли может привести к такому заключению. Зажигательные стекла были общеупотребительны; а очки, как надо полагать, изобрел не он, хотя ему нельзя отказать в знакомстве с законом их устройства. В раннее Новое время его считали волшебником, и он особенно прославился историей о своей механической или некромантической говорящей медной голове.
Позже традиции Бэкона унаследуют такие францисканцы, как Дунс Скот (1266-1308) и Уильям Оккам (1285-1347). Но эмпиризм Дунса Скота буквально идентичен Фоме Аквинскому, разве что слегка переходя от умеренного реализма в универсалиях к умеренному номинализму. Это ещё далеко не позиции в духе эмпириков XVII века. Он стремился примирить веру и разум, и его философия — это синтез аристотелизма и августинианства, построенный вокруг идеи божественной свободы. Скот отвергал жёсткий детерминизм: Бог творит мир свободно, и мог бы создать иной порядок вещей, согласно его учению о «формальной бесконечности» Божьей воли. Отсюда следовал особый интерес к индивидуальному: он вводит понятие haecceitas («эта-ность»), определяющее уникальность каждого сущего, что позволяет объяснить, как отдельные вещи реально различаются, а не только мыслятся разными. Он защищал учение о «формальной различности» — среднее между реальным и чисто логическим различием, что позволяло сохранять единство субстанции и всё же различать её свойства. В этике он ставил волю выше интеллекта: добродетель — это акт свободной воли, а не следствие познания добра. Такой «волюнтаризм» готовил почву для более личностного понимания морали и для концепции естественных прав. Куда более революционным выглядит Уильям Оккам. Его философия строится на радикальном номинализме: универсалии не существуют реально, а лишь как имена (nomina) в уме; реальны только единичные вещи. Этот поворот разрушал метафизические конструкции реалистов и ставил акцент на эмпирическое знание. Оккам выдвинул знаменитый принцип экономии («бритва Оккама»): не следует умножать сущности без необходимости, т.е. любая гипотеза должна быть минимальной, достаточной для объяснения фактов. В гносеологии он настаивал, что знание основывается на интуитивном познании единичного, а не на спекулятивных универсалиях. В теологии Оккам отделяет веру от разума: разум не может доказать догматы, вера — дело воли. Он критикует папский абсолютизм, утверждая верховенство светской власти и автономию государства. Этика Оккама тоже волюнтаристская: моральные законы зависят от воли Бога, а свобода воли человека абсолютна. Уже только этих троих: Скота, Оккама и Бэкона, было бы достаточно, чтобы признать абсолютное первенство Англии в философской мысли Европы XIII века. Но мы ещё рассмотрим других деятелей этого периода. Например, Уильям из Шервуда (1190-1249), автор двух книг, которые оказали значительное влияние на развитие схоластической логики: Введение в логику (лат. Introductiones in Logicam) и Синкатегорематика (лат. Syncategoremata). Это первые известные нам произведения обобщающего характера по теории суппозиций. Роджер Бэкон называет Уильяма Шервуда в числе двух наиболее мудрых людей христианского мира, наряду с Альбертом Великим, отмечая превосходство мудрости Уильяма по сравнению с Альбертом. Его лекции в Париже оказали влияние на Ламберта из Осера и логика Петра Испанского. Ламберт из Осера (1210-1280) был знаком с арабской философией, пользовался также компендием аристотелевой логики Михаила Пселла. Наиболее известное его произведение — «Summa Lamberti» стала впоследствии авторитетным в Европе учебником логики. Британец Иоанн Сакробоско (1195-1256) был не менее известным математиком и астрономом. Получил образование в Оксфорде, а с 1221 года преподавал в Сорбонне. В «Трактате о сфере» (1230) Сакробоско излагает основы сферической геометрии и геоцентрической системы мира, следуя Клавдию Птолемею и его арабским комментаторам: Сабит ибн Курра, аль-Бируни, аль-Урди и аль-Фергани. По этому трактату изучалась астрономия во всех европейских университетах в течение следующих четырёх столетий.
Хронист Матвей (Мэтью) Парижский (1200-1259) помимо того, что был хронистом, известен также и как иллюстратор рукописей и карты Британии. А его коллега, хронист Джон из Уоллингфорда помимо очередных историй Англии, церкви и мира, известен своей картой климатов. Эта карта, составленная между 1247 и 1258 годами на основе неизвестного варианта карты Матвея Парижского, имеет восточную ориентацию и содержит всего 29 географических названий. Земля на ней подразделена не только на 8 климатов, но и на северо-восточную, северо-западную и южную трети, границы которых не совпадают с традиционным членением на Азию, Европу и Африку. В центре полушария указывается мифический «срединный город Арен», а на крайнем востоке Каспийские горы, Кумания, Русь, Венгрия и Дакия, но в целом распределение топонимов в пределах климатов не имеет соответствий ни в европейской, ни в арабской картографии. Пояснительные тексты к югу от экватора и за пределами карты на том же листе говорят о сферичности Земли, о яйцеобразном строении мира, о водах, об обитателях неизвестного южного континента и о том, что северная половина полушария своей формой походит на распростёртую хламиду. Вверху листа, за пределами земного круга, в восточном направлении располагается рай.
Гервасий Тильберийский (1152-1234) — юрист энциклопедист при дворе Фридриха II, хотя он родом из Британии, но почти всю жизнь провел при дворах во Франции и Италии. Главный труд Гервасия — «Otia imperialia» («Императорские часы отдыха»), всемирная история и описание мира, написанные, вероятно, между 1209 и 1214 годами для императора Оттона IV. В нём не только представлены научные энциклопедические сведения о географии и мировой истории, но и собраны легенды и истории о чудесах из средневековых устных преданий Англии и Средиземноморья. Таким образом, «Otia» предоставляют важные свидетельства в пользу легенды о Вергилии, артуровской традиции, современных верований в ведьм и демонов, а также мифологии фей и мотива Мелюзины. Из античных классиков Гервасий часто цитирует Саллюстия, Лукреция, Горация, Вергилия, Овидия, Лукана, Плиния Старшего, Ювенала, Клавдия Клавдиана, Павла Орозия, Исидора Севильского и др. «Императорские часы отдыха» возродили в литературе Европы античный жанр парадоксографии. Поэт Лайамон (ок. 1170-1240) — автор «Брута», ставшего первым более-менее заметным англоязычным произведением из цикла об Артуре и Рыцарях Круглого стола. Эпос назван в честь мифического основателя Британии, Брута Троянского; во многом основан на англо-нормандском «Романе о Бруте». Однако он длиннее, и включает в себя расширенный раздел о жизни и подвигах короля Артура. Среди новых материалов был рассказ о рождении Мерлина и об одном из истоков Круглого стола, а также подробности отплытия Артура на корабле в Авалон, чтобы исцелиться у королевы эльфов.

Испания
Главный конкурент итальянского ордена францисканцев, которого мы так много упоминали выше, т.е. доминиканский орден, возникает в Испании. Как не трудно заметить, их основное различие было в том, на что ориентироваться, на неоплатонизм, мистику и откровение (францисканцы), или на аристотелизм, рационализм и систематизацию знаний (доминиканцы). В каком-то отдаленном смысле они стали аналогами конфликта между суфиями и фальсафа в исламском мире. Но как мы уже видели на примере Англии, иногда под крылом франсисканцев могли расположиться довольно материалистически настроенные мыслители, и орден вполне принимал их, лишь бы только те активно писали против Фомы Аквинского, Альберта Великого и прочих доминиканцев. Что характерно, оба ордена имели широкое распространение и влияние преимущественно в Испании, Италии и Франции, т.е. в романских культурах, тогда как немецкие и английские филиалы уже не пользовались настолько повсеместным влиянием. Доминиканский орден был основан человеком, по имени Доминик де Гусман Гарсес (1170-1221). Он активно участвовал в проповедях на юге Франции, во время террора Папства против секты катаров. В 1214 появляется первая община в Тулузе, шестеро единомышленников из этой общины стали затем ядром Ордена проповедников. В 1215 году во время работы IV Латеранского Собора, Доминик прибывает в Рим и обращается к папе Иннокентию III с просьбой утвердить Орден, однако утверждён устав ордена был уже в 1216 году следующим папой Гонорием III в булле Religiosam vitam. Орден получил имя Орден Проповедников, впоследствии его стали чаще называть орденом доминиканцев по имени основателя. Главными задачами ордена были проповедь Евангелия и изучение наук. В 1217 году Доминик переехал в Рим, где начал интенсивную работу в интересах созданного им и быстро растущего ордена. В 1218-1219 он совершил визитацию доминиканских монастырей во Франции, Испании и Италии. На первых генеральных капитулах ордена Доминик определил его структуру, в частности, ввёл разделение ордена на провинции. Сам Доминик ничем особенным не выделился, как мыслитель, что относится и к двум следующим главам ордена. Испанский святой Пётр Ноласко (1189-1256) по крайней мере прославился тем, что организовывал выкуп христиан из рабства в арабских странах. Это предприятие стали называть орденом мерседариев. Начиная с момента создания ордена и до смерти Петра Ноласко в 1256 году мерседарии выкупили из плена около 4300 человек.
Толедская школа переводчиков продолжает свою работу, и теперь она попадает под покровительство короля Альфонсо X Мудрого (1221-1284). В Португалии XIII-го века Жиль Сантарен перевел «De Secretis Medicine» арабского около-эпикурейца ар-Рази, а переводы Арнольда из Виллановы (1235-1313) включают работы Галена и Авиценны, но и сам этот автор заслуживает отдельного места. Вилланова, один из крупнейших испанских врачей и алхимиков, который стоял у колыбели медицинской алхимии, автор «Салернского кодекса здоровья», который считается самым выдающимся произведением Салернской врачебной школы и написан по канонам того времени в стихах. Арнольд происходил из простой семьи и получил образование в одном из доминиканских монастырей, где кроме теологии изучал древнееврейский и арабский языки. Позднее в Париже и Монпелье он изучал естественные науки, медицину и алхимию. Став в Париже магистром искусств, возвратился в Монпелье для изучения естественнонаучных и философских сочинений. Около 1260 года он начал изучать медицину в Монпелье, и получил звание магистра медицины. Много путешествовал по территории Испании, Северной Африки, Италии и Франции. В 1291 году вопреки установившимся правилам он получил в университете Монпелье кафедру медицины (знаменитого своим медицинским факультетом), не имея ни церковного сана, ни папского разрешения на преподавание. Считается одним из первых врачей, применявших спирт в качестве антисептика. Под влиянием Иоахима Флорского он утверждал, что в 1378 году наступит конец света и придёт Антихрист. В 1299 году он был осуждён Парижским университетом, обвинён в ереси и заключён в тюрьму за свои идеи церковной реформы, но был спасён благодаря вмешательству Бонифация VIII, которого Арнольд вылечил от мучительной болезни. Он снова был заключён в тюрьму в Париже около 1304 года при папе Бенедикте XI, а Сорбонна приказала сжечь его философские труды. Затем Арнольд стал послом Якова II, короля Арагона и Сицилии. Он искал убежища от инквизиции при дворе Фридриха III на Сицилии. Арнольд, несомненно, стоит за папской буллой от 8 сентября 1309 года, которая требовала от студентов-медиков знания около пятнадцати греко-арабских трактатов, включая труды Галена и Авиценны. В 1311 году он был вызван в Авиньон папой Климентом V, но умер во время плавания у берегов Генуи.
В Монпелье Арнольд был учителем Раймонда Луллия (1235-1315), философа из Мальорки. Луллий считается одним из родоначальников европейской арабистики и комбинаторики. Одним из первых применил диаграмму связей. Луллию также приписывается обширный псевдо-эпиграфический корпус алхимических трактатов. После припадка, который Луллий истолковал как видение Христа, он озадачился поиском нового, лучшего способа борьбы с неверными. Итогом этих размышлений стали три конкретных мысли, которые он приписал особому откровению свыше:
- мысль об особом методе или искусстве, посредством которого можно с разумной необходимостью вывести из общих понятий всякие истины, и прежде всего — истины христианского вероучения;
- мысль об основании миссионерских коллегий, где, кроме других предметов, изучались бы основательно восточные языки, особенно арабский;
- мысль о преобразовании монашеско-рыцарских орденов в один великий миссионерский орден.
Вся дальнейшая жизнь Луллия всецело посвящена осуществлению этих трёх мыслей. Для выполнения первой из них он пишет множество больших и малых трактатов, где с разных сторон старается изложить и выяснить свой логический метод, называемую им ars generalis, ars universalis, ars magna и т. д. В этом «искусстве» Луллий стоит на почве средневекового реализма, согласно которому общие понятия (universalia) обладают собственным самостоятельным бытием. Исходя отсюда, Луллий предполагает, что действительность есть не что иное, как правильное и постепенное усложнение общих понятий через их различные комбинации друг с другом, а потому разум, следя за логическим порядком понятий, может открывать действительную связь вещей. То есть он не только шиз, но ещё и платоник. Он считается самым последовательным из средневековых «реалистов», доведший эту точку зрения до панлогизма (то есть отождествления порядка действительности с порядком логическим) пятью веками раньше Гегеля. В конечном итоге, то что он изобрел, и назвал Искусством, было универсальным шаблоном для доказательства истинности христианского учения собеседникам всех вероисповеданий и национальностей. Искусство состоит из набора общих принципов и комбинаторных операций, и проиллюстрировано диаграммами. Наиболее значительным сторонником Луллия в раннем современном периоде был Николай Кузанский. Он собрал множество трудов Луллия и адаптировал многие аспекты его идей для собственной мистической теологии. Позже под влиянием Луллия находился Джордано Бруно.
Часто в этом столетии встречаются упоминания Петра Испанского (Иоанн XXI) (1215-1277), это единственный папа португальского происхождения. Педру, вероятно, родился в Лиссабоне и начал учёбу в епископской школе Лиссабонского кафедрального собора, а затем поступил в Парижский университет, хотя некоторые историки утверждают, что он получил образование в Монпелье. Везде, где он учился, он концентрировался на медицине, теологии, логике, физике, метафизике и диалектике Аристотеля. Из медицинских сочинений Иоанна большой известностью пользовалась «Practica medicinae», а его «Summula logicae» была в своё время весьма распространенным учебником. Кроме того, Иоанн написал комментарий на Аристотеля и Фому Аквинского и много других трактатов. Одна из наиболее полных книг о контрацепции была написана «Петром Испанским», и содержала рекомендации по контролю рождаемости и менструального цикла. Книга была чрезвычайно популярной и получила название «Сокровище бедных». Для проведения интересовавших его медицинских исследований папа пристроил новое помещение к папскому дворцу в Витербо — здесь он собирался уединяться, чтобы спокойно работать. 14 мая 1277 года, когда папа был один в этом помещении, рухнула крыша. Иоанн был извлечен из-под обломков и умер 20 мая от полученных травм. После его смерти ходили слухи, что Иоанн XXI на самом деле был волшебником, и что он писал еретическое сочинение в комнате, из-за чего Господь обрушил на него потолок.
Что же до других испанских авторов, то одним из писателей литературного круга короля Альфонсо X был Хуан Хиль де Самора (1240-1320), известный на латыни как Эгидий Саморенсис. Он писал агиографии, исторические труды, труды по теории музыки, естественным наукам, поэзию и проповеди. Канцлер Хуан де Сория (1170-1246) был автором латинской «Хроники королей Кастилии». А испанский церковный и государственный деятель, архиепископ Толедский, полководец и историк Родриго Хименес де Рада (1170-1247) оставил нам ряд сочинений, наиболее известным из которых является его De rebus Hispaniae, в которой он описывает историю государств и территорий Иберийского полуострова вплоть до года 1243. Кроме этого, внимания заслуживает его Historia arabum, занимающаяся историей и культурой арабо-исламского Средневековья. Также можно отметить писателя и путешественника (которого уже по счету) по имени Лука Туйский (ок. 1180-1249), родом из Леона, внёс значительный вклад в становление культа Исидора Севильского в Леоне, начало которому было положено обретением мощей святого в 1063 году. Три сохранившихся произведения Луки, в число которых входят «Всемирная хроника», «Чудеса святого Исидора» и «Об иной жизни» (трактат против ересей), наполнены идеями севильца. В юности Лука посетил Париж, а в понтификат Григория IX — Рим. Из произведения «Об иной жизни» известно о его путешествиях в Грецию, Константинополь, Армению и Тарс.
Если говорить про литераторов и поэтов, то здесь стоит указать на Гонсало де Берсео (1198-1264), представителя «учёно-церковной» поэзии, носившей название «messer de clerecia». И целую массу каталонских, арагонских, кастильских и португальских трубадуров, из которых выделим только некоторых. Например, галисийский жонглёр Мартин Кодакс (1240-1310), автор 7 кантиг о друге, написанных на галисийско-португальском языке. Единственный галисийский автор того времени, тексты светских кантиг которого дошли до наших дней с музыкальной нотацией. А также многие самые обыкновенные куртуазные поэты, как Арнаут Каталан (1219-1253), Понс д’Ортафа (1170-1246) или Жуан Соареш де Пайва (1140-1210). Из архитекторов здесь тоже появляется много индивидуальных имен, среди которых можно назвать Маэстро Матео (ок. 1168–1217) — автора одной из знаменитейших построек в ранней Испании — Портика Славы в Сантьяго-де-Компостела. Или же скульптор клуатра Сан-Кугат-дель-Вальес по имени Арнау Кадель (ум. ок. 1221).
Из арабо-иудейской части Испании выделим немногих, чтобы не растягивать. Особенно выделяется такой философ-суфий, как Ибн Сабин (1217-1269), конечно он увлекается мистицизмом, эзотерикой, алхимией, и яро критиковал Аверроэса, как и подобает философу-мракобесу. Но прославился он своими ответами на вопросы, отправленные ему Фридрихом II, императором Священной Римской империи, и опубликованные под названием «Сицилийские вопросы». Считается символом интеллектуальных отношений между христианской Европой и исламским миром. Вопросы, заданные императором, неизвестны, но их можно косвенно вывести из ответов: первый вопрос касался темы аристотелевской метафизики и доказательства в пользу вечности Вселенной; второй касался целей и предпосылок теологии для древних греков и суфиев; третий касался значения и количества аристотелевских категорий; четвертый касался доказательства бессмертия души и различий между теорией Аристотеля и теорией Александра Афродисийского; а пятый вопрос граничил с любопытством императора: какой смысл следует приписывать утверждению «Сердце верующего находится между двумя пальцами Милостивого», хадису, традиционно приписываемому Мухаммеду или его ближайшему окружению.
Здесь творят врач и хирург Ибн аль-Куфф (1233–1286), араб-христианин и автор самого раннего и крупнейшего средневекового арабского трактата, предназначенного исключительно для хирургов. Ибн аль-Байтaр (1197-1248) — ботаник и фармаколог, описавший от 300 до 400 видов растений, ранее не описанных средневековыми исламскими учёными. Самая большая и читаемая книга Ибн аль-Байтара — его «Сборник простых лекарств и продуктов питания». Это фармацевтическая энциклопедия, в которой перечислены 1400 растений, продуктов питания и лекарств, а также их применение. Ибн аль-Аббар (1199-1260) — валенсийский поэт и литератор, написавший крупное «Дополнение» к книге XI века «История ученых Андалусии», в ней перечислены (в алфавитном порядке) более трёх тысяч персонажей литературной и культурной истории мусульманской Испании. Во введении автор выражает свою обеспокоенность угрозами своей родине и желание сохранить часть своего интеллектуального наследия для потомков. Ибн ас-Саид аль-Магриби (1213-1286) — андалусский поэт, географ и историк, путешествовавший по всем регионам исламского мира. Из многочисленных географических работ Магриби самыми ценными считаются те, которые описывают Магриб и Испанию, особенно за упоминание всех поэтов арабской Испании (в этом плане он действовал как Ибн аль-Аббар, пытаясь сохранить наследие Андалусии). А также пример еврейского поэта, принявшего ислам, по имени Ибн Сахль из Севильи (1212-1251), стихи которого вошли в сборник Тысяча и одна ночь.
Также здесь есть такие мистические мудрецы, как Абу аль-Хасан аш-Шуштари (1203-1269), поэт-суфий и соратник Ибн Сабина. Он сочетал народные поэтические формы с эзотерической философской мыслью, ради того, чтобы донести тайные знания для более широкого круга людей, и более ортодоксальный Абу Абдуллах аль-Куртуби (1214-1273), банальный богослов и толкователь Корана.
Из чисто иудейских авторов главное место тут занимает Моше бен Нахма (1194-1270) из Барселоны, обычный комментатор Торы и каббалист-неоплатоник, но в свое время крайне влиятельный. Среди прочих мракобесных практик, критиковал Маймонида за чрезмерный рационализм в его философии. Однако, когда Маймонида начали подвергать анафеме в некоторых общинах, Моше выступил в защиту философа и призывал прекратить давление. Точно также и талмудист Йона Геронди (ок. 1200-1263) первоначально активно боровшийся против Маймонида и поддерживавший сожжения его книг, после публичного сожжения христианами Торы вместе с книгами Маймонида, резко изменил свою позицию, и стал защитником философа. Ещё один философ-каббалист, Исхак ибн Латиф (1210-1280) из Толедо, известен своими попытками соединения эзотеризма каббалы с традиционной философией. Ну и последние двое, кого мы здесь упомянем, в пример куда более мракобесной деятельности — толедский раввин Меир Абулафия (1170-1244) вызвавший первые споры против Маймонида. Абулафия твердо защищал все ортодоксальные верования, защищая даже, самые нелогичные истории в Талмуде как факты. Когда Маймонид выразил сомнения в воскресении тела, Абулафия резко отреагировал и написал письма с осуждением Маймонида еврейским лидерам в Люнеле и Северной Франции, но эти попытки оказались напрасными, и Маймонид получил их поддержку. Несмотря на эту неудачу, Абулафия оставался непоколебимым анти-рационалистом. Из того же рода талмудистов происходил также Авраам Абулафия (1240-1292), который наоборот, признавал авторитет Маймонида и арабского суфизма, и вопреки рационализму Маймонида, развивал каббалу, основанную на экстатическом восприятии. Ввёл практику поиска глубинного смысла в каждом слове или сочетании букв еврейского алфавита, а также использования и интерпретации гематрий — числовых характеристик слов. Он основал течение пророческой каббалы, провозгласил себя мессией, собрался встретиться с папой римским для обращения папы в иудаизм. По легенде, Папа приготовил костёр для его казни, но умер в тот день, когда Абулафия прибыл в его резиденцию. После этого почитался как мессия на Сицилии.
Итоги двух периодов (1125-1254)
Рассмотрев панораму интеллектуальной жизни Европы на протяжении 130 лет, от заката Салической династии до фактического распада власти Гогенштауфенов, мы можем подвести некоторые итоги. Этот период, который мы условно назвали проторенессансом, оказался временем колоссальных сдвигов, культурного взрыва, который по своей насыщенности и значимости затмевает все предыдущие столетия раннего средневековья. Все те процессы, что едва намечались в XI веке, теперь развернулись в полную силу, преобразив облик континента до неузнаваемости. Если XI век был временем робких начинаний и одиночных гениев, то XII и XIII века — это эпоха массового культурного производства, формирования новых институций и ожесточенной борьбы идей, определившей дальнейший путь европейской цивилизации. Если в XI веке мы наблюдали условный паритет и конкуренцию между культурными центрами Германии и Франции, то к середине XII века гегемония последней стала неоспоримой. Франция, и в особенности Париж, утвердилась в качестве абсолютного интеллектуального сердца Европы. Именно здесь зародилась готическая архитектура, здесь возник рыцарский роман в его классической форме из-под пера Кретьена де Труа, здесь же кипели самые ожесточенные философские споры, от натуралистического пантеизма Шартрской школы (Тьерри Шартрский, Гильом из Конша) до радикального аверроизма Сигера Брабантского. Парижский университет стал главным магнитом для умов со всего континента, но эта гегемония дорого стоила: именно Франция стала ареной самой жестокой реакции, кульминацией которой стал Альбигойский крестовый поход. Эта трагедия не только уничтожила уникальную культуру Прованса и привела к созданию Инквизиции, но и надолго отравила интеллектуальную атмосферу, превратив Париж в поле боя между свободной мыслью и ортодоксией.
На этом фоне происходит стремительный взлет других регионов. Испания, бывшая ранее по большей части транзитным пунктом для арабских знаний, превратилась в мощнейший генератор идей. Толедская школа переводчиков стала плавильным котлом, где христианские, иудейские и мусульманские ученые совместно возвращали Европе ее античное наследие. Но что важнее, сама арабо-иудейская культура Андалусии породила фигуры мирового значения. Вершиной рационалистической мысли столетия, несомненно, стал Ибн Рушд (Аверроэс), чья очищенная от неоплатонизма версия Аристотеля стала знаменем для всех европейских вольнодумцев. Ему вторили философ-натуралист Ибн Туфайль, гениальный математик Авраам бар Хийя и сатирик-«вольтерьянец» Иехуда Алхаризи. К середине XIII века происходит еще одна рокировка. Англия, ранее находившаяся на периферии, внезапно вырывается в абсолютные лидеры философской мысли. Оксфордская школа францисканцев, в противовес своим мистически настроенным собратьям на континенте, порождает традицию эмпиризма и научного метода. Фигуры Роберта Гроссетеста и в особенности его ученика Роджера Бэкона закладывают фундамент европейской науки, провозглашая примат опыта и математики. А последовавшие за ними Дунс Скот и Уильям Оккам своим номинализмом окончательно подрывают основы схоластического реализма, открывая дорогу философии Нового времени.
Италия в этот период демонстрирует сложную динамику. Долгое время она сохраняет лидерство в своих традиционных нишах — юриспруденции (Грациан и Болонская школа) и медицине (Салернская школа), — но в философии и литературе поначалу уступает Франции. Однако к XIII веку, во многом благодаря просвещенному патронажу императора Фридриха II, она совершает мощный рывок. Его сицилийский двор становится колыбелью итальянской поэзии, а такие фигуры, как математик Леонардо Фибоначчи и энциклопедист Майкл Скот, свидетельствуют о высочайшем научном уровне. Наконец, именно в Италии разворачивается главная битва зрелой схоластики между доминиканцем Фомой Аквинским и францисканцем Бонавентурой. На последнем месте, увы, оказывается Германия. Несмотря на появление отдельных гигантов, вроде энциклопедиста Альберта Великого, и блестящий расцвет рыцарского романа (Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде), ее развитие носит преимущественно вторичный, догоняющий характер. Немецкие интеллектуалы учатся в Париже и Болонье, немецкие поэты перерабатывают французские сюжеты, а новые институции, вроде университетов, проникают сюда с огромным опозданием.
Вся интеллектуальная жизнь этих 130 лет пронизана несколькими сквозными конфликтами. Главный из них — это, безусловно, противостояние того, что можно назвать партией разума и науки, и партией мистицизма и догмы. С одной стороны — натуралисты Шартра, аверроисты Испании и Парижа, эмпирики Оксфорда. С другой — мистики сен-викторской школы, Бернард Клервосский, Иоахим Флорский, Бонавентура, Майстер Экхарт и суфии вроде Ибн Араби. Если первые апеллировали к Аристотелю, опыту и логике, то вторые — к Платону, Августину, внутреннему озарению и откровению. Этот конфликт не был абстрактным: он вылился в гонения на Абеляра, сожжение книг Давида Динанского, убийство Сигера Брабантского и создание Инквизиции. Вторым вектором стало рождение новых институций и культурных форм. Возникновение университетов создало самовоспроизводящуюся среду для производства и трансляции знаний, корпорацию интеллектуалов, способную (хотя и не всегда успешно) отстаивать свою автономию от светской и церковной власти. Городской бум и коммунальные революции породили новую, светскую городскую культуру, альтернативную как церковной, так и аристократической. Ее голосом стала поэзия Вагантов и сатирические новеллы-фаблио. Примечательно, что именно в этой низовой, студенческой и городской среде мы находим первые за много веков прямые и сочувственные упоминания Эпикура, чье имя для официальной культуры было синонимом безбожной ереси.
Наконец, третьим важнейшим процессом стал синтез. Великие умы эпохи не просто усваивали вновь обретенные арабские и греческие тексты, но и пытались встроить их в свою картину мира. Титанический труд Альберта Великого и Фомы Аквинского по христианизации Аристотеля, попытки еврейских мыслителей примирить его с Торой, смелые пантеистические системы, сливавшие воедино неоплатонизм, аристотелизм и христианскую мистику, — все это было частью гигантского проекта по созданию нового, всеобъемлющего мировоззрения. Таким образом, к 1254 году Европа подошла совершенно преображенной. Был заложен фундамент науки Нового времени, созданы национальные литературы, сформировались университеты, а горизонты познания расширились до Монголии и Китая. Но одновременно были созданы и отточены страшные инструменты подавления инакомыслия. Эпоха проторенессанса оказалась не светлым и безмятежным утром, а скорее бурной и грозовой зарей, в которой сполохи гениальных прозрений перемежались с пламенем костров инквизиции. Именно в этом драматическом единстве прогресса и реакции, разума и фанатизма и заключается главное наследие этих двух великих столетий.
В прошлой статье мы подвели итог, назвав 22 имени (из сотни упомянутых), достойных главного внимания. В этой статье, которая оказалась гораздо больше по размеру, мы упомянули 233 имени (не считая десятка эпизодических), и особо выделим следующих авторов: Рудольф из Брюгге (1100-1170), Кретьен де Труа (1135-1190), Геррада Ландсбергская (1130-1195), Пьер Ломбардский (1100-1160), Тьерри Шартрский (1090-1150), Гильом из Конша (1090-1154), Герард Кремонский (1114-1187), Арнольд Брешианский (1090-1155), Грациан (1090-1150), Даниэль из Морли (1140-1210), Уолтер Мап (1140-1209), Вас (1115-1183), Авраам ибн Дауд (1110-1180), Иоанн Севильский (1100-1185), Маймонид (1138-1204), Авраам бар Хийя (1065-1140), Вениамин Тудельский (1130-1173), Ибн Туфайль (1110-1185), Ибн Рушд (Аверроэс) (1126-1198), Майкл Скот (1175-1232), Леонардо Фибоначчи (1170-1250), Джованни да Прочида (1210-1292), Таддео Альдеротти (1215-1295), Пьетро д’Абано (1250-1316), Фома Аквинский (1225-1274), Франциск Ассизский (1181-1226), Бонавентура (1221-1274), Альберт Великий (1200-1280), Вальтер фон дер Фогельвейде (1165-1228), Давид Динанский (1160-1217), Гийом де Сент-Амур (1202-1272), Сигер Брабантский (1240-1284), Жиль де Корбейль (1140-1224), Пьер Пелерен де Марикур (1240-1300), Роберт Гроссетест (1175-1253), Роджер Бэкон (1219-1292), Уильям Оккам (1285-1347), Раймонд Луллий (1235-1315), Ибн аль-Байтaр (1197-1248).
Всего 39 имен, каждое из которых достойно того, чтобы стоять рядом с именем Данте, а то и выше него. Итого в двух циклах, призванных служить энциклопедической шпаргалкой для контекста эпохи Данте и Петрарки, мы рассмотрели около 340 крупных деятелей, из которых особо выделили 61 имя самых выдающихся и достойных того, чтобы их произведения изучались сегодня. Правда, даже здесь мы включили нескольких, которых считаем врагами человечества (например Бонавентура, Маймонид, или Фома), но не можем их не включить ввиду огромной роли, которую они отыгрывали в свое время, иногда и сравнительно положительной роли.
