
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Версия на украинском и английском языках
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
В прошлых частях этого цикла мы рассмотрели огромный массив данных, т.е. почти всех значимых мыслителей Франции, Италии, Германии, Англии и Испании XI-XIII веков (первая и вторая части), а также отдельно рассмотрели основную часть мыслителей Италии XIII века. Эта последняя пересекается по хронологии с нашей новой статьей, а поэтому итальянцев XIII века и начала/середины XIV-го мы здесь почти не затрагиваем. Всего в этих трех статьях нами уже было охвачено более 400 имен различных писателей, из которых около 80-ти могут считаться величинами, которых стоит изучать не менее пристально, чем перехайпленного Данте. В этой статье мы рассмотрим ещё около 350 писателей (поскольку охватываем более насыщенный период и больше промежуток, чем в статьях раньше), доводя общее число рассмотренных биографий до 750. Как и предыдущие части — это компиляция энциклопедических кратких резюме, с целью создания удобной шпаргалки, где люди разных сфер деятельности и разных стран будут поставлены рядом друг с другом в общем хронологическом контексте. Здесь мы затронем сразу огромный промежуток времени, примерно с 1280 по 1500 годы. Деление периодов по императорам СРИ теперь будет неудобным, потому что с падением династии Гогенштауфенов в империи начались проблемы с назначением новой династии, и возникают огромные паузы, да и сами годы правления уже не так хорошо совпадают со сменой поколений мыслителей. В целом роль империи в жизни Европы начинает снижаться. Как и раньше, мы разделим эту статью снова на два условных периода:
- Первый занимает промежуток 1280-1380 гг., на который пришлась масштабнейшая эпидемия чумы (Черная смерть), начало Столетней войны, расколы в Церкви и авиньонское пленение пап, а также серия крестьянских восстаний, что оказало влияние также и на замедление развития культуры.
- Второй занимает 1380-1500 гг., и уже вплотную подходит к тому, что мы называем Новым временем. Это эдакое резюме всех процессов XI-XV вв., главным достижением которого становится открытие книгопечатания.
Говоря о первом периоде в целом, мы заодно повторим в общих чертах то, что происходило в Италии. Одним из ключевых процессов этого периода стало утверждение народных языков (итальянского, французского, английского, немецкого, кастильского) в качестве полноценных инструментов высокой литературы, философии и теологии, что бросило вызов многовековому господству латыни. Эти процессы уже начались в XI-XIII вв., но теперь они стали не редкими примерами, а почти доминирующим общим правилом. Хотя с другой стороны то, за что все любят Ренессанс, связано с любовью к античности, с её «возрождением». Поэтому многие действительно знаковые фигуры этой эпохи наоборот пытаются отстаивать создание литературы на любимой ими латыни (и в этом смысле, да и не только в этом, выглядят скорее реакционерами). Процесс борьбы между народными языками и классической латынью был не просто литературной тенденцией, а важнейшим компонентом формирования прото-национальной идентичности. Создавая общий, авторитетный литературный язык, эти авторы предоставляли культурный ориентир, который преодолевал местные диалекты и способствовал дифференциации, лежащей в основе современных наций. В интеллектуальной сфере этого времени наблюдалось напряжение между устоявшимся схоластическим аристотелизмом (в версии Фомы Аквинского и Дунса Скота) и новыми номиналистическими течениями, исходящими от таких мыслителей, как Уильям Оккам, что имело глубокие последствия для теологии и зарождающейся научной мысли. Параллельно в Италии зарождался т.н. ранний гуманизм, представленный Петраркой и Боккаччо, в котором делали акцент на изучении классической античности, риторике и моральной философии в противовес схоластической логике, причем зачастую во всех её версиях, не различая в ней сорта. Гуманистам не нравится не столько сама схоластика, сколько обобщенный образ философии, оторванной от жизни. Доминирующая в университетах схоластика была всё же консервативного типа, благодаря мощной работе церковной цензуры, и она сталкивалась с вызовами как от гуманистов, так и со стороны радикального аристотелизма (часто называемого «аверроизмом»), особенно сильного в Падуанском университете в Италии. В чисто-философском смысле практически все гуманисты находились на уровень ниже аверроистов и номиналистов, примыкая к самым традиционным формам философского знания. Главным достижением стало скорее то, что живопись и скульптура в Италии пережили почти что революцию, ознаменовавшую отход от стилизованной и плоскостной византийской манеры к новому искусству, основанному на наблюдении за реальностью, передаче объема, пространства и человеческих эмоций. Этот прорыв был осуществлен двумя соперничающими школами — флорентийской и сиенской. Часто их стилистические различия объясняют тем, что они отражали не только эстетические предпочтения, а разные социальные и политические идентичности двух городов-республик. Искусство Флоренции, с его монументальностью, драматизмом и реализмом, якобы воплощало ценности строгой торговой республики. Искусство Сиены, с его лирической элегантностью, декоративной изысканностью и куртуазной грацией, отражало более аристократическую культуру. Но и те и другие резко отличаются от всего искусства, созданного ещё парой десятилетий назад. Именно поэтому у исследователей возникает навязчивое желание найти связь между текстами эпохи и явным поворотом к человеческой натуре, чтобы визуальной революции соответствовала также идейная революция сравнимого масштаба. Сразу можем сказать, что подобной идейной революции эпоха «возрождения» не дает.
На счет итальянцев, то из тех писателей, которых мы не рассмотрели ни в предыдущих главах, ни в статье о современниках Данте и Бруни, здесь мы упомянем всего несколько самых значимых. Это, конечно же, Мондино де Луцци (1275-1326), основоположник современной анатомии, который возобновил практику публичных вскрытий трупов умерших людей в целях обучения студентов медицине. Эта практика долгое время запрещалась средневековой католической церковью, хотя как мы уже видели в прошлых главах, её возможно разрешал последний из императоров Гогенштауфенов в 1230-40е годы. Также Мондино написал первый со времён Галена современный анатомический трактат, основывавшийся уже не на пересказе трудов Галена и Ибн Сины, а на собственных результатах вскрытий. Его учителями были Таддео Альдеротти (см. прошлый раздел) и француз Анри де Мондевиль (о нем ниже), самые выдающиеся врачи Европы того времени. Конечно же врачей в Италии было немало, но нам достаточно и самого выдающегося примера. В это же время в Италии живет знаменитый венецианский путешественник Марко Поло (1254-1324), представивший историю своего путешествия по Азии в «Книге о разнообразии мира». Несмотря на сомнения в достоверности фактов, изложенных в книге, она служит ценным источником знаний по географии, этнографии, истории Армении, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и других стран. Книга оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов, писателей XIV-XVI веков; в частности, она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию. По подсчётам исследователей, Колумб сделал на ней 70 пометок. Это сильная символическая фигура, хотя как мы уже видели, ещё за столетие до него аналогичные путешествия уже неоднократно происходили, особенно в попытках проповеди христианства в Китае, и литература о таких путешествиях уже была в ходу. Падуанский врач и астроном Якопо Донди дель’Оролоджио (1290-1359), написавший труды по фармакологии, хирургии, астрологии и естественным наукам, проставился ещё и как известный часовщик. Он создал крупнейшие на то время астрономические часы и руководил строительством больших общественных часов с циферблатом по заказу принца Убертино I да Каррара (см. картинка ниже). Возможно, он также внёс вклад в их проектирование. Часы были установлены на башне Палаццо дель Капитаниато в Падуе в 1344 году. Есть некоторые свидетельства того, что они показывали и отбивали часы от 1 до 24, а также отображали фазы Луны и положение Солнца в зодиаке. И башня, и часы были разрушены в 1390 году, когда миланцы штурмовали дворец. Копия часов находится в Торре дель’Оролоджо в Падуе, построенной в 1428 году. Его сын, Джованни Донди дель’Оролоджио (ок. 1330-1388) точно также был часовщиком из Падуи, который спроектировал астрариум — более компактные астрономические часы и планетарий. Он также пытался с математической точностью описать механику Солнечной системы. Часы Джованни были очередной вариацией сложного механизма, похожего на знаменитый античный Антикитерский механизм (и астрариум Донди, и антикитерский механизм, рекомендуем рассмотреть отдельно).
Также Италия конца XIII и начала XIV веков отметилась писателями женщинами. Как обычно, здесь были и видные мистики-мракобесы, такие как святая Екатерина Сиенская (1347-1380), которая вела чрезвычайно аскетический образ жизни (от чего и умерла в раннем возрасте) и имела видения, из которых особо известны Мистический брак с Иисусом и стигматизация. Но кроме таких примеров, которых много во всех странах Европы, где вообще есть женские монастыри, в Италии появляются такие авторы, как Гайя да Камино (1270-1311) аристократка, происходящая ещё из лангобардского рода, а также поэтесса (писала на окситанском языке), кратко упоминаемая в «Божественной комедии» Данте. Рядом с ней часто упоминают таких ранних поэтесс Италии, как Нина Сицилиана (кон. XIII в.) и Компьюта Донцелла (кон. XIII в.), писавших в стиле трубадуров, тосканцев и сицилийцев. Но самым интересным примером выглядит Маддалена Буонсиньори (1350-1396) ставшая профессором права и преподавателем в Болонском университете. Она написала латинский трактат De Legibus Connubialibus, в котором исследовала правовой статус женщин своего времени с разных точек зрения. Светские писательницы становятся все более распространенным феноменом. Но все же Италия, несмотря на наличие целой школы аверроистов в Падуе, а также большее, чем где-либо ещё распространение университетов, и несмотря появление сочинений Данте, Петрарки и т.д., вряд-ли может считаться центром образованности Европы даже теперь. Пока что Италия вырывается вперед скорее в плане значимых произведений литературы, но в научно-философском смысле ещё отстает от уровня своих соседей и скорее импортирует знания.

Первый период. Эпоха хаоса и Черной смерти.
Франция
Франция XIV века, несмотря на тяжелые испытания Столетней войны и эпидемий, первое время ещё оставалась ведущим культурным центром Северной Европы. Некоторых заметных деятелей конца XIII — начала XIV века мы уже рассматривали в предыдущей статье этого цикла. Здесь мы не будем повторяться, и начнем сразу с философии. Уже в прошлый период мы отмечали, что передовые философские идеи перебираются из Франции в Англию, а сильная научная школа формируется даже в Испании, т.е. оживление наблюдалось на окраинах Европы. В это же время Франция переживает усиленное давление католической инквизиции и настоящий террор на юге (подавление ереси катаров). И тем не менее, если брать все сферы культуры в целом, то Франция остается главным центром Европы в интеллектуальном плане до конца XIV века. Всё ещё мыслители со всех стран Европы стараются попасть в Париж, и зачастую остаются здесь на многие десятилетия. Да и в плане философии здесь сохраняется сильное влияние Шартрской школы, т.е. почти материалистической трактовки неоплатонизма (и такое бывает), и даже какое-то время активно пропагандируются идеи аверроизма, т.е. почти материалистической трактовки Аристотеля (см. Сигер Брабантский). Пережив бурю жестких преследований, философия наносит новые ответные удары по теологам. Традиции аверроизма продолжали держаться во Франции даже после убийства Сигера Брабантского и введения более строгой цензуры. Самый крупный представитель этого направления здесь — Жан де Жанден (1285-1328). Он много лет преподавал в Париже и даже был награжден папой Иоанном XXII, так что начало его карьеры не предвещало беды. Это при том, что уже тогда он был связан с аверроистами Парижа, и даже стал соратником итальянца Марсилия Падуанского, на тот момент ректора Парижского университета в 1312-1313 годах. Это Марсилий познакомил Жана с комментариями Пьетро д’Абано к текстам Аристотеля. Даже знаменитый труд Марсилия «Defensor pacis» иногда считается написанным в соавторстве с Жанденом. Там они защищали тезис о суверенитете народа, как источнике политической власти, и протестовали против предоставления папе мирской власти. Когда стало известно, кому принадлежит авторство «Defensor pacis», они вместе убежали ко двору Людовика IV Баварского, очередного императора, который выступал против папской власти. Папа Иоанн XXII в 1326 году осудил Жана и отлучил его в 1327 году как еретика. Жан сопровождал Людовика IV в Италию и был в Риме 1 мая 1328 года, когда Людовик был коронован как император Священной Римской Империи (см. как аналогичные движения поддерживал Данте, и как сторонники Людовика использовали его «Пир», для оправдания своих действий против Папы, и многократно его переиздавали). К Жандену и Марсилию уже в Германии и Италии присоединились некоторые итальянские мыслители, которых мы раньше не упоминали, такие как Франческо делла Марка (1290-1344) и Микеле Чезена (1270-1342), принимавшие философию Оккама и Аверроэса. Они критиковали спиритуалистов и томистов и выступали за приоритет светской власти императора (т.е. политически они гибеллины). За такую поддержку Людовик назначил Жана де Жандена епископом Феррары. Хотя в политическим плане Жан примыкает к идеям Марсилия, но в более ранних политических работах Жана видно прямое, буквальное следование за политическими взглядами Аристотеля, где он выделял три здоровые формы государства: монархию, аристократию и политию, и три девиантные формы: тиранию, олигархию и демократию. Под словом politiea, переведенным Цицероном в Res Publica, Жан де Жанден подразумевает правление свободных людей достойного, добродетельного и добродетельного характера. Республика далеко не для всех. Он никоим образом не подвергает сомнению различие, проводимое вдохновлявшими его философами между дворянами, свободными людьми и рабами. Между различными формами правления Жан де Жанден в своей работе De laudibus Parisius, по-видимому, отдает предпочтение наследственной монархии, которую он знает во Франции. В этом правлении философы должны, по его мнению, играть очень важную роль в качестве советников, т.е. задача интеллектуалов состоит в том, чтобы направлять монарха в сторону просвещенности. Поэтому Жанден остается очень консервативным, и в этих первых пунктах он также близок к рекомендациям Фомы Аквинского. Всегда вдохновляемый Аристотелем, Жан различает в качестве правовой основы правления естественное право, универсальное и позитивное право, исходящее от людей и их различной истории в зависимости от стран. Однако Жан не придает естественному праву никакого теологического происхождения, отклоняясь в этом вопросе от Фомы. Чисто аверроистские идеи он защищал в таких сочинениях, как «Tractatus de anima». Жанден больше всего прославился своей работой «Agens sensus», по теории ощущений, но также писал работы о вакууме, разнообразии видов, душе, разуме, и на другие темы, имеющие отношение к Аристотелю. Его перу принадлежат «Физика», «О душе», «Метафизика» и «О небе». Работы Жана усилили позиции аверроистов в Болонье, Падуе и Эрфурте в XIV веке и принесли их в Краков в XV веке, сохраняя относительную популярность ещё столетием после смерти автора.
Переход на позиции номинализма, на самом деле, не был достижением одной только Англии времен Уильяма Оккама. Англичане просто запустили этот процесс на несколько десятилетий раньше остальной Европы, но и то, первые проблески номинализма всё же фиксируются именно во Франции (см. Росцелин, Беренгар Турский). Но как только в Англии номинализм стал признанной доктриной, это явление быстро приобрело общеевропейский характер. Во Франции этот переход уже отлично виден на примере творчества Вильгельма Дуранда (1272-1334), современника Жана Жандена, традиции которого дальше разовьет целая группа парижских мыслителей. В этом деле ему помогал и Пётр Аореоли (1280-1322) поначалу «скоттист» (сторонник реализма в версии Дунса Скотта), а позже сторонник номинализма в версии Дуранда. При этом, конечно же, во Франции оставались и более упорные реалисты, такие как «скоттист» Франциск Мейроннский (1285-1327), и сторонники Фомы Аквинского (такие как Жак де Мец), и даже фанатики-мистики, отрицающие схоластические споры во имя чистого откровения, например Маргарита Поретанская (1250-1310), авторка трактата «Зеркало простых душ», где в аллегорической форме описывается экстатическое единение души с Богом; за эти идеи она была осуждена инквизицией и сожжена в 1310 году. Постоянная борьба идей не утихала, а номинализм не стал сразу же монопольной теорией, как это иногда пытаются показать.
После бегства Марсилия в Германию, следующим назначенным ректором Парижского университета стал малозначимый сегодня последователь Фомы Аквинского, но уже вскоре после этого ректором станет Жан Буридан (1295-1360), один из самых радикальных философов-номиналистов Франции, натурфилософ и механик, который учился у самого Уильяма Оккама и был современником передовых номиналистов из Англии. Буридан, как и Жанден до него, выучился в Париже, и там же остался преподавателем. Уже здесь выглядит очень необычным то, что он провел всю свою академическую жизнь на факультете искусств, вместо того, чтобы получить докторскую степень по праву, медицине или теологии, что обычно готовило путь к карьере в философии. Также необычно для философа его времени, что Буридан еще больше сохранил свою интеллектуальную независимость, оставаясь светским клириком, не вступая в религиозные ордена. Он нарочно игнорирует теологические вопросы, а поскольку университетские уставы разрешали преподавать или писать по этому предмету только тем, кто получил образование в области теологии, то от него не осталось даже такой базовой для всех преподавателей Парижа темы, как комментариев к «Сентенциям» Пьера Ломбардского. И несмотря на это, эпоха гуманизма относится к нему, как к типичному схоласту, что лишь доказывает анти-философский, а не анти-схоластический пафос гуманистов (не говоря уже о том, что далеко не все гуманисты брезговали философией и оторванными от жизни абстракциями). Главные философские сочинения Буридана написаны в форме комментариев к произведениям Аристотеля. Он принимает аристотелевское определение науки как знания, полученного на основании очевидных, необходимых и недоказуемых посылок, но проводит различие между посылками логически необходимыми и посылками, очевидность которых основывается на опытных утверждениях. В дополнение ко всему «Органону», существуют комментарии к «Физике» Аристотеля, «О небесах», «О возникновении и уничтожении», «О душе», «Parva Naturalia», «Метафизике», «Никомаховой этике» и «Риторике». Но шедевром Буридана является Summulae de dialectica [Сборник диалектики], всеобъемлющий учебник логики, который начинался как комментарий к Summulae logicales или логическому компендиуму диалектика XIII века Петра Испанского, иногда считавшегося ещё одним ранним номиналистом. Вскоре труд Буридана превратился в самостоятельную работу поразительной широты. В ней обновляется старая средневековая традиция аристотелевской логики через via moderna [современный способ] — т. е. более новую, терминистскую логику (т.е. анализ терминов, почти синоним логики-номинализма), которая постепенно ее заменила. Эта работа стала чрезвычайно популярной в Париже и в недавно основанных университетах Гейдельберга, Праги, Вены и по всей северной Италии. Но Буридан находился под влиянием не только философов. Его труды по физиологии и психологии свидетельствуют о его знакомстве с медицинскими текстами, к аргументам которых он относился серьёзно, хотя всегда тщательно разграничивал медицину и философию как дисциплины. Тем не менее, Буридан рассматривал медицинское обучение как способ развития естественной философии, так что философов и врачей следует понимать как говорящих об одних и тех же жизненных явлениях. К слову, размышляя о том, как ему следует относиться к авторитету Аристотеля, Буридан пришёл к следующему выводу:
«На доводы от авторитета не знаю как отвечать, иначе как отрицая авторитеты».
Не менее интересно выглядят взгляды Буридана на научный метод, и его позиции относительно психологии. Так, в области механики Буридану принадлежит развитие учения о импетусе (лат. impetus) — движущей способности, «запечатлеваемой» в брошенном теле, что также можно читать как теория импульса. Согласно аристотелевской физике, тело не может двигаться само по себе, а только благодаря определенной силе, приложенной к нему: камень, брошенный рукой человека, летит дальше благодаря переданной движущей силе, импетусу. В отличие от других схоластических философов (таких, как Николя Орем, Франческо Марчанский) Буридан считал, что тело впоследствии падает из-за сопротивления среды (воздух, воды), а не самоисчерпания импетуса. В работах Буридана учение об импетусе приобрело статус физической теории, позволив объяснить ускорение падающих тел и ввести гипотезу первоначального толчка для объяснения вращения небесных сфер. Объяснения Аристотеля с помощью целевых причин заменяются в физике Буридана объяснениями, апеллирующими к действующим причинам, обсуждается также возможность понятия бесконечного пространства. Во всем этом Буридан не только напоминает рационализаторские подходы Оккама, но также напоминает и математико-логические настроения оксфордских калькуляторов (о них дальше). Описание движения Буриданом соответствует его подходу к естествознанию, который является эмпирическим в том смысле, что он подчеркивает очевидность явлений, надежность апостериорных способов рассуждения и применение натуралистических тропов или моделей объяснения, таких как понятие импульса, к множеству явлений. Он склонен отвергать чисто теологические предположения, как не имеющие отношения к практике философии, что мы видим в следующем ироничном замечании: «можно предположить, что существует гораздо больше отдельных субстанций, чем небесных сфер и небесных движений, а именно, великих легионов ангелов, но это не может быть доказано демонстративными аргументами, исходящими из чувственного восприятия». Но есть некоторые теологические соображения, к которым следует отнестись серьезно. Он признаёт, что божественное всемогущество таково, что Бог всегда может обмануть нас способами, которые мы никогда не сможем обнаружить, хотя эта уверенность смягчается другой уверенностью, подтверждаемой эмпирическими доказательствами, в том, что наши обычные способности восприятия и индуктивного вывода достаточно надежны, чтобы сделать «постижение истины с уверенностью возможным для нас». Буридан нетерпим к скептическим аргументам, ставящим под сомнение возможность научного знания, например, к тем, которые, по его мнению, выдвинул Николай Отрекурский, утверждая, что абсурдно требовать, чтобы все знание было доказуемо путём сведения к принципу непротиворечия. Буридан также считает, что объяснительные модели в одной конкретной науке обычно могут быть применены к другим, что расширяет наше понимание явлений.
Говоря же о психологии, изучающей движущиеся существа как одушевлённые, Буридан внёс важные изменения в аристотелевскую парадигму. В отличие от Фомы Аквинского, который стремился приписать человеческой душе метафизически более прочные качества, такие как существование per se, Буридан не считает, что психология способна раскрыть что-либо о внутренней природе своего предмета, и поэтому отказывается строить предположения на эту тему. Он рассматривает психологическую науку как занимающуюся не неким условным понятием души, полученным путём априорного рассуждения, а определением отношения между одушевлёнными качествами и душой как их собственным предметом: «естествоиспытатель рассматривает субстанции только в связи с их движением и действиями. Поскольку материальные формы требуют для своего действия определённой материи, соответствующей качественным или количественным свойствам, натурфилософу необходимо определять формы посредством присущей им материи. Следовательно, душа, безусловно, должна быть определена как физическое, органическое тело в определении, данном натурфилософией». Это привело к ещё более смягченному пониманию души в комментариях к трактату «О душе» парижских последователей Буридана, Николя Орема и Пьера д’Альи, для которых душа выступает в качестве своего рода заполнителя, природа которого вообще не имеет отношения к психологии.
Несмотря на такие заслуги перед традицией свободомыслия, Буридана помнят не за всё это, а благодаря знаменитой аллегории под названием «Буриданов осёл». Он подробно обсуждал вопрос о свободе воли в своих комментариях к «Этике» Аристотеля и выступал скорее как этический, или даже просто детерминист в общем смысле этого слова. Проблему свободы воли Буридан считал неразрешимой логически. Хотя самого осла в сочинениях Буридана не найти, но аналогичные примеры он все же использует, как впрочем их использовал и Аристотель. В классическом примере с ослом речь идет о том, что если перед ослом поставить две идентичные охапки сена на одинаковом расстоянии, то он просто умрет от голода, потому что не сможет сделать рациональный выбор, какая из двух порций является лучшей.
Казалось бы, такой вольнодумец просто не может не подвергаться репрессиям со стороны церкви. И действительно, существуют легенды, никак толком не подтвержденные, что эти репрессии были. Например, рассказывают, что преследуемый реалистами, он удалился в Германию, где основал школу, и преподавал в Вене, где участвовал в создании Венского университета. Или не менее красноречивая легенда, что по приказу французской королевы Буридан был зашит в мешок и брошен в Сену, из-за того, что вступил в любовные отношения с королевой и эта связь рисковала её скомпрометировать. Легенда впервые зафиксирована у Франсуа Вийона, и записана почти через полтора века после смерти Буридана, причем ни про флирт, ни про связь, ни имени королевы у Вийона нет. К тому же, репрессии могли быть тем более возможны, что номинализм Уильяма Оккама вызвал бурную реакцию представителей церкви, объявивших его учение еретическим в 1328 году. А в 1339 году даже был издан специальный декрет, в котором отмечалось запрещение преподавания учения и любых идей Оккама. Такая политика, казалось бы, не могла не затронуть Буридана. Однако, он не только был избран ректором Парижского университета в 1328 году, но ещё и был переизбран на эту должность в 1340-м. Стало быть, он не мог быть предан анафеме в этот промежуток времени, на который и приходится его легендарное изгнание в Германию. Скорее всего, Буридан смог избежать обвинений в скептицизме, направленных против его коллег-номиналистов. Впрочем, через столетие, его влияние оценили по достоинству. В 1473 году король Людовик XI издает указ направленный против номиналистов, и запрещает чтение его произведений. Тогда же было дано специальное указание придерживания реализма магистрами Парижского университета. А в 1474-1481 годах произведения Буридана были включены в Индекс запрещенных книг.

Под влиянием Жандена и Буридана находится целое поколение мыслителей Франции. Среди них выделяется ученик Буридана — Николя Орем (1320-1382), философ, математик и епископ. Он переводил труды Аристотеля на французский язык, а также писал о теории движения небесных тел и даже о денежном обращении. Часто он рисуется как центральная фигура в науке XIV века в масштабах всей Европы, эдаким предвестником научного метода Нового времени, т.е. как ученый в собственном смысле этого слова. Но если посмотреть на некоторых его современников из той же Англии, то эта уникальность сильно сглаживается. Считается, что научные труды Орема оказали влияние на Николая Кузанского, Коперника, Галилея и Декарта. Переводческая деятельность Орема оказала большое влияние на развитие французского языка и обогатила его научной и философской лексикой. Всего Орем ввел в обиход более 1000 новых французских слов. В своих математических работах Орем впервые использовал степени с дробными показателями и фактически вплотную подошёл к идее логарифмов. Он исследует бесконечные ряды и прогрессии, приводит остроумное доказательство расходимости гармонического ряда, строит геометрические фигуры, имеющие бесконечную протяжённость, но тем не менее конечную площадь. Спустя целых три века теорию таких фигур начали строить Ферма и Торричелли. В своих сочинениях по физике, Орем иногда выдвигал очень смелые идеи для того времени, считая что куда проще представить вращение Земли вокруг своей оси, чем вращение всего космоса вокруг Земли, или выдвигая идеи принципа относительности в духе Галилея, приводя в пример движение корабля. Но в большинстве таких случаев Орем приводит примеры только для того, чтобы заявить об их ошибочности. Тем не менее сам факт того, что подобные идеи уже тогда могли быть озвучены, немаловажен сам по себе (хотя логично допустить, что это не Орем их выдумывал, чтобы тут же опровергнуть, а что такие идеи он мог слышать от кого-то ещё из ученых). Новой для своего времени была идея Орема о том, что движение планет определено не Богом, сотворившим Землю, а равновесием природных сил. В трактате «О происхождении, сущности и обращении денег» Орем выдвинул идею о том, что право чеканить деньги принадлежит не суверену, а народу (как бы продолжая логику Жандена и Марсилия). Тем самым он противостоит растущей тенденции европейских правителей решать свои финансовые проблемы за счёт инфляции.
Про Николая из Отрекура (1299-1369) мы писали уже в отдельной статье, но если кратко, то это средневековый скептик и номиналист, при этом противник Аристотеля, напоминающий как Аверроэса, так и его противника, мистика аль-Газали. Но что самое главное — Николай был атомистом. Он считал, что материя, пространство и время состоят из неделимых атомов, точек и мгновений, и что все зарождение и разрушение происходят в результате перегруппировки материальных атомов. Решением папской курии в 1347 году он был принуждён сжечь свои сочинения. Из видных французский врачей, что можно рассматривать и в качестве развития материалистического мировоззрения, во Франции отмечается Ги де Шолиак (1298-1368), автор трактата «Chirurgia magna», одного из основных медицинских учебников на протяжении последующих трёх столетий. Во время Чёрной смерти он чётко разграничил бубонную и лёгочную чуму как отдельные заболевания и давал рекомендации, такие как карантин, чтобы предотвратить их распространение среди населения. Он также был личным врачом трёх пап Авиньонского периода. Как и передовой итальянский хирург Мондино де Луцци, Ги де Шолиак проходил обучение у французского врача Анри де Мондевиля (1260-1320), который был одним из первых хирургов, поддержавшим концепцию асептического лечения ран без вызывания образования гноя, и применил ее к раненым солдатам. Медицинская школа в Монпелье, а также школа в Париже к этому моменту уже затмевают славу итальянской школы врачей из Салерно, и конкурирует в основном с медиками из новых университетов северной Италии.
Гораздо меньше, чем Буридан, отличился своим везением Жан де Мирекур (ок. 1300-1350), номиналист, находившийся под влиянием Оккама, Римини и Николая из Отрекура. Он был осужден папской курией тогда же, когда и Николай Отрекурский. Что характерно, даже при беглом пересказе некоторых из основных идей этого философа, можно заметить, что он не был эмпириком, и скорее склонялся к аргументации в духе Декарта. Мирекур рассуждал, что существует два вида достоверного знания: (1) «принцип непротиворечивости» и (2) «непосредственная интуиция своего существования». Наиболее несомненное из всех вещей, которые могут быть познаны, относится к этому первому виду знания, а также все аналитические суждения, которые к нему сводятся. Мирекур различает два вида доказательств этих видов знания: (1) специальные и (2) естественные. Специальные доказательства исходят из принципа непротиворечивости, а естественные доказательства — это те, которые получены эмпирическим путем, и видимо, опирающиеся на обывательскую самоочевидность. Мирекур считал естественные доказательства слабее специальных, потому что он понимал Бога как абсолютно могущественного и творца чудес (как некое событие за пределами того, что в противном случае можно было бы эмпирически наблюдать). Таким образом он ставил рационализм выше, чем эмпирические доказательства. Номинализм не спас его от подобных рассуждений. Осудили его, вероятнее всего, из-за концепции всемогущества и свободы Бога, а также поддержке идей сквозного детерминизма для людей, из-за чего выходило, что человек не свободен в своем выборе грешить, а все зло происходит по прямому желанию Бога. Это вполне сходится с позициями Буридана, вопрос только в акцентах. Если Мирекур склонен чуть сильнее в сторону рационализма, то Буридан чуть сильнее в сторону эмпиризма. Говорить, что Буридан совсем эмпирик, все же, было бы преждевременно. Здесь будет уместно вспомнить и упомянутого выше Григория из Римини (1300-1358). Это итальянец, хотя он тоже учился в Париже. Половину своей жизни Римини преподавал в школах францисканского ордена Северной Италии. Он прославился учением о том, что спасение невозможно без принятия христианства, каким бы хорошим человеком ты не был. Римини даже называли палачом детей (tortor infantium) из-за того, что он полагал, что младенцев, умерших некрещенными, ожидают вечные мучения. Тем не менее, хотя именно такие вещи были главной целью всех его писаний, Римини был номиналистом, и в своих рассуждениях даже приближался к атомизму. Он считал бессмысленным пытаться достичь понимания в физической реальности, путем включения в неё абстрактных объектов, поскольку, по его мнению, ментальные объекты используются исключительно для полезных социальных соглашений и ничего более. С этим разрывом между сложным мышлением и физической реальностью Римини также считал ложными утверждения, описывающие бесконечное множество точек, бесконечное множество линий, бесконечное множество плоскостей и т. д. Поскольку всё это ментальные, абстрактные объекты, они существуют только в сознании людей, которые о них думают. Таким образом, понятие физической бесконечности к ним неприменимо. Логично предположить, что это касалось и вопроса деления до бесконечности, т.е. допущения атомов. Но как видно, номинализм и здесь не привел к освобождению от веры в спасение и т.д. он вполне совместим с мистической теологией. Забегая вперед, ученик Буридана по имени Пьер д’Альи (1350-1420) тоже дает нам отличный пример того, что номинализм не гарантирует материалистических взглядов. Пьер был открытым номиналистом и последователем учения Оккама, но также и открытым защитником Библии и церкви, при чем пользуясь аргументами, близкими к протестантизму, где власть Папы отодвигалась на второй план. Хотя он пытался выбрать средний путь между скептицизмом и догматизмом, но в конечном итоге он стоял, по крайней мере в теории познания, на позициях крайнего спиритуализма, благодаря чему предвосхитил учение Декарта, Лейбница и Беркли. Хотя здесь нужно признать, что он также был автором и неплохих научно-популярных сочинений, и среди прочего работа Д’Альи по космографии Imago Mundi (1410) повлияла на Христофора Колумба в его оценках размеров мира. В старости д’Альи склонялся к мистицизму. Один из сторонников д’Альи — Андре де Нёфшато, вообще в открытую нападал на как на Римини, так и на Николая Отрекурского, так что мы видим целую традицию внутри номинализма, которая стоит на страже философского идеализма, а одни номиналисты с легкостью нападают на других. Это течение совсем не однородно, а его материалистическая трактовка едва-ли может считаться доминирующей.
Ещё в прошлых разделах мы говорили о феномене Провансальских мудрецов в еврейской философии Европы. Это философы-талмудисты, бежавшие из Испании в южную Францию. К этому времени большинство из них практически никак не развивались, и все ещё спорили на счет наследия Маймонида, сравнивая его с философией Аверроэса. Некоторые принимали первого, некоторые принимали второго. Некоторые критиковали обоих. Но общий дискурс оставался, в сущности, на уровне XIII века. Тоже самое, правда, можно сказать и про Европу, но по крайней мере в Европе выдвигаются новые акценты, а здесь буквально те же споры, что и столетиями раньше. Тем не менее, сам факт того, что здесь активно пропагандировался аверроизм, в то время как в Европе это явление пытались сдерживать, все же говорит о том, что еврейская философия находилась на вполне высоком уровне по меркам своего времени. Из этих вторичных еврейских мыслителей назовем таких, как Абба Мари бен Элигдор (нач. XIV века), Иедайя бен Авраам Бедерси (1270-1340), Иосиф Каспи (1280-1345), Крескас Видаль (нач. XIV века) и Майлс Марсельский (1294-1360). Но были здесь и некоторые мыслители вполне передовые даже по общеевропейским меркам. В первую очередь здесь нужно назвать Леви бен Авраам бен Хаима (1245-1305), философа, усвоившего крайние рационалистические взгляды, за что он был подвергнут осуждению и отлучению от общины. Он был беден и жил в скитаниях по южной Франции, зарабатывая преподаванием наук и языков. Его энциклопедический труд на иврите был приговорён к сожжению и дошёл до нас лишь частично. Леви бен Авраам был, по всей видимости, дедом по матери Герсонида (о нем дальше), который тоже подвергался острой критике.
Леви бен Гершом (Герсонид) (1288-1344), автор философско-теологического труда «Война Господня», где он попытался примирить иудаизм с аристотелизмом. Герсонид также был математиком и астрономом, сконструировавшим усовершенствованный астролябий. Изобретённый им астрономический и навигационный прибор «Посох Якова» нашёл применение в мореплавании; по некоторым сведениям, именно этот прибор использовали Христофор Колумб и Васко да Гама. Часть трудов Герсонида была переведена на латинский язык и высоко оценивалась учёными эпохи Возрождения. Многие историки философии считают его величайшим (и во многих отношениях более радикальным) еврейским философом своего времени, после Маймонида. Универсальность личности Леви бен Гершома, его гуманизм и рационализм позволяют считать его одним из первых представителей Ренессанса в еврейской и европейской культуре. Он чуть менее радикален, чем Оккам или аверроисты, даже прямо критикует атомизм, но в целом выглядит достаточно прогрессивным мыслителем для этого времени. Забегая вперед, более поздний талмудист Хасдай бен Иегуда Крескас (1340-1410) критиковал Герсонида за ересь и отступничество от иудаизма, а сам выступал в защиту чистого иудаизма, независимого от Аристотеля и основанного в большей степени на духовной и эмоциональной стороне человека. Но при этом Хасдай оказался куда более прогрессивными писателем, чем может показаться. Будучи полным и беспросветным мракобесом в области религии и теологии, в натурфилософии он зачастую буквально вторит идеям аверроистов, допуская бесконечность времени и пространства, множественность миров, приоритет материи над формой и т.д. Аргументы Хасдая Крескаса на счет детерминизма часто читаются предвосхищением спинозизма, и это влияние рассматривается даже как возможное заимствование со стороны Спинозы, а его сочинения прямо упоминает итальянский гуманист Пико де Мирандола, что указывает на относительную заметность этого автора.
Что же на счет поэтов, художников и т.д., то в этот раз мы будем затрагивать их меньше. Здесь упомянем таких, как Гийом де Машо (1300-1377), поэт и композитор из периода ars nova. Он служил придворным секретарём чешской королевы, написал множество лирических баллад и рондо, а также поэму «Видение о царстве любви»; считается одним из крупнейших поэтов XIV века. Жан Фруассар (1337-1405), хронист и поэт из Валлонии, который прославился своим объёмным «Сборником хроник», описывающим события Столетней войны, а также сочинял куртуазные поэмы и пасторали; и Эсташ Дешан (1346-1406), ученик и поклонник Гийома де Машо. Он составил около 1500 баллад, виреле и рондо на различные темы – от куртуазной любви до морализаторской сатиры; считается важнейшим представителем позднесредневековой французской поэзии. В это же время творит Пьер Берсюир (1290-1362), друг Петрарки, часто посещавший Италию по делам, автор морализованного толкования «Метаморфоз» Овидия и французского перевода Тита Ливия (т.е. вполне литературный гуманист в итальянском духе). Из художников, скульпторов и архитекторов периода назовем таких, как Жан Пюсель (1300-1355), художник-миниатюрист, иллюстратор роскошных рукописей, в том числе Часослова Жанны д’Эврё (ок. 1325) для французской королевы; его миниатюры отличаются тонкостью рисунка и смелыми перспективными ракурсами, новыми для готического искусства. Андре Боневё (1335-1400), художник и скульптор, работавший при дворах во Франции и Фландрии. Он создавал изящные статуи и портретные изображения, в том числе для короля Карла V и считается одним из первых портретистов поздней готики. Жан де Льеж (ум. 1381) – скульптор из Нидерландов, работавший при дворе французского короля в Париже. Выполнил надгробия королевы Бонны Люксембургской и кардинала де Лагрижа, показав реализм в чертах лиц; также свой вклад в формирование стиля «интернациональной готики» во французской скульптуре внес Кольен де Сен-Имери (ум. после 1324), который работал над кафедральным собором в Реймсе. Принадлежал к династии зодчих, отвечавших за скульптурное убранство фасада; его мастерской приписывают знаменитые статуи ангелов Реймсского собора.
Но стоит отметить, что несмотря на различные обнаруженные влияния со стороны того же Джотто, в целом вся художественная культура этого периода всё ещё уступает даже некоторым образцам Каролингского и Оттоновского возрождения. Музыка этого периода все ещё звучит в духе церковных произведений для органа, мелкие отличия в которой тяжело уловить для не-специалиста. Это всё ещё визуальная культура в духе той, которая создавалась в 1050 или в 1250 годах. При всей прогрессивности номинализма и прозрений у некоторых отдельных авторов, в целом философия тоже остается не сильно отличной от той, что уже была сформулировала в XII-XIII веках. Поэзия и проза всё ещё пишется в духе куртуазных стихов, рыцарских романов и фаблио. Ожидать здесь каких-то прорывов не стоит (труды Данте и Боккаччо это первые исключения, сохраняющие много мотивов из прошлых жанров, но создающие при этом новые фабулы, иначе организовывая материал). Главное здесь то, что явления, раньше бывшие скорее единичными, теперь становятся всё более и более массовыми. Такие люди, как папа Сильвестр II, который в X-XI веках казался настоящим гением своего времени, теперь выглядят как обычная норма, которую стыдно не знать и рядовому студенту. Изменения происходят скорее количественные, чем качественные. И это касается не только Франции, но и всех других стран, за исключением Италии.
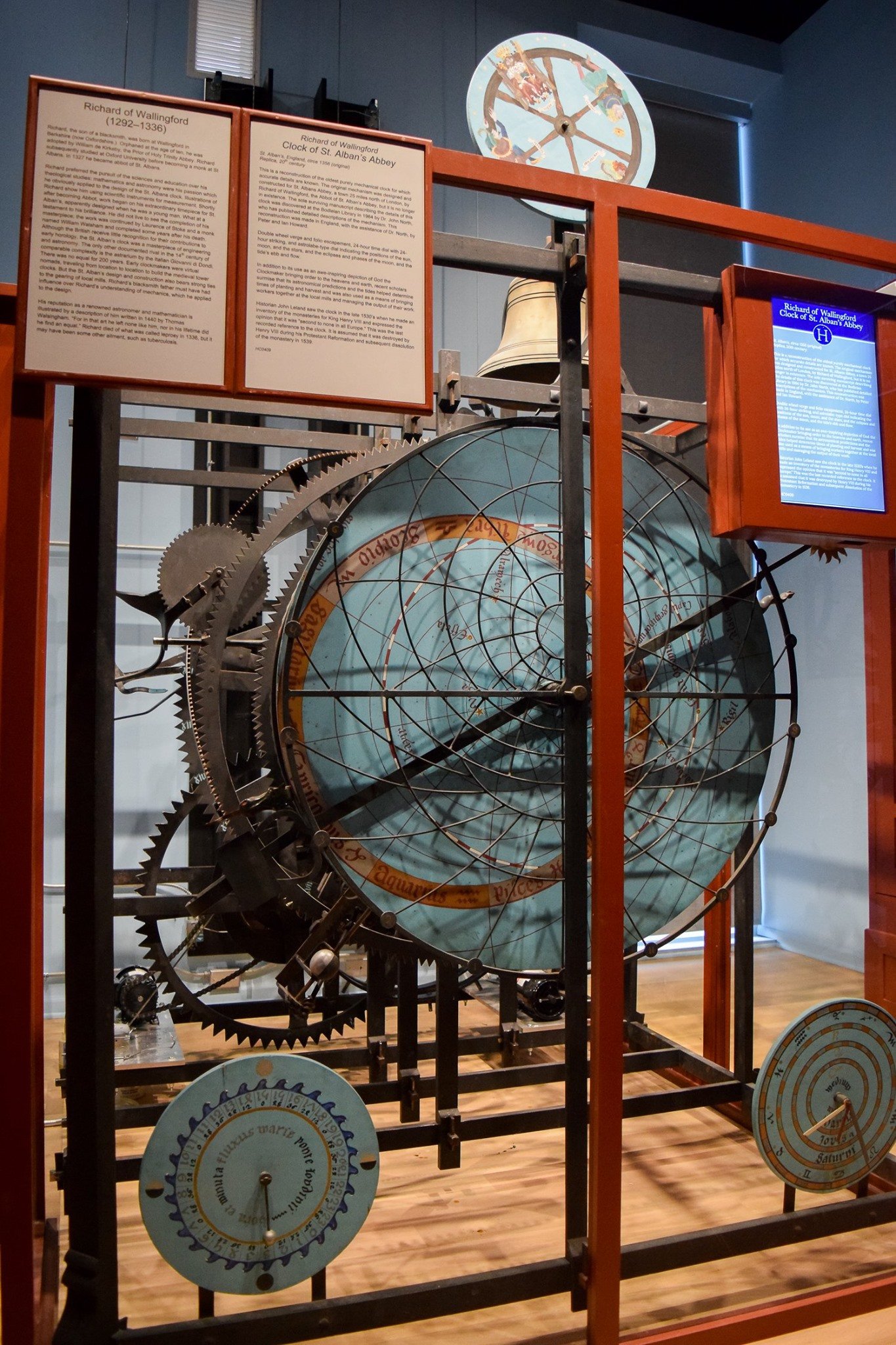
Англия
Когда мы говорили об Англии ещё в прошлых разделах, то забежали сильно вперед, чтобы показать как Англия вырывается на первые позиции в философии. Тогда мы рассмотрели главных звезд Оксфордского университета, таких как Уильям Оккам (1287-1347), Роджер Бэкон (1219-1292), Дунс Скот (1266–1308) и ещё некоторых других. Их стоило бы рассматривать скорее здесь, но повторяться мы уже не будем, поэтому главное держать в уме сам факт, что Оккам был центральной фигурой английской философии начала XIV века, и такие французы, как Буридан, хотя и учились у Оккама, но были скорее его младшими современниками, чем совсем другим поколением. Как можно заметить, во Франции создаются не менее сильные школы номинализма, связанные также и с развитием математических методов в применении к науке. Главное отличие англичан в том, что они более прочно связывали номинализм с эмпиризмом, что, как мы уже видели на примере французов, далеко не обязательная связь. И раз Оксфордская школа уже была рассмотрена, мы перейдем сразу к следующему её поколению. Первыми мы рассмотрим т.н. «Оксфордских калькуляторов». Это группа английских философов XIV века, связанных с Мертон-колледжем в Оксфорде. В эту группу входили Томас Брадвардин (1295-1349), Уильям Хейтсбери (1313-1372), Ричард Суайнсхед (1300-1354), Джон Дамблтон (1310-1349). Здесь тоже можно отметить, чтобы не создавалось впечатление оторванности Англии от континента, что главным вдохновителем для калькуляторов стал французский философ Жерар Брюссельский (прим. 1170-1250), которого мы упустили в разделе про XIII век. Этот француз известен книгой «Liber de motu» («О движении»), которая была новаторским исследованием по кинематике. Подобными вопросами также интересовался и немецкий (или итальянский, о чем идут споры) философ и механик Иордан Неморарий (1225-1260), которого мы также упустили в прошлый раз. Его трактат «Об элементах арифметического искусства» сделался одним из самых распространенных в Западной Европе учебников и после введения книгопечатания выдержал несколько печатных изданий. Хотя, как кажется, он и не повилял на «калькуляторов», но сделал большой вклад в развитие математики и поэтому мы упоминаем его теперь. Про других механиков и ученых, которые работали во Франции, мы уже говорили в предыдущей статье цикла, их значение тоже не стоит приуменьшать. Так что и здесь никакого внезапного прорыва Англия не показывает. «Калькуляторы», как мы увидим, сделали очень неплохой и заметный вклад, но этот вклад не выглядел революционным на фоне того, чего уже достигла наука Европы.
Этими четырьмя мыслителями была развита особая дисциплина — «учение об интенсии и ремиссии качеств», ставшее одной из наиболее ярких страниц в средневековом учении о движении. В работах учёных Мертон-колледжа общий логико-математический подход применялся к рассмотрению самых разнообразных качеств, допускающих непрерывное изменение в две противоположные стороны, их степеней и изменений — от физических (таких, как тепло, яркость, скорость) до моральных и метафизических (таких, как грех, вожделение, милосердие, благодать). Эта тематика, восходящая к диалогу Платона «Филеб» и к трактату Аристотеля «О возникновении и об уничтожении», представляла собой одну из программных тем средневековой схоластической физики. В частности, в работах мертонцев строится математический аппарат, специально предназначенный для описания механического движения; однако он был чисто абстрактной, не апеллирующей непосредственно к сфере опыта конструкцией. Их целью было лишь онаучивание абстрактной физики Аристотеля, при помощи математического языка; но реальной опытной наукой они не занимались, и даже не призывали этим заниматься. Понятиями, исходя из которых мертонцы строили свою модель движения, были интенсивность движения и градус скорости как мера этой интенсивности. В рамках данной модели в механику впервые было введено (У. Хейтсбери, 1335 г.) понятие мгновенной скорости. Мертонские мыслители Хейтсбери и Суайнсхед сформулировали и доказали теорему о средней скорости (в их терминологии — «теорема о среднем градусе скорости»), применённую впоследствии Доминго де Сото и Галилео Галилеем при количественном анализе свободного падения тел: путь, проходимый телом за некоторое время при равнопеременном движении, равен пути, проходимому телом за то же время при равномерном движении со скоростью, равной среднему арифметическому максимального и минимального значений скорости в равнопеременном движении. Мертонцами же было показано, что если равноускоренное движение начинается из состояния покоя, то за первую половину времени движения проходится путь, составляющий 1/4 от полного пути. Фактически учёные Мертон-колледжа положили начало — в кинематике и ряде других разделов естествознания — замене качественных понятий, характерных для античной физики, количественными понятиями, используемыми в физических науках и поныне. Идеи мертонцев получили своё дальнейшее развитие в «учении о широте форм», развитом их французским современником Николя Оремом, а также в работе «О скорости переменного движения» итальянца Джованни ди Казали (1320-1375), которого мы упустили в прошлых изложениях, но о котором ничего толком и не скажешь, кроме того, что он идеально вписывался в это оксфордское движение, и даже проходил здесь свое обучение, прежде чем вернуться в Италию.
Если сказать несколько слов про самих «калькуляторов», то стоит отметить, во-первых, что их лидер (Томас Брадвардин), опираясь на Гроссетеста и Бэкона, передовых мыслителей XIII века, находился в прямой оппозиции Уильяму Оккаму. Это может показаться странным, но в целом довольно логично, учитывая что Томас был скорее ученым-рационалистом, с упором на логику и математику в применении к этическим и физическим вопросам, и поэтому дорожил абстрактными сущностями и мог совмещать свои математические работы с около-реалистической философией. Кроме того, можно дополнительно отметить, что в «Трактате о континууме» Томас придерживается взглядов Аристотеля на бесконечную делимость континуума и критикует атомистическую концепцию. Кроме того, он спорит с Оккамом и в вопросах теологии, доказывая что Бог знает будущее без всяких ограничений. Фиксируют даже некоторое влияние Томаса на сочинения Буридана, и возможность того, что он придерживался взглядов, близких к возникшему в будущем протестантизму, или что он как минимум повлиял на идеи английского реформатора церкви Джона Уиклифа (о нем дальше). Но при всей своей значимости, Томас Брадвардин умер довольно рано, заболев чумой во время общеевропейской эпидемии, как раз возвращаясь из Рима, чтобы вступить в должность архиепископа Кентерберийского. Самой известной работой Уильяма Хейтсбери была «Правила решения софизмов», т.е. утверждений, которые можно считать как истинными, так и ложными. Джон Дамблтон стал членом «калькуляторов» в 1338-1339 годах. После вступления в Общество он на короткое время покинул его, чтобы изучать теологию в Париже в 1345-1347 годах. После окончания учёбы он вернулся к работе с калькуляторами в 1347-1348 годах. Одна из его главных работ, «Сумма логики и естественной философии», была сосредоточена на объяснении естественного мира в последовательной и реалистичной манере, в отличие от некоторых его коллег. Дамблтон пытался найти множество решений для широты вещей, большинство из которых были опровергнуты Ричардом Суайнсхедом в его Liber Calculationum. Самый крупный представитель «калькуляторов» — это Ричард Суайнсхед, главный труд которого, сборник из 16 трактатов «Книга вычислений» (1346) многократно переиздавался до XVI в.; данное сочинение и принесло автору славу калькулятора, распространившуюся затем на других философов его круга. Полимат XVI-го века Джироламо Кардано поместил его в десятку величайших умов всех времен, наряду с Архимедом, Аристотелем и Евклидом. Лейбниц в двух своих письмах назвал его одним из первых учёных, применивших математику в физике и введших математику в схоластическую философию. Признание «калькуляторов» вышло далеко за пределы их собственного века.
Калькуляторы показывают нам пример математического рационализма в духе Декарта, и совсем выбиваются из общепринятых представлений о доминировании около-эмпирических идей Бэкона и Оккама в этот период. Но кроме калькуляторов в Англии были и другие философы. Вальтер Бурлей (1275-1344), вышедший из школы последователей Дунса Скота, автор многочисленных комментариев к Аристотелю. Он критиковал Оккама, и представлял скорее «умеренный реализм» в дискуссиях о природе универсалий. Были здесь и доминиканцы, например, Роберт Холкот (1290-1349), который, правда, не был сторонником Фомы, но работая секретарём Оккама, он выступал в поддержку номинализма. Непосредственным учеником продолжателем идей Оккама был Адам из Вудхэма (1298-1358). Такие успехи в математике не прошли даром, поэтому в Англии появляется один из самых ранних европейских часовщиков — Ричард Уоллингфордский (1292-1336), который сконструировал астрономические часы (ср. аналогичные деятели в Италии), а также усовершенствованный экваторий (Альбион) для расчета лунной, солнечной и планетарной долготы, и для предсказания затмений, и такие инструменты, как торкветум и ректангулус. Такие устройства уже создавали в арабском мире XII-XIII веков, их уже описывал крупный итальянский астроном Кампано (см. прошлая часть статьи), но Ричард уже самостоятельно конструировал их все, и значительно совершенствовал их конструкции. Он же опубликовал первое европейское сочинение, целиком посвященное тригонометрии: «Четыре трактата о прямых и обращенных хордах». Все это показывает, что к концу XIII века средневековая Европа уже обходит лучшие достижения античности в области механики.
Были в Англии и выдающиеся мракобесы. Например, Ричард Ролл (1300-1349), который вместе с Юлианой Нориджской (1342-1416) и неизвестным автором трактата «Облако неведения» принадлежит к крупнейшим мистикам английского Средневековья. В тридцатилетнем возрасте Юлиана перенесла тяжёлую болезнь, во время которой пережила несколько сильнейших духовных озарений. От болезни Юлиана оправилась и через двадцать лет записала свои видения в книге «Шестнадцать откровений Божественной любви» (1393). Эта книга считается одним из первых произведений, написанных женщиной по-английски. Книга содержит видения и богословские размышления о любви Бога и её часто цитируют как пример упорного оптимизма. Её мистический опыт был широко известен в Англии, и её навещала для духовных бесед Марджери Кемпе, ещё одна знаменитая мракобеска, уже следующего поколения. Кроме них отряды глупости поддерживались ученицей Ролла — Маргарет Киркби (1322-1393). Более официальным и признанным церковью мракобесом был Уолтер Хилтон (1340-1396), мистик-августинец, чьи труды оказали влияние на Англию и Уэльс XV века. Большая часть из 93 глав его главного сочинения посвящено искоренению «мерзкого образа греха» из души – искажению образа Троицы в трёх духовных силах: Разуме, Разуме и Воле (отражающих Отца, Сына и Святого Духа, согласно традиции, восходящей к святому Августину) – посредством серии размышлений о семи смертных грехах. Главная тема второй части его сочинения — преображение души, совершаемое только в вере, а также в вере и чувстве. Последнее представлено в развернутой метафоре как духовное путешествие в Иерусалим, которое есть «созерцание в совершенной любви к Богу». Помимо всякой чуши про семь смертных грехов и т.д., также критиковал по отдельным вопросам всех мистиков, названных выше. Мистическая система Хилтона в основном является упрощением системы Ришара Сен-Викторского, одного из крупнейших мистиков-мракобесов Франции XII века.
На этом фоне не только «калькуляторы» выглядят столпами адекватности, но даже такие теологические реформаторы, как Джон Уиклиф (1320-1384). Выше мы уже говорили, что он был прото-протестантом, напоминающим идеи лютеранства. У него вызвали сомнения привилегированный статус духовенства, а также роскошь и пышность местных приходов и их церемоний. Он также выступал за обеспечение населения Библией на понятном языке. В 1382 году Уитклиф завершил перевод Вульгаты (библии на латыни) на среднеанглийский язык, который известен теперь как Библия Уиклифа. Он перевел Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна; возможно также, что он перевёл весь Новый Завет. Его сотрудниками был переведён Ветхий Завет. В итоге Библия Уиклифа была завершена к 1384 году. В 1388 и 1395 годах были сделаны переиздания. Последователи Уиклифа, уничижительно прозванные лоллардами, продолжили его труд, размышляя над такими идеями, как христианские добродетели, предопределение, иконоборчество, и понятием цезаропапизма, ставя под сомнение почитание святых, таинства, заупокойные мессы, пресуществление, монашество и существование папства. Уиклиф очень резко критиковал папство. Римского папу он называл антихристом, наместником дьявола. Он заявлял, что папа не является непогрешимым; что он никогда не был необходим церкви; что его отпущение грехов не имеет силы; что он не имеет права отлучать от церкви и придавать новый смысл Писанию. Уиклиф критиковал притязания папы на политические права, называя «Константинов дар» началом всех зол церкви, и практику вымогательства денег путём обложения народа данью и налогами, сравнивая папистов с мошенниками, которые воруют кошельки. Также резко он критиковал и аскетическое-монашество. Авторитет Библии в его глазах превосходит авторитет пап, соборов, канонов и отцов церкви вместе взятых. Критикуя взгляд, что причастие буквально превращает вино в кровь Христа, Уитклиф в своем трактате «О евхаристии» обсуждает популярный в то время спор о том, причащается ли мышь, если съест евхаристический хлеб. Начиная с XVI века движение лоллардов стало рассматриваться как предшественник протестантской Реформации, а Уиклиф был охарактеризован как «вечерняя звезда схоластики и как утренняя звезда английской Реформации». Сочинения Уиклифа на латыни оказали большое влияние на философию и учение чешского реформатора Яна Гуса (ок. 1369-1415), казнь которого в 1415 году вызвала восстание и привело к гуситским войнам 1419-1434 годов. В 1382 году теологические работы Уиклифа были официально осуждены как еретические.
В XIV веке в Англии произошел культурный сдвиг огромной важности: английский язык окончательно утвердился в качестве основного литературного языка, вытеснив французский, доминировавший при дворе и в аристократических кругах со времен нормандского завоевания. Этот процесс был возглавлен поколением блестящих поэтов, чье творчество заложило основы английской национальной литературы. Из литераторов Англии самым крупным в это время является, конечно же, Джеффри Чосер (1343-1400), «отец английской литературы» и автор «Кентерберийских рассказов» – цикла новелл в стихах, рисующих панораму английского общества XIV века. Эти рассказы буквально были английской версией фаблио, т.е. сборником новелл, светского и сатирического содержания, далеких от всякой серьезности и глубокой набожности, вполне в духе поэзии Вагантов и творчества Джованни Боккаччо, которых он, безусловно, и сам хорошо знал, поскольку почти десять лет своей жизни провел в Италии. Как человек ренессансного типа, он изучал и классиков: Вергилия, Стация, Лукана, Клавдиана («Похищение Прозерпины»), Горация и Ювенала, но особенно Овидия, «Метаморфозы» и «Героиды» которого стали любимыми книгами Чосера. Но больше всего он любил французскую поэзию: эпос, лирика, видения, аллегория всех видов. Он отдал обильную дань влиянию этой литературы в тот ранний период своей деятельности, когда переводил «Роман о Розе», писал небольшие поэмы и лирические стихотворения. Также писал философские поэмы («Дом славы») и любовную лирику. Джон Гауэр (1330-1408), друг и современник Чосера, писавший на трёх языках: английском, французском и латыни, автор морально-аллегорической поэмы «Исповедь влюблённого» на английском, а также сборников стихов на французском и латинском. Чосер посвятил «моральному Гауэру» свою поэму «Троил и Крессида», в ответ Гауэр расхвалил Чосера в своей «Исповеди влюблённого». В то же время творит Уильям Ленгленд (1331-1400) – предполагаемый автор среднеанглийской аллегорической поэмы «Видение о Петре-пахаре», одного из величайших произведений английской литературы Средних веков. В этой поэме, написанной аллитеративным стихом, Ленгленд выразил социальные и духовные идеи своего времени, обличая пороки церкви и общества. В поэме он рассказывает, что жил очень бедно и страстно ненавидел богатых, на улице не уступал им дорогу и низко не кланялся — «так что люди считали меня юродивым». Здесь выражен протест против тяжёлого положения крестьянства, этой основной части «честно трудящихся». К ним Лэнгленд относит ещё честных купцов, рядовое рыцарство, защищающее крестьян, менестрелей и набожных священников. Пилигримов, бродячих и монастырских монахов, схимников, продавцов индульгенций и всё высшее духовенство и аристократию он считает мошенниками, живущими для собственной выгоды. По Ленгленду, никакого прощения грехов нет, его выдумало духовенство и аристократы, чтобы грешить не стесняясь. Своим резким протестом против социальной несправедливости поэма сыграла роль в восстании Уота Тайлера. Об этом говорит обилие её списков. Францисканский монах Джон Болл (1338-1381), участник восстания Тайлера, в своих проповедях на крестьянских сходках цитировал стихи из поэмы Ленгленда, и использовал идеи, максимально близкие идеям Уиклифа. К слову, в написанных ещё до этого восстания стихах Гауэра уже были предостережения, что такое восстание неизбежно произойдет. Это восстание, а также фигуры Болла и Уиклифа считаются ранними проявлениями коммунистических идей в Британии.
Более классическим автором, который написал крупный рыцарский роман «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», был некий аноним, явный современник Чосера и Ленгленда, что определяется даже стилем его языка. Возможно он даже был знаком со всеми этими литераторами, но как бы там ни было, роман о Зеленом рыцаре стал одним из крупнейших произведений по мифологии короля Артура в принципе. Само собой, что в Англии было очень много, десятки разных хронистов, писавших как и раньше «Всеобщие истории», а также астрологов, поэтов и т.д. меньшего масштаба, но мы уже не будем упоминать таких вторичных персонажей, хотя ещё 150 лет назад они были бы достойными конкурентами для самых видных деятелей культуры. Из английских хронистов выделяется разве что Генри Найтон (ум. около 1396), который ценен только тем, что в своей хронике, он охватил и описание эпидемии чумы, и Крестьянское восстание 1381 года и правления короля Ричарда II. Английское изобразительное искусство XIV века развивалось в русле общеевропейской готики, но с местными особенностями, особенно в архитектуре («украшенный» и «перпендикулярный» стили) и книжной миниатюре. Музыкальная культура также была частью общеевропейского процесса, хотя сохранилось меньше источников, чем на континенте.
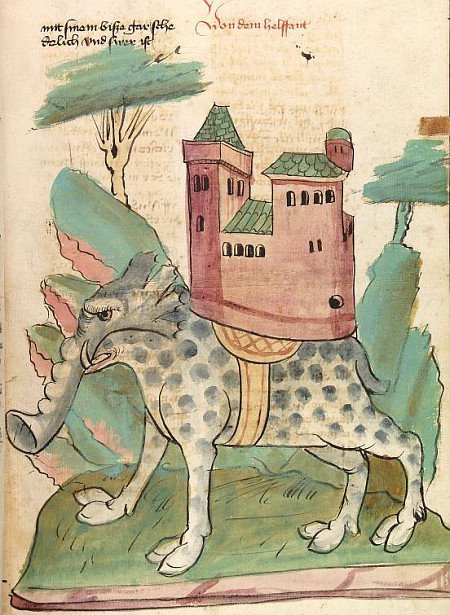
Германия
Германия к концу XIII века подошла как едва-ли не самая отстающая часть христианского мира. Главным культурным достижением здесь стало творчество Альберта Великого, который в общем-то был скорее на консервативном фланге европейской культуры, а второй звездой первого эшелона здесь считался мракобес Мейстер Экхарт (которого регулярно считают одним из величайших мистиков в истории, т.е. это мракобес высшей пробы, тупее которого может быть разве что Бернард Клервосский). И того и другого мы рассматривали ещё в предыдущей части нашего цикла. Как мы увидим дальше, положение изменилось не сильно, даже после всплеска популярности номинализма в Англии и Франции. Благородное дело Мейстера Экхарта в распространении тупости среди масс гордо продолжал Иоганн Таулер (ок. 1300-1361). Как мистик Таулер отличается от Экхарта тем, что гораздо меньше занимается философскими идеями, ведущими к пантеизму, а требует главным образом проявления христианского духа в практической жизни. Лудольф Саксонский (1295-1378) картезианский монах, теолог и автор «Жития Христа», следовал за Таулером, а ещё один их соратник — Генрих Сузо (Seuse) (1295-1366), автор «Книги божественной истины» и «Книги вечной мудрости», писал о духовном браке души с Божественной Премудростью. Ученицей Экхарта и Сузо считается Луитгарда Виттихенская (1291-1348), и это очередной пример женщины-мистика в Европе, без особых выделяющих её качеств. Среди видных мракобесов можно назвать ещё Николая Базельского (1308-1395), но их так много, что на этом мы и остановимся. Как и большинство мистиков во всех странах Европы, здесь они тоже предпочитали народный язык вместо латыни. В этом, пожалуй, единственный неоспоримый плюс их творчества, но плюс ли, если они просто нашли способ отуплять большие массы людей, чем священники, пишущие на латыни?
Немецкая философия XIV века была тесно переплетена с теологией и мистицизмом. Возникает вопрос, а были ли хотя бы у Альберта Великого, или у механиков и физиков XIII века — Иордана Неморария (если только он был немцем, а не итальянцем) и Дитриха Фрайбергского свои продолжатели в Германии? На самом деле тут надо сразу напомнить о том, о чем уже шла речь выше, а именно что гонимые аверроисты из Франции и Италии, бежали именно в Германию, выступая апологетами светской власти императора над властью папства. В какой-то мере этих людей можно считать наполовину немецкими мыслителями, и в таком случае Германия имеет сильную традицию около-материалистической мысли, пускай и с оговорками. Во-вторых, тут стоит напомнить, что Германия более чем на 100 лет отставала в деле создания университетов, и как раз в XIV веке эти университеты начинают появляться, что уже само по себе является прогрессивным явлением, дающим стимул к развитию мысли. Наверняка в этих университетах обсуждались идеи из соседних государств, тем более что эталонными образцами считались Париж и Оксфорд. Немцы часто ездят на обучение заграницу, а политический статус северной Италии как часть Священной Римской Империи приводит к тому, что немцы часто оказываются в Италии, и наоборот. Но несмотря на все эти возможные источники влияния, действительно значимых мыслителей Германия в это время практически на дает, и на фоне других стран Европы она выглядит даже более отстающей, чем в любом из предыдущих столетий. И все же, некоторых мыслителей можно выделить. В противовес томизму выступил неоплатоник Бертольд фон Моосбург (ок. 1300-1361), комментатор Прокла, противопоставивший свой христианско-платонический синтез философии Аристотеля (чуть позже итальянский мракобес Марсилио Фичино на этой же теме сделает себе репутацию величайшего мудреца эпохи). Среди его источников и объектов для критики были как Дитрих Фрайбергский так и Альберт Великий. Хотя неоплатонизм это ещё одна форма крайнего мракобесия, но это по крайней мере почти философский уровень, в отличии от традиции чистых мистиков. К умеренным реалистам в Германии относится Томас Эрфуртский (ок. 1270-1330), который известен прежде всего своими работами по лингвистической логике, и книгу которого до XX века считали работой Дунса Скота. Но из более менее связанных с Францией писателей чаще всего называют таких, как Генрих фон Лангенштейн (1325-1397) отучившийся в Париже, где он стал одним из последователей Николя Орема. И хотя он занимался астрономией, но в этой области никак толком не отметился, и в основном писал о теологических спорах своего времени, про пап и анти-пап и т.д. Однако, кое-как он даже связан с прогрессивными течениями в Париже. По приглашению Альберта III, герцога Австрийского, Генрих прибыл в Венский университет в 1384 году и участвовал в основании теологического факультета. Здесь он вместе со своим коллегой и другом Генрихом Тоттингом фон Ойтой (который был родом из северогерманского города Фризойте) приступил к преподавательской и административной работе, и даже считается теперь основателем Венской астрономической школы (см. Wiener astronomische Schule). В Вене он провёл остаток своей жизни, преподавая догматическое богословие, экзегезу и каноническое право, а также написав множество трактатов. Его товарищ и сподвижник Генрих из Ойты (1330-1397) имеет почти такую же биографию, но его немного сильнее связывают с номинализмом из-за комментариев к сочинениям английских последователей Оккама. Их деятельность в Вене, по началу сравнительно незначительная на фоне других астрономов Европы, уже в следующем поколении приведет Вену к полноценной гуманистической революции.
Самым же главным и наверное единственным заметным немецким мыслителем здесь пока оказывается Альберт Саксонский (1313-1390), логик-номиналист, математик, механик и естествоиспытатель, прошедший в Париже обучение у Буридана, и ставший его знаменитейшим учеником (позже даже иногда затмевавшим имена Буридана и Орема). С 1351 по 1362 год он преподавал в Университете Парижа, получил звание профессора, а в 1353 он стал ректором Сорбонны. Позже он участвовал в учреждении Венского университета, и стал его первым ректором в 1365 году. Как натурфилософ, он способствовал распространению парижской натурфилософии по всей Италии и Центральной Европе, и подобно Буридану, сочетал критический анализ языка с эпистемологическим прагматизмом. Работы Альберта по логике частично представляли собой продолжение комментариев Уильяма Оккама к логикам Порфирия и Аристотеля. В физике он пытался дальше развивать теорию импульса, в математике и логике часто цитировал оксфордских калькуляторов и пытался развивать похожие идеи. Уже при жизни Альберта его работы по физике считались столь же авторитетными, как работы «калькуляторов» и Орема, и активно использовались в университетах Италии. Как и Орем, он часто использует аргументы, которые тут же сам и опровергает, но его высказывания выглядят так, что в них гораздо проще увидеть скрытую пропаганду новой физики и притворное несогласие, призванное притупить бдительность инквизиции. Например, в «Вопросах к четырём книгам Аристотеля о небе и мире» были сформулированы шесть доводов в пользу движения Земли. Вот самый известный из них:
Некоторые считали, что земля подобна жаркому, а солнце — очагу. Но подобно тому как не очаг движется вокруг жаркого, но жаркое поворачивают на вертеле, так, говорят они, не солнце движется вокруг земли, но, скорее, земля движется вокруг солнца, потому что земля нуждается в солнце, а не наоборот.
В конце концов Альберт высказывается в пользу аристотелевского учения о неподвижности Земли, но здесь тяжело поверить, что такие аналогии делаются им просто так. Наряду с Альбертом, вторым крупнейшим номиналистом в Германии стал его ученик (а также ученик Николя Орема) — Марсилий Ингенский (1335-1396). Поступив на обучение в Париж, там он получил степень магистра искусств, затем приступил к работе и был ректором в 1367 и 1371 годах (как и Буридан, избирался на два срока). Помимо философских и логических исследований, он также изучал теологию, и его лекции по этому предмету пользовались большой популярностью. Во время раскола, вероятно, он не поддержал французского папу, и поэтому вынужден был бежать в Германию. В 1386 году Марсилий стал магистром Гейдельбергского университета, ректором которого он был девять раз: с 1386 года, года основания университета, по 1392 год и с 23 июня до своей смерти. С 1389 по 1390 год он отвечал за перенос университетского реестра в Рим. После этого он вновь занялся изучением теологии. В логике он был аристотелевским номиналистом; в натурфилософии и теории познания – эмпириком. Хотя эмпириком не полным, и принимавшим некоторые априорные истины. В своих комментариях к Аристотелю он применил синтез всей новой физики XIV века – Буридана, Томаса Брадвардина и Орема, как бы продолжая те же тенденции, что начались уже в философии Альберта. Как его теологические, так и философские работы характеризуются логико-семантическим подходом, в котором он следовал Буридану, в сочетании с эклектичным использованием более старых теорий, иногда более аристотелевских, а иногда более неоплатонических. Несмотря на такие прогрессивные взгляды, в вопросах чистой теологии он был максимально аккуратным и заявлял о том, что Бог может по произволу менять все законы физики, запросто может хоть даже сотворить вечный мир (что является логической ошибкой, но это не имеет значение если речь идет о всемогуществе) и т.д. Его тяжело назвать прямо таки немцем, раз он родился в Голландии, а большую часть жизни преподавал в Париже, но все же умер он в Германии, и с немецкой культурой немало связан, а значит его вполне можно считать вторым, наряду с Альбертом Саксонским, великим немецким мыслителем XIV века.
Традиции Альберта Великого в Германии продолжил Конрад фон Мегенберг (1309-1374), который написал первую энциклопедию на немецком языке «Книга природы» (1349), где систематизировал знания о мире, основанные на трудах Альберта Великого; тем самым он внёс вклад в развитие немецкого научного языка, как Орем послужил развитию французского. Эта книга содержала разделы про природу человека, астрономию, зоологию, ботанику и минералогию. Из других произведений Конрада следует упомянуть «Сферы», небольшой сборник по астрономии и физике на немецком языке, составленный на основе латинского труда Иоанна Сакробоско; труд о морали «Зеркало человеческого счастья» (1348); несколько работ с критикой ордена Бегардов и Бегинок и других нищенствующих орденов; книгу «О преемственности Империй» (1355); большой труд «Экономика», а также некоторые стихотворения, гимны, жизнеописания святых. В своих произведениях Конрад показывает себя ярым приверженцем папы, противником философии Оккама и суровым критиком нравственных недостатков своего времени и духовенства. Но хотя бы это не неоплатоник и не мистик, так что скорее это стоит считать достойным примером.
Литература в Германии не дает нам ничего на уровне Данте или Чосера, в основном здесь прямо продолжается всё то же, что мы видели раньше — рыцарская и куртуазная поэзия т.н. миннезингеров. Наконец-то в Германию более широко проникают традиции в духе фаблио, но каких-то уникальных и чисто-немецких авторов мы не находим, в основном же тут составляются сборники старых эпических легенд, и систематизируется литературное наследие прошлого. Из крупных представителей классической рыцарской поэзии здесь выделяется лишь Генрих фон Мейсен (1255-1318). Своё прозвище Фрауэнлоб («Хвала Деве») получил из-за многочисленных произведений во славу Девы Марии (frouwe). При жизни был очень популярным и как поэт, и как музыкант, затмевая большинство миннезингеров прошлого века. Искусство немецких земель в XIV веке, как и в других странах Европы, определялось развитием высокой готики. В архитектуре доминировала деятельность семьи Парлеров, чьи постройки в Праге, Швабиш-Гмюнде и других городах являются вершинами позднеготического зодчества. Из представителей этой семьи самым знаменитым был Петер Парлер (1333-1399), немецко-чешский архитектор, который руководил строительством собора Святого Вита (после смерти французско-чешского архитектора Матьё Аррасского) и Карлова моста в Праге при императоре Карле IV. Ещё стоит выделить такого скульптора, как Клаус Слютер (1340-1405) из Нидерландов, который работал при дворе герцога Бургундского. Его реалистичные скульптуры («Колодец Моисея» в Дижоне, 1395) демонстрируют новый уровень натурализма; один из основоположников «северного реализма», последователем которого в дальнейшем стал Ян ван Эйк. Клаус Слютер сильно повлиял на северное Возрождение и немецкую архитектуру. Как и скульптура с архитектурой, немецкая живопись развивалась в русле интернациональной готики, особенно в Кельне и Богемии. И если подняться на уровень общеевропейский, то в плане архитектуры Германия начинает занимать передовые позиции. Это главная сфера национального доминирования.

Испания
Культурная жизнь Иберийского полуострова в XIV веке, как и раньше, была отмечена сосуществованием и взаимодействием христианской, мусульманской и еврейской традиций, хотя уже практически завершенный процесс Реконкисты неуклонно смещал баланс в пользу христианской культуры. Философская мысль на полуострове была представлена как христианскими схоластами, так и выдающимися еврейскими мыслителями, которые продолжали богатую традицию иберийской еврейской философии, даже после того, как значительная часть общины бежала в арабские страны и на юг Франции. На фоне оживления, связанного с Толедской школой переводчиков XIII века, теперь, когда эта школа прекратила деятельность, Испания переживает скорее период упадка в культуре. Даже самый известный из мыслителей Испании — Раймунд Луллий (которого мы уже рассматривали в прошлой части), и тот был идейным мракобесом, на фоне которого Фома Аквинский выглядит даже неплохим мудрецом. В отличии от Германии здесь было основано несколько университетов ещё в XIII веке, но их зависимость от католической церкви парализовала всякое развитие. В плане философии здесь наибольшей популярности достигли именно мракобесы, например Висенте Феррер (1350-1419) – валенсийский проповедник-доминиканец и один из самых влиятельных проповедников своего времени. Он добровольно практиковал суровые аскетические практики, круглый год соблюдал строгий пост, спал на голой земле, передвигался только пешком. С 1398 года обошёл пешком Испанию, Францию, Италию и Германию. Вокруг него образовалась группа приверженцев в 300 флагеллантов, вместе с которыми он пытался возвращать в лоно церкви оставшихся до сих пор еретиков из сект катаров и вальденсов. В основном же Испания до сих пор полна типичных средневековых хронистов и поэтов в духе куртуазной любви, т.е. уровень культуры здесь находится примерно на уровне Германии, в позиции догоняющих, хотя и далеко не во всем. Например, как и в Германии, здесь неплохо развиты школы архитекторов и скульпторов, но ещё, в отличии от Германии, здесь уже видны яркие литературные новшества в духе итальянских гуманистов или Чосера.
Самым крупным писателем этого периода в Испании по праву считается Хуан Руис (1283-1350), автор «Книги благой любви», одного из самых оригинальных и загадочных произведений средневековой литературы, сочетающего автобиографию, сатиру, дидактику и пародию. Эта книга представляет собой автобиографию, насыщенную аллегориями и притчами. Автор рассказывает о том, как искал «благую любовь» (и плотскую, и религиозную), показывает своё знакомство с античной, арабской и куртуазной литературой. Поэзия Руиса отличается естественностью и живостью тона; в ней преобладает сатирический дух с примесью добродушного юмора; автор указывает на испорченность римского двора, на вредное влияние денег. В некоторых местах поэзия Руиса полна величия и нежности, напр. в стихотворении «О смерти»; иногда его стихи проникнуты духом истинно католической набожности, например, в гимнах Богородице. Широта кругозора писателя и богатство его стиля позволили некоторым назвать его «кастильским Чосером»; его книга оказала существенное влияние на литературу испанского Возрождения. Авторы плутовских романов позаимствовали из неё образ сводни, помогающей главному герою. Ещё один писатель, которого считают одним из крупнейших в Испании XIV века — Хуан Мануэль (1282-1349), помимо того, что был прямым кровным родственником испанских королей, и крупной политической фигурой, вошел в историю как автор книги «Граф Луканор» (1335). Книга состоит из пяти частей. Первую, самую объёмную часть, составляет 51 новелла (которые считают примером литературы в стиле «Декамерона» Боккаччо). Вторая, третья и четвёртая части — собрание афоризмов и изречений на те же темы. Пятая часть — небольшой морально-дидактический и теологический трактат. До нас также дошли такие его произведения, как «Книга о рыцаре и оруженосце» (1326), излагающая, по словам автора, «в манере, в какой рассказывают разные побасёнки в Кастилии», современные ему представления о мире, человеке, рае и аде; рисующая картину жизни и излагающая сумму знаний того времени «Книга состояний» (1327-1332); содержащая философские и житейские поучения сыну «Книга о наказаниях» («Книга без конца») (1342-1344); историческая «Сокращённая хроника» (до 1335); посвящённые более узким вопросам «Книга об охоте» (после 1337) и «Книга о гербах» (1342). Использование притч Мануэля из книги «Граф Луканор» обнаруживают, среди прочего, в работах Шекспира и Г.Х. Андерсена. Одним из первых испанских гуманистов считают Педро Лопеса де Айала (1332-1407), который по основному роду деятельности был обычным хронистом, но помимо этого написал «Дворцовые рифмы», острую и язвительную сатиру на средневековое общество. А самое главное — он переводил на испанский Григория Двоеслова, Боэция и Тита Ливия, Исидора Севильского и Джованни Боккаччо. Среди его прямых потомков — крупные испанские поэты и писатели Иньиго Лопес де Мендоса, Хорхе Манрике и Диего Уртадо де Мендоса.
Одним из лучших каталонских прозаиков, что писал в стиле эпохи возрождения, называют Берната Метже (1340-1413), автора диалога «Сон», где он помещает короля Хуана I в чистилище. Текст был написал в тюрьме, после того как Метже попал в немилость новой королевы Марии де Луна. Написанное сочинение позволило восстановить королевскую милость и все должности Метже. В этой книге обильно используются отсылки на античную классику и новых итальянских гуманистов. Здесь пародируется общая фабула Данте с путешествием в Ад и общением с умершими знаменитостями. И что интересно, в первой книге, где он встречает покойного короля Хуана, между ними завязывается философский и религиозный диалог о бессмертии души. Король пытается убедить его в бессмертии души, поскольку Метже заявляет, что он эпикуреец, то есть неверующий. В конце концов он примет идеи короля, но сделает это не по вопросу веры, а потому, что считает этот вариант наиболее разумным. Это приведёт к тому, что Метже вновь обретёт счастье, так как невежество является причиной несчастья. Эта первая книга ясно отражает гуманистическую мысль, поскольку главный герой всё ставит под сомнение и, через диалог и рациональную аргументацию, в конечном счёте формирует своё мнение по данному вопросу. Известно, что он был автором перевода латинского стихотворения «De vetula», приписываемое Овидию, и двух сатирических и юмористических поэм, написанных в тюрьме. Кроме того, им был сделал перевод рассказа «Valter y Griselda», последней из новелл Декамерона. Но перевод был сделан не с оригинального итальянского Бокаччо, а с латинского перевода Петрарки. Важность перевода Метже, помимо его изящной прозы, в том, что в вступительной статье, которая сопровождала рассказ, впервые в Испании, пишется о Петрарке. Примерно в это же время еврейский поэт из Кастилии Сантоб де Каррион (1290-1369) написал «Нравоучительные притчи», а перешедший из иудаизма в христианство (т.е. марран) Перо Феррус (ок. 1380 г.) посвятил одну из своих кантиг Лопесу де Айяле. В своих работах он имитировал христианскую веру, высмеивая своих бывших единоверцев в стихах. Считается одним из примеров поэзии в духе вагантов.
Всех остальных авторов (а их десятки только в первой половине века) мы уже не будем перечислять, и перейдем к примерам более классической философской мысли в Испании. Каталонский философ и теолог Пере Томас (1280-1340) был выдающимся последователем Дунса Скота. Предполагается, что свое образование он получал в Англии и Франции, но точно это неизвестно. Как и полагается «скоттистам», был умеренным реалистом, критиком Оккама и теологом, писавшим комментарии к Пьеру Ломбардскому и комментирующим Аристотеля. Со временем его взгляды эволюционировали от умеренного реализма к самым крайним его формам. Ничего особенного, это обычный идиот, хотя даже это куда лучше, чем чистое мракобесие мистиков-аскетов. И даже несмотря на то, что Томас был консерватором в философии, Испания уже была настолько отсталой в этой сфере, что он погиб в тюрьме, оказавшись там по обвинению в колдовстве. То есть даже на крайнего реалиста и теолога нашлись ещё большие дураки, готовые убивать своих идейных соратников. Не менее красноречиво об этом говорит биография Франсеска Эшимениса (1330-1409), который был, возможно, одним из наиболее успешных средневековых каталонских писателей, так как его работы широко читали, копировали, публиковали и переводили на другие языки. Можно сказать, что в литературной и политической сферах он имел большое влияние, ведь его работы читали даже испанские монархи. Он уже точно проходил обучение и в Оксфорде и в Париже, и поэтому имел возможность напрямую слушать передовых ученых Европы. Тут можно было бы ждать популяризации работ Буридана в Испании, но нет! В его наследии нет и следа разумных мыслей. Все свои работы он писал в основном на каталанском языке, реже на латыни, и посвящал их преимущественно богословским вопросам (ангелология и т.д.), изредка отвлекаясь на политические сочинения. Таким образом, зарубежное образование он никак не использовал. Но все же отметим его работу «Книга женщин». Изначально это руководство по образованию женщин, однако четыре пятых книги посвящены теологии и основам католической морали. Все пять частей книги соответствуют различным состояниям женщины: девочке, девице, замужней, вдове и монахине. В своих первых главах эта книга претендует на роль своего рода руководства по обучению женщин, подобного тем, что уже и так использовались раньше. Но сам факт того, что он обратил внимание на женское образование, пускай и консервативное, стоит того, чтобы это отметить, а вместе с тем иллюстрирует и полную нищету испанской философии того времени. Другие хоть мало-мальски заметные деятели оставляют не лучшее впечатление. Попробуйте поискать биографии Берната Оливера (1280-1348), который тоже бесполезно просидел образование в Париже, чтобы по прибытии домой писать сборники оголтелого идиотизма в духе «Трактата против иудеев», «Против слепоты евреев», трактаты с восхвалением мистицизма и против Антихриста. Единственное что выносится в заголовки его биографий, что один из королей заявил, будто Бернат был одним из лучших учителей теологии в мире. Охотно верим, но это скорее баг, чем фича. Пример Петра из Копостелы и многих других будет ничуть не лучше.
Что же до еврейской культуры в Испании, то из местных философов выделяются Хасдай Крескас (1340-1410), теолог из Арагона, который в своем труде «Свет Господень» подверг острой критике аристотелизм Маймонида, и нападал на всех вольнодумцев в еврейских общинах Прованса. Но не все так плохо, потому что другой еврейский философ, позже перешедший в христианство, Абнер Бургосский (Альфонсо из Вальядолида) (1270-1347), был наоборот сторонником Маймонида и врачом, что делает его по крайней мере банальной копией мыслителей XII века (и то, далеко не лучшей копией), но это лучше, чем вся испанская философия начала XIV века вместе взятая. В основном он был автор полемических сочинений против иудаизма, но сам факт, что он вообще использовал Аристотеля не для того, чтобы критиковать философию, а для изложения своих мыслей, это настоящее чудо, на фоне того, что мы видим вокруг него. Другие примеры оставляют желать лучшего. Например, когда кто-то хочет похвалить талмудиста Исаака бен Шешета (1326-1408), то пишут, что «Хотя Ицхак был очень строг в своих галахических решениях, он был далек от ограниченности. Он ничего не имеет против светского знания; он не одобряет изучение Аристотеля только потому, что последний исповедовал веру в вечность материи и отрицал провидение Божье». В переводе на человеческий — хотя он и был клиническим идиотом, но это не страшно, он по крайней мере не запрещал другим думать, хотя все же терпеть не мог Аристотеля из-за того, что тот не был мистиком-мракобесом. Последний кого считают заметной фигурой и осыпают похвалами, это Самуил ибн-Царца, современник Исаака, и автор комментария к Пятикнижию «Источник жизни». За что его восхваляют, остается только догадываться, ведь в своём учении он высказался, что следует верить всему, что сообщили мудрецы-талмудисты; если же иной раз не всё понятно в их словах, то это следует приписать ограниченности нашего понимания; ибо в их словах кроются глубокие тайны. Вот вам и вся философия Испании, даже за пределами христианства.
Испанское искусство XIV века развивалось под сильным влиянием итальянской и французской готики. Особенно заметным было влияние сиенской живописи в королевстве Арагон и французской миниатюры в Кастилии. В этом плане Испания дала много хороших примеров, также как она дала их в литературе, пускай и вопреки тотальному мракобесию в испанской философской мысли. Здесь выделяются, главным образом, каталонский художник Феррер Басса (1285-1348) – один из первых мастеров итальянского (джоттовского) влияния в Испании. Он расписывал капеллу Сан-Мигель в монастыре Педральбес (Барселона) в готическом стиле; его фрески и миниатюры сочетают итальянскую объемность с локальной колоритностью. Как и его сын Арнау Басса, который помогал отцу в этом деле, он умер во время эпидемии чумы, что сильно ударило по развитию новых художественных форм в Испании. Их последователь Рамон Десторренс (1351-1362) стал придворным художником короля Педро IV Арагонского. Семья каталонских художников, известных как Братья Серра (Жауме, Пере, Франсеск, Жоан) руководившая крупнейшей мастерской в Барселоне также является ярким примером каталонской готической живописи. Они тоже находились под влиянием сиенской художественной школы и писали в стиле Джотто и его последователей. Среди прочих имен, а их здесь немало, остается только упомянуть Луиса Боррасса (1360-1425), ведущего каталанского художника периода интернациональной готики.
Не трудно заметить, как складывается общая картина. Тенденции к деградации в Германии, которые стали заметны ещё около 1250-х годов, продолжается по меньшей мере ещё столетие, хотя все же Германия дает несколько хороших примеров в философии, заимствованной из Франции, и показывает неплохие результаты в готической архитектуре. Первенство почти во всех сферах культуры до сих пор принадлежит Франции, а центром философии остается Парижский университет. Франция выступает как сбалансированный срез достижений всей Европы, уступая другим странам только в очень конкретных направлениях, но никогда не во всем сразу. Италия слегка выходит вперед в области литературы, права и живописи, тогда как Англия создает передовой центр номинализма и механики в Оксфорде. В то же время Испания, как только закончилась реконкиста, резко и глубоко деградирует, оказавшись даже более глубоко на дне, чем раньше была Германия. Но благодаря прямому влиянию итальянской культуры (поскольку короли Арагона контролируют половину Италии), испанцы создают вполне неплохую для этого времени литературу. Таким образом, если говорить о философии, то ядром прогрессивных идей пока что остаются Франция и Англия, из которой эти идеи распространяются популяризаторами в Германии и Италии и все дальше на восток. Только оправившись от чумы и переходя в новую фазу развития, на первый план начинает выходить Италия. Сейчас же она в лучшем случае делит второе место с англичанами. Говорить о том, что наличие Петрарки и Данте делает Италию передовым культурным регионом совсем не приходится, если обратить внимание на содержательную сторону их произведений, и сравнить их с тем, что делалось ещё до них (!) в других странах Европы. Но задел для будущего скачка они всё же оставили.
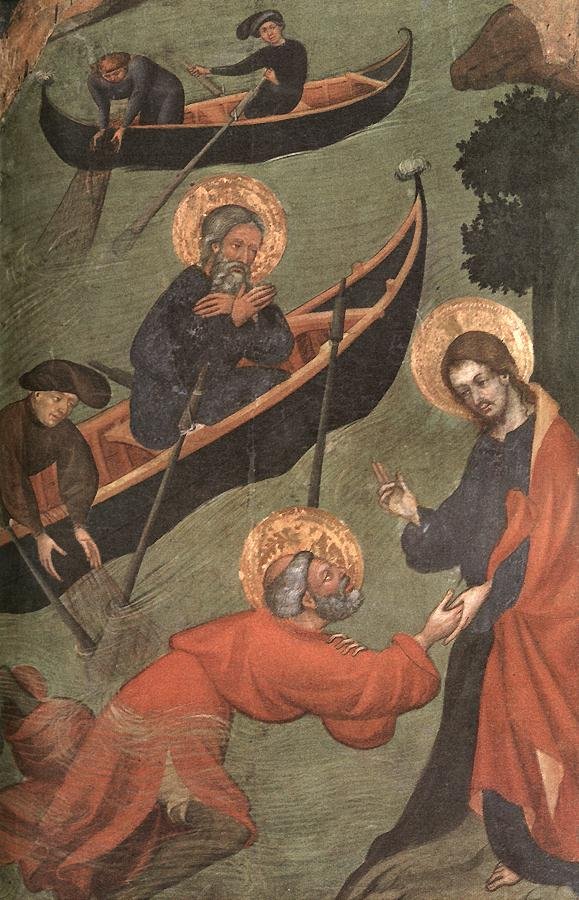
Между первым и вторым периодами:
расцвет гуманизма в Италии
Забежав вперед в предыдущей главе мы уже кратко затронули фигуры Колуччо Салютати (1331-1406) и Леонардо Бруни (1370-1444), как наследников консервативной этики (гражданский гуманизм) Петрарки. Но тех, кто уже всецело принадлежит XV веку мы тогда ещё не затрагивали. Напоминаем, что второй период нашей статьи занимает примерно 1380-1480 гг. Рассматривая Италию, мы также попытаемся вкратце описать сам гуманизм, как явление. Именно здесь, с начала XV века, гуманизм формируется в том самом смысле, в котором мы все обычно его представляем (Данте, Петрарка и т.д. — это скорее первые ростки, давшие толчок для свершившейся позже революции). Уникальная политическая раздробленность Италии по сути стала катализатором культурной конкуренции и инноваций. Меценатство могущественных семей — Медичи во Флоренции, Сфорца в Милане, Монтефельтро в Урбино — и институтов, таких как папство в Риме и Венецианская республика, создало активный рынок для искусства, которое было одновременно и гражданским долгом, и демонстрацией власти. Создавая интеллектуальные центры за пределами монастырской и университетской (тогда ещё сильно связанной с церковью) систем, возникает феномен чисто светской интеллигенции, оторванной от официальных институций. Эта интеллигенция, недовольная жестким диктатом церковных догматов над разумом, пытается отставить свою свободу и неизбежно продуцирует критику, как церкви, так и схоластической философии. Одним из самых дерзких нововведений гуманистов стало обращение повышенного внимания к проблеме человека, его первостепенной значимости. Этот антропоцентризм противополагался теоцентризму, и поэтому, при всех своих недостатках, был большим шагом вперед. Это была попытка отстаивания прав личности, принципов индивидуализма. Они отвергают значение благородного происхождения в оценке достоинства человека, которое теперь зависит от его индивидуальных качеств. Все это подталкивает их к реабилитации гедонизма (здесь начинают даже появляться открытые защитники Эпикура). Большинство гуманистов, даже консервативное их крыло, явно не одобряли нищенствующих монахов, проповедующих аскетизм. Но тут стоит быть осторожными и брать во внимание, что гуманисты почти никогда не поддерживали атеизм, и все таки оставались достаточно архаичными мыслителями. Их максимумом могла быть критика церкви в духе реформистов, с целью возвращения к более чистому раннему христианству, и в редких случаях неявная поддержка аверроизма. Сами условия того времени не позволяли ещё полноценно развивать критику религиозных идей. И то, все что мы перечислили выше, это срез лучших достижений от лучших из гуманистов, иногда даже вырванные из контекста общей картины мира каждого конкретного мыслителя. Подавляющее число гуманистов, на самом деле, даже не были особо прогрессивными, и находились на уровне интересов средневекового монаха. Но общие тенденции, ведущие ко все большей индивидуализации, приводили к тому, что даже самый закаченный мракобес в Италии, так или иначе, но способствовал созданию нового мировоззрения.
Рассуждения на тему роли человека в мире были одним из любимых предметов гуманизма, иногда это видно даже из названий сочинений, см. например: Манетти, трактат «О достоинстве и превосходстве человека» (1451-52) или Пико делла Мирандола, «Речь о достоинстве человека» (1486). Правда их аргументы базировались на старых добрых антропоцентрических взглядах древности, в частности на философии Аристотеля. Как и древние греки, гуманисты оправдывали особый статус человека тем фактом, что он единственный наделен полноценным разумом. Это бесценный дар природы, который отличает человека от всего сущего, делает его богоподобным. Все их рассуждения были проникнуты одной главной идеей — преклонением перед разумом и его творческой мощью. Таким образом явные гедонистические и индивидуалистические мотивы у гуманистов сочетались с ещё более сильным влиянием рационализма. Эти две тенденции пока ещё идут рядом. Высказывания гуманистов XV века в защиту и похвалу Разуму, критика ими церкви и теологических диспутов, гедонистические мотивы и критика идей о наследственной передачи добродетели — буквально в таком же виде (без преувеличений) будут повторяться просветителями в XVIII веке. Модные для XVIII-XIX веков идеи пантеизма, которые уже мелькали в XII-XIII веках в трактатах Динанского или Экхарта, тоже становятся почти общим местом, хотя они часто бывают замаскированы. Гуманисты относятся к Природе практически как к Богу, и знаменитая спинозистская формула уже регулярно звучит в речах гуманистов, например, как пишет Леон Баттиста Альберти:
«Природа, то есть Бог, вложила в человека элемент небесный и божественный, несравненно более прекрасный и благородный, чем что-либо смертное».
Превознося разум до таких высот, своей важнейшей задачей они считали пропаганду классической литературы. С их точки зрения, наследие античности значительно превосходит все новомодные поделки при прямом сопоставлении. А значит, за неимением лучших альтернатив, разумнее всего будет получать образование по древним книгам. Поскольку человек обретает настоящее счастье в мудрости и познании, то единственным путем к настоящему счастью становится изучение античности. А поскольку древние писали на латыни и греческом, то в глазах значительной части гуманистов эти языки гораздо важнее всех национальных языков вместе взятых. Поэтому гуманисты начали с невиданным до сих пор размахом выискивать остатки древних текстов по всем монастырям Европы, стараясь восстановить как можно больше античных памятников литературы. Этим занимались и несколько столетий раньше, но никогда ещё поиск древностей не становится до такой степени самоцелью, задачей первостепенной важности, в которую было вовлечено множество выдающихся писателей. Это сравнимо только с активным движением переводчиков XIII века, и в значительной мере этим же движением подготовлено (ведь переводя арабов, старались переводить именно античные работы; а переводы византийских авторов дали возможность познакомиться с греческими философами на языке, близком к оригиналу). Но и это не весь результат от нового подхода к ценности человеческой жизни. Одним из самых заметных прорывов, который произошел в Италии, стало создание новой реалистической скульптуры, а вслед за этим архитектуры и живописи. Подражая античности, все эти сферы искусства вскоре превзошли своих же древних учителей. Не трудно понять, как развитие идей антропоцентризма и индивидуализма сказалось на желании детализированного воспроизведения образа человека, его портретных сходств и т.д. Визуальное изменение искусства стало гораздо более ярким символом гуманизма, чем изменения в литературе. К тому же это изменение стало более резким, произошло сравнительно быстро и выглядит как настоящая революция.
Из ключевых философов этого времени, первым по праву может считаться Лоренцо Валла (1407-1457). На первый взгляд, это обычный филолог, обожавший латынь (т.е. классицист). Больше всего он проставился тем, что с помощью лингвистического анализа доказал подложность «Константинова дара» – легендарного документа, на котором основывались светские притязания папства на территории центральной Италии (ср. как против светских прав Папы боролись Марсилий Падуанский и его соратники). Это был самый сильный теоретический удар по власти Папы Римского за все время существования папства, если не считать чисто-моральной критики церкви от различных еретиков. И это особенно интересно, учитывая, что Валла родился в Риме и какое-то время даже вращался в кругах папской курии. Это уже выглядит неплохо, хотя эта работа была политизированной и делалась на заказ короля Арагона, который как раз воевал против Папы, т.е. на нее все же бросает тень её происхождение, ведь было бы лучше, если бы мотивация Валлы была самостоятельной. Филологические идеи Валла использовал в своем основном философском сочинении — «Пересмотре диалектики и философии» (ок. 1440). Эта работа была направлена против Аристотеля и всех его последователей, логику которых Валла критиковал как умозрительную и бесполезную науку. В основе его философии лежало убеждение, что язык и риторика, а не абстрактная логика схоластов являются ключом к истинному знанию. Он считал, что только создав идеальный язык без двусмысленных трактовок можно достичь адекватного понимания друг друга. Помимо запутанной терминологии средневековых философов, Валла также выступил как номиналист, критикующий абстрактные сущности в принципе, и подверг сомнению аристотелевскую систему десяти категорий, которую он предложил свести к трем: субстанция, качество и действие. Сами эти категории тоже никогда не существуют отдельно друг от друга, и их обособление это не более, чем удобный прием для размышлений. Тот же общий метод — «приземлить» философский аппарат, согласовать его максимально с миром обыденных, эмпирически воспринимаемых вещей — отражается и в его стремлении упразднить онтологическую трактовку абстрактных понятий (белизна, честь, отцовство), которые, как он полагал, указывают на ту же категорию (или их совокупность), что и конкретные понятия, от которых образованы (белый, честный, отцовский). С тех же позиций «здравого смысла» Валла критиковал аристотелевские натурфилософию и учение о душе. Сам этот «упрощенческий» и обывательский подход к философскому языку в устах изящного ритора и известного грамматика, ярчайшим образом отдает принципами «Каноники» Эпикура, о чем мы говорили отдельно в нашей статье «Против Логики».
Именно с критики или пересмотра аристотелизма начинается философия Нового времени в классическом виде (Декарт, Бэкон), и с этой же темы начинает свою карьеру «официальный» амбассадор европейского эпикуреизма Пьер Гассенди. В области языкознания главный труд Валлы — «Об изяществе латинского языка» (1444), сыграл огромную роль в восстановлении классической латыни. А в трактате «О сравнении Цицерона с Квинтилианом» Валла занял сторону последнего, выступив против главной звезды риторического искусства, стоико-платонического консерватора Цицерона (Квинтилиан, помимо прочего, считается сторонником концепции в духе Локка, где воспитание гораздо важнее, чем наследственность). Но кроме этого Валла написал трактат «О наслаждении», уже напрямую защищая в нем этику эпикуреизма, и отдельное философское сочинением с размышлениями о свободе воли. Возрождение философии Эпикура здесь ещё сильно сглажено консервативными рассуждениями, Валла пытается примирить Эпикура с христианской этикой. Правда, тоже самое можно сказать и про Пьера Гассенди, жившего гораздо позже, и который, тем не менее, считается достойным первооткрывателем эпикурейской философии. Если даже он и сглаживает эпикуреизм при помощи христианства, то в любом случае, Валла однозначно высказывается против стоицизма, утверждая, что стремление к добродетели ради самой добродетели противоречит человеческой природе. В этой работе Валла идет даже дальше, и заявляет, что нет ничего более абсурдного, чем гражданский долг, честь и патриотизм. С наслаждением он связывает принцип полезности, и таким образом воспроизводит, в основных чертах, этику утилитаризма.
«Тогда как стоики решительнее всех защищают высокую нравственность, добродетель (honestas), нам кажется достаточным выступить против этих врагов, воспользовавшись защитой эпикурейцев. Почему я намерен это сделать, отвечу позже. И хотя к опровержению и сокрушению школы стоиков относятся все книги, однако первая показывает, что наслаждение (voluptas) являются единственным благом, вторая — что высокая нравственность философов не является даже благом, третья определяет истинное и ложное благо. В ней будет уместно как можно ярче сложить, так сказать, похвальное слово о рае, чтобы призвать души слушателей, в меру моих возможностей, к надежде на истинное благо».
Естественно, Валла не был единичным случаем. Так или иначе влияние эпикуреизма распространялось тогда на многих писателей, от Петрарки до Бруни, хотя и не очень ярко. Имя Эпикура всё чаще звучит в спорах об этике, и хотя его не поднимают на щит, но уже не всегда относятся к его учению строго отрицательно (см. про Филельфо ниже по тексту). Ещё до переоткрытия поэмы Лукреция, которая уже была известна Валле, несколько раньше, и с гораздо большим рвением, в защиту эпикуреизма выступил малоизвестный ныне писатель Козимо Раймонди (??-1435). Его апология довольно примитивна и наивна, а сам автор расписывается в интересе к астрологии, но тем не менее, эту попытку тоже стоит осветить. Статью о нем и перевод самого яркого из его «эпикурейских писем» — приводим здесь. Немалый вклад в распространение свободомыслия сделал также Антонио Беккаделли (1394-1471), известный как «Il Panormita». Это ключевая фигура при неаполитанском дворе, прославившийся своей латинской поэзией. Переводчик Плавта и создатель академии в Неаполе, при патронаже короля Альфонсо Арагонского. Он известен, как автор эротического сборника «Гермафродит» (с заимствованиями из Приапеи, Катулла и Марциала). Он вращался в одних и тех же кругах, что и Валла, и был скорее его единомышленником, полемизирующим с одним и тем же набором врагов. Но все же с Валлой у него были, судя по всему, натянутые отношения. Они рассматривали друг друга как конкурентов. Валла даже был секретарем при короле Альфонсо, и 11 лет прожил в Южной Италии. Тем не менее, несмотря на это соперничество, в знаменитом трактате Валлы о наслаждении именно персонаж Беккаделли защищает эпикурейскую философию.
Вообще есть основания полагать, что эпикурейские идеи продолжали существовать среди прямых учеников Лоренцо Валлы. Среди них фигурируют Помпоний Лет (1428-1498), Платина (1421-1481), Николо Перотти (1429-1480) и Филиппо Буонаккорзи (1431-1496). И хотя строгой преемственности эпикуреизма нами здесь пока почти не обнаружено (для этого надо было бы вычитать их работы на итальянском и латыни), она более чем вероятна, и поэтому стоит всё же поставить этих авторов «под карандаш». В 1465 году Помпоний основал в Риме кружок гуманистов — «Римскую академию», где изучалась античная философия, подвергались критике средневековая схоластика и католическая церковь (сравните с мракобесной академией во Флоренции). Павел II, считая членов этой Академии заговорщиками и безнравственными безбожниками, арестовал их и закрыл их Академию; Помпоний бежал в Венецию, но был выдан папе, посажен в тюрьму и подвергся пыткам. При Сиксте IV академики вновь получили свободу, и Помпоний продолжал свою прежнюю деятельность. Уже в 1472-1473 годах Помпоний совершил путешествие по землям Южной Руси, впечатление о котором изложил в комментариях к «Георгикам» Вергилия. В историческом произведении «Цезари» он изложил историю Римской империи и Византии с III по VII века. Таким образом писатель связанный с эпикурейским свободомыслием отметился даже на территории совр. Украины. На счет его товарища Платины мы знаем несколько больше. Он известен историкам кулинарии как автор первого когда-либо напечатанного труда о кулинарии: «De honora voluptate et valetudine» (1470 г.). Сама тематика уже сближает автора с вульгарным эпикуреизмом, не говоря уже об их общей антиклерикальной деятельности и известной преемственности от Валлы. Отчасти Платина и сам ссылается на Эпикура и говорит о необходимости умеренной трактовки удовольствий, как естественного нам божественного дара, который внес в нашу телесную организацию сам Господь (а он ничего не делает зря). Но в дополнение к эпикурейской ориентации, Платина подчеркнул преданность также и Пифагору. К 1475 году Платина был назначен главным администратором Ватиканской библиотеки.
Николо Перотти, третий из известных учеников Валлы, также был в некотором роде спорщиком, и участвовал в споре своего учителя против Поджо Браччолини, а в 1453 году даже подослал убийцу, чтобы убить Поджо (неудачно). Также он открыто критиковал Домицио Кальдерини за его работу над «Эпиграммами» Марциала. Написанный им учебник по латинской грамматике, описанный Эразмом как «точный, но не педантичный», стал бестселлером своего времени, выдержав 117 изданий и продав 59 000 экземпляров в Италии, Испании, Германии, Франции и Нидерландах к концу века. Вместе с Помпонием Летом он создал версию перевода «Эпиграмм» Марциала в 1470-х гг. Еще одним его бестселлером стала впоследствии книга о Марциале. Как мы уже знаем, сам Марциал был писателем, наиболее близким к эпикурейской философии в своем поколении авторов. Филиппо Буонаккорзи после покушения на папу в 1468 году умудрился бежать в Польшу (видимо к нему позже и ездил Помпоний). Из историй того же Помпония и содержания некоторых стихов Филиппо, можно понять, что он был гомосексуалистом. Несмотря на это, в Польше он нашел работу у Львовского епископа Григория Санокского, местного гуманистического просветителя. Позже Буонаккорзи стал наставником сыновей польского короля Казимира IV Ягеллона и принимал участие в дипломатических миссиях. В 1474 году он был назначен королевским секретарем, в 1476 году служил послом в Константинополе, а в 1486 году стал представителем короля в Венеции. С восшествием на польский престол бывшего ученика Буонаккорзи под именем Иоанна I Польского его влияние достигло пика. Буонаккорзи отмечал в жизнеописании своего друга и единомышленника Григория Санокского: «Против Эпикура нельзя ни найти, ни сформулировать ничего убедительного». Как говорит М. М. Шахнович обо всех 4-х упомянутых учениках Валлы, «по свидетельствам современников они были последователями Аристиппа и Эпикура, считали, что «всё ничего не стоит, кроме стремления к радостям и наслаждению», «отрицали всё божественное, то есть утверждали, что бога нет, и отрицали существование души», а также приняли имена эпикурейцев».

С возрождением эпикуреизма культура Италии по сути вернула все достижения античности в области философии. Вскоре был переведен Диоген Лаэртский, и в полный рост фигурировали школы платоников, аристотеликов, стоиков и эпикурейцев. Но баланс сил был неравным. Традиции стоицизма и платонизма вытесняли все остальные, и положение в Италии напоминало не зрелую античность, а скорее ее закат и последние века, когда все школы вот-вот должны были пасть под натиском христианства и языческого неоплатонизма. Начатая ещё Петраркой, Бруни и Салютати линия стоической этики нашла продолжение у их последователя Поджо Браччолини (1380-1459). Традиции Леонардо Бруни продолжал также его непосредственный наследник Карло Марсуппини (1399-1453), канцлер Флоренции после Бруни и до прихода на этот пост Поджо, но о нем мало что можно сказать. В историю Поджо Браччолини вошел главным образом как книжный археолог и филолог-латинист, обнаруживший и скопировавший множество забытых латинских произведений. И это именно ему мир обязан сохранившейся поэмой Лукреция «О природе вещей» и трактатом Витрувия об архитектуре. Так что, хотя он и полемизировал против Валлы и был мыслителем скорее консервативным, так вышло, что Поджо сделал один из самых крупных вкладов в возрождение эпикурейской философии. Как и многие другие известные писатели прошлого, Поджо объездил почти все крупные страны Западной Европы, собирая там крупицы знаний; он не был замкнут в Италии, как не были замкнуты и большинство его современников в Италии и за её пределами. В поисках рукописей Поджо посетил все известные монастыри, бывшие центрами образования в XI-XIII вв., упоминаемые нами в предыдущих разделах цикла. Весной 1416 года Поджо посетил термы на немецком курорте Баден. В длинном письме к Никколи (о нем ниже) он сообщил о своём открытии «эпикурейского» образа жизни – за год до встречи с Лукрецием, – где мужчины и женщины купаются вместе, почти не разделяясь, в минимуме одежды. Он пишет это с явной критической иронией: «Я рассказал достаточно, чтобы дать вам представление о том, какая многочисленная школа эпикурейцев существует в Бадене. Я думаю, это должно быть место, где был создан первый человек, которое евреи называют садом наслаждений. Если наслаждение может сделать человека счастливым, то это место, безусловно, обладает всеми необходимыми условиями для достижения блаженства». Но его интересы были далеко не только книжными. К этому времени уже начинают появляться первые энтузиасты в том, что мы сегодня называем классической археологией. Один из первых археологов, Флавио Бьондо (1392-1463) уже активно изучал античные руины, на основе чего написал несколько исторических сочинений, где, среди прочего, пользовался концепцией средних веков между древностью и современностью. В 1427 году Поджо, совместно с Козимо Медичи, занимался раскопками античных руин в Остии. Уже в своей первой работе, связанной с этими раскопками, в диалоге De avaritia (1428) он проявил сильный интерес к римской истории.
В споре Браччолини и Валлы на кону стоял новый подход к «humanae litterae» (светской классической греческой и латинской литературе) по отношению к «divinae litterae» (библейской экзегезе иудео-христианских «священных писаний»). Валла утверждал, что библейские тексты могут быть подвергнуты той же филологической критике, что и классические произведения античности. Поджо считал гуманизм и теологию отдельными областями исследования и называл «mordacitas» (радикальную критику) Валлы «dementia» (слабоумием). Однако, творческое наследие Браччолини включает сочинения и на этические темы, в частности, диалог «Против лицемеров» (1448), обличавший монашество. Ещё более критичной была самая известная из всех работ Поджо — «Книга фацетий» (шуток). Это сборник юмористических и непристойных рассказов, написанных на латыни. Эта книга примечательна прежде всего своей беспощадной сатирой на монашеские ордена и мирское духовенство: «Худшие люди в мире живут в Риме, а хуже других — священники, и худших из священников они делают кардиналами, а худшего из всех кардиналов делают папой». Так что нельзя сказать, чтобы Поджо был слишком уж консервативным, просто он выделялся в худшую сторону на фоне Валлы (и его учеников, с которыми Поджо тоже вел публичные споры). Настоящий консерватор сжег бы рукопись Лукреция, как только бы её нашел.
Из друзей Поджо, которые тоже в основном занимались переписыванием античных находок, самым заметным был Никколо де Никколи (1364–1437), центральная фигура в кругу Козимо Медичи. Он был неутомимым коллекционером и переписчиком древних рукописей, а его коллекция легла в основу первой публичной библиотеки во Флоренции. Свои находки Поджо отправлял Никколи (как и письма с наблюдениями, о чем см. выше), который и занимался непосредственно делом тиражирования и распространения, и выступал связующим центром между агентами-археологами. Он был невероятно строг и критичен к каждой мелочи. В диалоге «О наслаждении» Лоренцо Валлы Никколи выведен как весьма набожный католик, хотя и склоняющийся скорее к признанию эпикурейцев, чем стоиков. Трудно сказать, имеет ли это какую-то связь с реальными взглядами Никколи, или скорее показывает личное отношение Валлы к нему, как к филологу. Но судя по всему это был очень консервативный мыслитель. Его преклонение перед латинской классикой доходило до самых сильных крайностей, о чем можно судить по его же собственным словам:
Я, клянусь Гераклом, отдал бы все ваши книжонки (то есть Данте, Петрарку и Боккаччо) за одно лишь письмо Цицерона, за одну лишь песнь Вергилия.
Другом Бруни и Поджо был также весьма знаменитый флорентиец Маттео Пальмиери (1406-1475), очередной представитель гражданского гуманизма. Основной акцент он делал на общественном характере природы человека, который раскрывается в гражданской активности, служении общему благу, в подчинении личных интересов коллективным (прото-коммунист?). Сначала он всецело поддерживал идеалы честного торговца, власти среднего класса и т.д., но в своих поздних работах уже начал задумываться об источниках социальной несправедливости, связывая её с господством частной собственности (х2 прото-коммунист?). Пальмиери — автор ряда исторических сочинений и публичных речей. В его «Речи о справедливости» обосновывается справедливость как норма морали и права. Подлинными носителями справедливости, по мысли Пальмиери, являются полноправные граждане, народ (х3 прото-коммунист?). Это прямой предшественник утопистов в духе Кампанеллы, Дени Вераса или Томаса Мора. И это не преувеличение, достаточно прочитать раздел о нем в книге Л.М. Брагиной «Социально-этические взгляды итальянских гуманистов», где говорится:
В «Граде жизни» Пальмиери пытается вскрыть не только нравственные, но и социальные причины несправедливости, прочно утвердившиеся в мире людей. Главную причину он видит в частной собственности: «мое» и «твое» порождают неравенство, зависть, раздоры и прочие беды. «Это «мое», что у каждого возбуждает слишком сильное желание, сокрушило установленный природой порядок и сделало частным то, что раньше было общим». Ставя акцент на изначальности коллективной собственности, ее естественном характере, поэт сокрушается, что «человеческие блага доступны лишь немногим, а бедняки не имеют самого необходимого». В поисках идеального общественного строя он обращается к начальной поре в истории человечества, к «веку Сатурна», «когда разум людей был преисполнен справедливости и не было распрей из-за богатства, поскольку вся земля была общей и люди довольствовались малым». Пальмиери высоко оценивает идеальное государство Платона, «где все общее и повсюду царят доброта и честность».
В соответствии со своими консервативными взглядами Пальмиери писал также и на тему воспитания. Вообще здесь стоит сказать, что гуманисты-учёные часто работали также и педагогами, а в некоторых случаях пытались писать трактаты специально на эту тему. Они считали своей главной задачей воспитывать совершенного человека, который благодаря гуманитарному образованию может стать идеальным гражданином. Гуманистическая педагогика, принимая, по платоновской модели, диалог как средство познания, стремилась вовлечь ученика в процесс обучения через сердечную и мягкую атмосферу, полностью исключая физическое насилие. Зачастую они ориентировались на античность, поэтому Витторино да Фельтре (1378-1446) предлагал вводить в систему образования детей спортивные игры (см. представления о том, каким было воспитание в древней Греции). И в его «Доме радости», экспериментальной школе в Мантуе, дети занимались верховой ездой, гимнастикой, плаванием и фехтованием. Причем некоторые из передовых методов воспитания детей он якобы заимствовал из программы Гуарино да Верона (1374-1460), известного переводчика, изучавшего греческий в Константинополе, и находившийся под влиянием византийской платонической философии. Среди прочего, тоже считается близким другом Поджо и Никколи. Но самый известный педагог — Пьетро Паоло Верджерио (1370-1444), автор сочинения «О благородных нравах и свободных науках» (1402). Как и Гуарино он учился у византийца Мануила Хризолора, но часто читается учеником Салютати (т.е. линия Петрарки и гражданского гуманизма). Верджерио отстаивал нравственно-социальные задачи образования: «Никаких более обеспеченных богатств или более надёжной защиты в жизни не смогут родители уготовить детям, чем обучить их благородным искусствам и свободным наукам». К последним он относил не только традиционные artes liberales, семь свободных искусств, особенно выделяя значение риторики, но и «гражданские науки» — историю и моральную философию. Цель образования гуманист видел в приобретении разносторонних знаний, формирующих свободный ум и высокую нравственность, помогающих в жизненных делах. Его идеал это гармонически развитый человек, сочетающий богатство знаний, добродетели и физическую крепость. В методах воспитания, по Верджерио, важны авторитет родителей и учителя, интерес самого ученика к занятиям, а не принуждение и наказание. Так что мы видим, что все три педагога, как и их младший современник Пальмиери — созвучны идеям Салютати-Бруни, и пересекаются между собой. Но сам факт большого внимания гуманистов к сфере воспитания, сближает их с французским просвещением в духе Гельвеция, и возможно потребует отдельного рассмотрения.

Из этой консервативной традиции наследников Петрарки, Бруни, Салютати и т.д., самым значимым считается отнюдь не Поджо, а скорее Леон Баттиста Альберти (1404-1472). Это главная фигура эпохи и альтернатива Лоренцо Валлы. Универсальный человек Ренессанса: архитектор, математик, художник, теоретик искусства и максимально разносторонний учёный. Альберти написал по-латински и по-итальянски трактаты «О зодчестве» (вдохновленный Витрувием), «О живописи», «О семье» и другие, став образцом «ренессансного человека» – разностороннего полимата. Как мы уже говорили выше, приводя в пример одну из цитат Альберти — он был пантеистом, ставившим знак равенства между Богом и Природой, и настойчиво проводил этот тезис далеко не в одном своем сочинении. Точно также и многие другие гуманисты, пытавшиеся повысить ценность земной жизни в противовес догматам церкви, тоже сближались с идеями пантеизма, не исключая здесь и Лоренцо Валлу. Но в отличии от Валлы, который отказался решать вопрос о свободе воли, Альберти почти открыто заявляет о детерминизме. Он также известен своей консервативной этикой, заигрывающей с коллективизмом, пафосом изображения человека, как творца, который подчиняет природу своим нуждам (см. Фр. Бэкон и далее), и возвеличиванием роли труда в жизни человека; в частности роли устройства человеческой руки (что уже встречалось в литературе разных веков, по крайней мере несколько раз, начиная с Анаксагора). Трудиться надо каждую минуту своей жизни, праздность — источник всех пороков. В процессе воспитания человека, которого Альберти превозносил едва ли не больше, чем любой из гуманистов, он отводил особую роль семье и обществу, как бы заглушая индивидуалистические мотивы этикой стоицизма, что и не удивительно, для наследника традиций Петрарки. Хотя нужно признать, что значительная часть этих идей, про роль труда и вред праздности и т.д., в таком же виде используется прото-коммунистом Пальмиери, это не уникальные идеи для их поколения. Если упросить всё до аналогий с античностью, то взгляды Альберти практически на все вопросы по физике, этике и логике будут совпадать со стоицизмом, но сглаженные тяготением автора к умеренности аристотелизма (одной из центральных идей Альберти будет гармония и золотая середина); в его сочинениях будут и телеология, и много чего ещё, во что мы не станем углубляться в нашем общем обзоре. Уже только за все это он мог бы стать выдающимся пророком для марксистов, но увы, Гегель на него не ссылался, и поэтому не срослось; теперь приходится молиться на Спинозу и Мейстера Экхарта. Также Альберти проставился тем, что спроектировал выдающиеся архитектурные сооружения (фасад церкви Санта Мария Новелла во Флоренции, базилика Сант’Андреа в Мантуе и др.), создал теорию перспективы и первым в Европе сформулировал принципы шифрования (он считается одним из основателей криптографии). Его художественные, научные и технические труды заложили фундамент теории искусства Возрождения. Положив в основу своего метода контаминирование (воссоединение) древнеримских и средневековых итальянских источников, Альберти оказался основателем движения классицизма в западноевропейской архитектуре. В отличие от своего старшего современника Ф. Брунеллески (о нем дальше), также флорентийца, Альберти в большей степени опирался на традиции античного Рима. Фигура Альберти часто рисуется как итоговый срез для итальянских гуманистов середины XV века, резюме всех лучших достижений, куда даже пытаются впихнуть, как составную часть, и философию Валлы. К счастью, даже беглое знакомство с Валлой и Альберти обнаруживает огромную пропасть между ними, и если вместо Валлы «итогом» становится Альберти, то тем хуже это для всего гуманизма, как течения. Хотя нельзя не похвалить Альберти за его многогранность и неплохие работы в архитектуре, но присоединиться к похвалам его стоико-платонической этики добродетелей может только идейный консерватор, но не современный эпикуреец. Хотя нужно отметить, что и при дворе в Неаполе, рядом с Валлой творили вполне себе типичные гражданские гуманисты, такие как Джаноццо Манетти (1396-1459), и что славу этой стоической школы скоро затмит нечто настолько ничтожное и глупое, что на фоне того, что ждет Италию, даже Поджо, Пальмиери и Альберти — настоящие вольнодумцы, революционеры и борцы за прогресс.
Переходя к ещё более глубокому консерватизму, интересной выглядит фигура Паоло Венето (1369-1429). Он даже по обыденным классификациям — не гуманист, а скорее продолжает традиции XIII-XIV веков, обычный теолог и богослов, сторонник реализма в вопросе об универсалиях, последователь Дунса Скота, который к тому же опирался на аргументы Фомы Аквинского и Альберта Великого. Паоло также критиковал работы и доктрины номиналистов XIV века, таких как Уильям Оккам, Жан Буридан и Марсилий Ингенский. Иногда он сравнивал тезисы этих мыслителей друг с другом, чтобы показать слабость их позиции. Но на самом деле всё это не так уж противоречит «гуманизму» в том смысле, как в него записывают других подобных мракобесов. Паоло Венето органически вписывается в охватившую всю Италию тягу к консервативным течениям мысли. Если консервативная этика гражданских гуманистов ещё могла косвенно заигрывать с этикой эвдемонизма хотя бы на уровне использования Аристотеля, и противопоставляться аскетизму теологов, то ситуация сильно ухудшилась начиная с середины XV века. В 1457 году умер Лоренцо Валла, а его ученики подвергаются преследованиям и уезжают заграницу. Тем временем во Флоренции, которая уже, как мы видели, стала оплотом консервативных ценностей, под патронажем Козимо Медичи (1389-1464) предпринимается попытка возрождения Платоновской Академии (1462). Теперь в довесок к худшим образцам античной этики здесь намеревались возродить платонизм и неоплатонизм. Начало этого проекта было положено, когда Медичи предоставил молодому Марсилио Фичино (1433-1499) виллу в Кареджи и кодекс греческих рукописей с сочинениями Платона и его последователей, на латинский перевод которых рассчитывал флорентийский меценат, и которые Фичино таки закончит в течении следующих 30-ти лет. Традицию переводов с греческого, которая безусловно существовала уже в XII-XIII веках, поддерживал, до появления Фичино и его товарищей, кардинал Бессарион, также известный как Виссарион Никейский (1403-1472), греческий ученый и гуманист, ставший кардиналом католической церкви. Это одна из ключевых фигур в передаче греческой учености в Италию после захвата турками Константинополя. Про остальных греческих философов, фанатика платонизма по имени Плетон, или критика платонизма Григория Трапезундского и т.д., мы здесь не говорим, хотя они сделали крупнейший вклад в расцвет европейского платонизма.
Получив образование во Флорентийском университете, где Фичино изучал литературу, медицину и философию (по книгам Паоло Венето!), Фичино начинал свои гуманистические штудии с увлечения философией Аристотеля и Эпикура. Значительный интерес исследователей вызвали несколько ранних работ Фичино, в которых тот рассмотрел иные философские школы античности. 1457 годом датируют небольшой реферат «О четырёх философских школах», дающий сведения также о взглядах стоиков и эпикурейцев. В более объёмном трактате «О наслаждении» исследовалась гедонистическая этика не только четырёх основных школ, но и киников, киренаиков, атомистов и некоторых других. Наибольшие споры вызывает утраченный «небольшой комментарий» к поэме «О природе вещей» Лукреция. О произведении известно из сообщения венгерского друга Фичино Яна Паннония, упоминавшего о том, что гуманист «как то свойственно юному возрасту, легкомысленно пропагандировал некоего древнего философа, или поэта, коего затем, руководствуясь более здравым советом, стал скрывать и (как я слышал) уничтожать». В 1492 году Фичино сам признавался в письме к Мартиру Уранию, что сжёг свои комментарии к Лукрецию, подобно тому, как Платон сжёг свои трагедии и элегии. Этот период интереса к эпикурейцам предшествовал началу работы на Медичи, и тогда самому Фичино было только 24 года. В зрелые годы он всецело посвятил себя переводам с греческого на латинский сочинений легендарного Гермеса Трисмегиста, диалогов Платона и сочинений неоплатоников. Эту философскую традицию античности он сделал доступной (в том числе и благодаря быстро развивавшемуся книгопечатанию) широкому кругу образованных людей в Италии и других странах Европы. К тому же как глава Платоновской академии он вёл обширную переписку с гуманистами, богословами и другими образованными людьми разных стран, ещё только начинавшими приобщаться к платонизму. Как самостоятельный мыслитель, Фичино известен как автор оригинальной концепции синтеза христианского и философского знания («благочестивая философия»), непрерывно передававшихся между мудрецами древности, от Зороастра до Платона и далее к ранним Отцам церкви. В трактате «Платоновское богословие о бессмертии души» он пытался продемонстрировать, что Платон из всех древних мыслителей ближе всех подошёл к истинам христианства, и его труды более пригодны для того, чтобы служить основанием церковной догматики, нежели сочинения Аристотеля и его продолжателей. Он поддерживает теории эманации из неоплатонизма, теорию врожденных идей. учение о мировом духе в стиле стоицизма. Достаточно только прочитать описания его философии, чтобы понять, что перед нами законченный мракобес:
Красота исходит от Бога как лучи, пронизывая четыре круга, вращающиеся вокруг него. Такой луч формирует в указанных кругах все виды идей в ангельских умах, разумы в душах, «семена» в природе и формы в материи. Таким образом, Фичино постулирует существование пяти божественных ипостасей — Ум, Душа, Тело, между душой и телом промежуточную ипостась природы, и Единого Бога. Бог рассматривается Фичино как бесконечное высшее существо, деятельность которого порождает мир вещей в процессе постепенного творения (эманации).
Круг общения Фичино не ограничивался Академией. Возможно, он читал лекции в «Обществе магов» (Compagnia de’ Magi), влиятельном братстве, состоявшем под патронажем Лоренцо Медичи, сам Фичино также был астрологом, мистиком-оккультистом, гностиком и герметистом, и при этом пытался строить официальную церковную карьеру и был набожным католиком. Выдавать такого типичного мракобеса, который идеально вписался бы в XII-й век и выглядел бы весьма типично для этого времени, только на основании того, что он соизволил похвалить современность за расцвет изобразительных искусств, это верх идиотизма современной критической литературы. Конечно, можно возразить, что подобной чепухой занимались и более выдающиеся люди, тот же Ньютон, или его товарищ, знаменитый часовщик Фатио, и много кто еще. Но этих людей извиняет хотя бы то, что они создавали что-то стоящее и послужившее развитию идей за пределами каббалистики. Но такие люди, как Фичино и его последователи — не сделали абсолютно ничего, кроме популяризации мракобесия. И дальше мы увидим это практически на каждом примере.
С Платоновской академией были связаны многие известные гуманисты — Кристофоро Ландино, Джованни Пико делла Мирандола, Джованни Нези, а также поэты Анджело Полициано, Джироламо Бенивьени, Нальдо Нальди, художник Сандро Боттичелли и другие. На заседаниях академии, не имевшей строго фиксированного членства, могли присутствовать все, кто интересовался философскими проблемами. Здесь часто бывали и Козимо Медичи, и позже его внук Лоренцо Великолепный. Одной из ведущих тем дискуссий была эстетика. Это наверное единственная тема их кружка, которая имела реальный положительный (но положительный ли, и необходимый ли?) результат для практики искусства классицизма. При этом напомним, что Платоновская академия во Флоренции не была единственной в Италии: в 1460-е гг. возникли ещё две академии — в Риме, где её возглавил гуманист Помпонио Лето (наследник идей Лоренцо Валлы), и в Неаполе, во главе с поэтом-гуманистом Джованни Понтано (друг эпикурейца Антонио Беккаделли). Но об этих последних, которые и прожили меньше, никто уже и не помнит. Из наших неоплатоников самым знаменитым был Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494), автор знаменитой «Речи о достоинстве человека» (1486), называемой «Манифестом Ренессанса». Его идея безграничного достоинства и свободы человеческой личности стала центральной для ренессансного гуманизма. Пико стремился примирить различные философские учения (Платона, Аристотеля, каббалу и др.) в единой системе, и как не трудно понять, это был мракобес вполне достойный школы Фичино. Единственное что могло его спасти — это прохождение обучения в Падуанском университете, где все ещё была сильная школа аверроистов, и поездка в Париж, где ещё можно было ознакомиться с учениями сильнейших номиналистов Европы прошлого века. Тем не менее, это никак ему не помогло, и он все равно оказался клиническим идиотом, а поэтому ухватился за мистицизм и стал основателем традиции христианской каббалы, ключевого принципа раннемодерного западного эзотеризма. О таком ничтожестве грех и писать в контексте эпохи, которая якобы должна была быть «Возрождением». Здесь остается только задать вопрос — возрождением чего это было? Всего самого жалкого, что только породила античность? На таком фоне традиции Петрарки и Бруни, продолженные в лице Поджо и Альберти — это действительно вершина прогресса.

Что достаточно характерно, один из этих новых академиков, Джованни Нези (1456-1506) поначалу был аристотеликом и гуманистом, но под влиянием Фичино постепенно обратился к неоплатонизму и восхвалению Медичи, а позже пережил духовное озарение стал почитателем местного итальянского прото-протестанта (очередного) Джироламо Савонаролы (1452-1498). Но в отличии от своих предшественников (Уиклифа, Беренгара, Арнольда Брешианкого и т.д.) Савонарола прославился тем, что на четыре года смог взять власть во Флоренции и восстановить республику. Символом деятельности Савонаролы стал «костёр тщеславия» — так историки окрестили сжигание картин, книг, игральных карт, одежды, косметики, зеркал и других предметов роскоши на городской площади Флоренции. Он был фанатично привержен исправлению нравов общества, и кроме того, при Савонароле был принят закон, предполагавший сожжение содомитов. В конце концов Савонарола был казнён церковью — его повесили, а позже тело сожгли на костре. Ещё один последователь Фичино, перешедший на сторону апологетов Савонаролы — Алессандро Браччези (1445-1503), не только духовно, но и общественно-политически поддерживал нового мессию, выполняя функцию дипломата Флоренции в Риме. Он активно пытался оправдывать Савонаролу перед папой, стараясь не допустить его отлучения от церкви и легитимизировать его правление в городе. Но из секты платоников Фичино далеко не только Нези и Браччези приняли сторону этого великого сжигателя книг. На самом деле подобное умопомешательство приписывают и «великому» Пико делла Мирандоле, и его близкому другу Джироламо Бенивиени (1453-1542), известному поэту и музыканту. В 1496 году он перевёл учение Савонаролы с итальянского на латынь. После того, как он стал последователем Савонаролы, он отказался от своей ранней поэзии и попытался писать более духовно. Он участвовал в «Костре тщеславия» Савонаролы и задокументировал уничтожение произведений искусства стоимостью «несколько тысяч дукатов». Также был христианским каббалистом и составил еврейско-латинский словарь. Прекрасное гуманистическое наследие платоновской академии. Кто знает, сколько ещё людей, подверженных влиянию этой секты мракобесов, в итоге фанатично бегали вокруг костров Савонаролы.
Есть и правда и относительно неплохие примеры воспитанников Фичино. Про архитектора Бруналески мы поговорим дальше, но также на удивление неплохо смотрится Кристофоро Ландино (1424-1498), который хоть и был фанатичным неоплатоником, но об этом почти не писал в своих работах, зато оставил много чего помимо пропаганды платонизма, например, перевёл «Естественную историю» Плиния (1476) и оставил комментарии к Данте, Вергилию, Горацию и Петрарке. Поэт и филолог Анджело Полицано (1454-1494), несмотря на то, что учился философии у Фичино, тоже на удивление неплохо смотрится, и каким-то чудом не отупел. Будучи протеже Лоренцо Медичи, Полицано возглавлял вольную «студию» во Флоренции и способствовал развитию литературного итальянского языка. Он прославился сборником придворных стихов «Стансы о турнире Джулиано Медичи» и латинскими стихами, а как филолог подготовил издания классиков. Современники называли Полициано «принцем филологов», и высоко ценили его эрудицию. На старости лет он перепродавал в университетах философию Аристотеля. Возможно это удачное стечение обстоятельств, поскольку он умер аккурат к победе Савонаролы, и не смог ни поддержать, ни отвергнуть этого великого человека.
Более-менее здраво выглядит критик эпикуреизма и консерватор Франческо Филельфо (1398-1481), известный своими путешествиями (Византия, Польша и т.д.) и преподаванием в университете Болоньи. Он был плодовитым писателем, автором стихов, эпиграмм, писем и речей на латинском и итальянском языках, его авторству принадлежит также биография Петрарки и курс по исследованию работ Данте. Он также работал переводчиком греческих текстов, хотя часто был вовлечен в научные споры. В философском диалоге «Об изгнании» (1440) обсуждается сама проблема переживания изгнания с родины. Она состоит из трёх книг, перемежающихся короткими комическими интермедиями. Действие диалога происходит во Флоренции, до отъезда изгнанных аристократов Паллы Строцци и Ринальдо дельи Альбицци, которые пытались остановить превращение Флоренции из республики в олигархию. Постоянные усилия Паллы, Манетти и Леонардо по установлению истинной природы счастливой жизни и опровержению вульгарных представлений Поджо Браччолини приводят к серьёзному обсуждению значения удовольствия и философии Эпикура. Интересно, что здесь именно консервативный стоик Поджо рисуется эпикурейцем, что может быть связано с попыткой критиковать Поджо, который (в отличии от Филельфо) был сторонником семьи Медичи. Эпикуреизм здесь используется как ругательство. Поджо очарован телесными удовольствиями, особенно едой и питьем. Он считает, что нет ничего позорного или плохого от природы. Эпикурейское желание Поджо жить роскошно за счет стремления к добродетельной жизни является антитезой философии Паллы, которую его товарищ по изгнанию Манетти описал как образ жизни, который чтит Платона, Аристотеля и Иисуса Христа. Козимо Медичи по ассоциации тоже является сторонником эпикурейства, философии, которая, по мнению Филельфо, является политически безответственной доктриной и отравляет жизнь каждого, кто общается с ее приверженцами. Казалось бы, ну это жесть какой мракобес, и да, так оно и есть. Но во-первых, он скорее в традиции Бруни, и на фоне платоновской академии выглядит ещё достаточно прилично, а во-вторых, несмотря на ссору с Поджо и на свое отношение к эпикуреизму, он выступил посредником в спорах Поджо и Валлы, и привел их к примирению.
Также современником Савонаролы, буквально его ровесником, был ни кто иной, как Леонардо да Винчи (1452-1519), величайший универсальный гений эпохи Возрождения: художник, физиолог и анатом, инженер-изобретатель, архитектор и учёный. Леонардо да Винчи считается одним из величайших художников в истории западного искусства и часто считается основателем Высокого Возрождения. Помимо прославленных картин («Мона Лиза», «Тайная вечеря»), Леонардо оставил тысячи страниц дневников с исследованиями в области механики, оптики, ботаники, анатомии. Его новаторские идеи (летательные аппараты, военные машины, анатомические рисунки и т. п.) далеко опередили свое время. Хотя это уже было не новшеством, и большинство художественных школ призывали, вслед за античными авторами — подражать природе, и изучать анатомию для лучшего изображения человеческих тел, Леонардо оказался одним из лучших в реализации этих принципов. Эстетическая философия Леонардо складывается из нескольких ключевых идей: подражание природе как основа искусства, единство искусства и науки, творческое преображение действительности и выражение человеческого духа через художественный образ (т.е. основные принципы классицизма, как стиля). Никаких чисто-философских трудов он не оставил, но по отдельным его высказываниям можно сделать много выводов. В каком-то смысле Леонардо продолжает и идеи Лоренцо Валлы, и идеи Леона Баттисты Альберти. Но лучшие стороны обоих этих мыслителей в Леонардо развиты ещё дальше. Конечно, он не эпикуреец, но все же неплохо относится к атомизму в духе Демокрита. Он резко критикует схоластическую философию, преклонение перед авторитетом древних, чрезмерный рационализм и веру в магические сущности. Отвергая оккультные объяснения, Леонардо резко отличался от большинства современников, он прямо называл астрологию, магию и алхимию лженауками, бесполезными для человечества. Несмотря на резкую критику в адрес «книжников», Леонардо был знаком и с философией средневекового номинализма. Исследователи отмечают, что он читал труды Уильяма Оккама и, возможно, унаследовал от них некоторые установки. Гораздо более выраженно, чем Валла, Леонардо выступает как эмпирик. Он предпочитает метод индукции всяким дедуктивным методам, и уже активно применяет математику для обоснования физических экспериментов. До него таких прецедентов особо не встречалось (Оксфордские калькуляторы не были эмпириками). Однако, хотя он гордился тем, что якобы был безграмотен (имея ввиду гуманистов и фанатов Платона), можно заметить много заимствований из аристотелизма и даже из неоплатонических учений кружка Фичино. Самые очевидные неоплатонические влияния видны в холистической метафизике, сосредоточенной на взаимосвязанности всех явлений (аналогия микрокосма и макрокосма); и, наконец, в синтезе искусства и науки как единого пути к истине. Платонизм влияет на Леонардо скорее по линии эстетики и в той мере, в которой поэтизировалась чистая математика. И все таки в этом синтезе эмпирической физики и рационалистской математики, Леонардо всегда больше эмпирик и постоянно это подчеркивает. Из отдельных достоинств его записок можно указать и то, что он отказывался от целевых причин Аристотеля и не верил в телеологическое устройство мира. Хотя при этом был строгим механистическим детерминистом в смысле убеждённости, что у всех следствий есть причина. В совокупности взглядов он почти полностью воспроизводит набор идей таких людей, как Френсис Бэкон или среднестатистического просветителя XVIII века. До сих пор идут споры о религиозности Леонардо. Очевидно, он не был атеистом, но и христианские чудеса и значительная часть мифов из Библии казались ему нелепыми. Обычно сходятся на том, что взгляды Леонардо были близки к деистическим или пантеистическим. Он знал лично почти всех выдающихся людей конца XV и начала XVI вв., от мракобеса Пико до политика Макиавелли, и его влияние сказывалось на культуре Италии ещё при жизни. Одного Леонардо достаточно, чтобы перекрыть все то, что создали ничтожества из Флорентийской академии.
Ещё до Леонардо в Италии творил такой видный инженер, как Мариано ди Якопо (1382-1453), о котором мы скажем несколько слов в самом конце обзора Италии, а также математик Бьяджо Пелакани да Парма (1350-1416), известный на английском языке как Блазиус Пармский. Он популяризировал английские и французские философские работы в Италии, где общался как со схоластиками, так и с гуманистами раннего Возрождения. Он был профессором математики в Падуанском университете (центр аверроизма Италии), где преподавал с 1382 по 1388 год; он также преподавал в Павийском и в Болонском университете. Среди его учеников был Витторино да Фельтре, упоминаемый нами выше педагог, а его работы читал знаменитый архитектор Филиппо Брунеллески. Около 1390 года Бьяджо написал работу о перспективе, где опирался на работы Альхазена, Джона Пэкхэма (товарищ Гроссетеста и Роджера Бэкона) и польского натурфилософа Витело. Его «Tractatus de Ponderibus» был основан на оксфордских теориях законов движения, и статике итальянского механики Иордана Неморария (1260-е годы). При этом он не соглашался с взглядами Томаса Брэдвардина на пропорции и привёл доказательство теоремы о средней скорости. Это важный пример того, как по Европе распространялись идеи из Англии и Франции.
Стоит ещё сказать о том, что в Италии того времени работала итальянская писательница Изотта Ногарола (1418-1466), которую считают первой крупной женщиной-гуманистом, и одной из важнейших гуманисток итальянского Возрождения. Она вдохновила поколения художников и писателей, и внесла свой вклад в многовековую дискуссию в Европе о гендере и природе женщин. Ногарола наиболее известна своим произведением 1451 года «Диалог о равном или неравном грехе Адама и Евы». Но не смогла сильно развить свои таланты и популярность, поскольку подвергалась систематической травле за попытки заниматься «не женским» делом. Из-за этого большую часть своей жизни она прожила по сути в затворничестве, с ограниченными контактами. И не стоит забывать о том, что подобное развитие культуры было бы невозможно, если бы католическая церковь была в это время так же репрессивна, какой она была в XII-XIII веках. Папы римские этого периода уже часто сами оказывались гуманистами и привлекали ученых в свое окружение. Можно вспомнить пример выше, как римские академики (последователи Валлы), запрещенные при одном Папе, были вскоре реабилитированы при другом (Сиксте IV). Все чаще появляются либерально настроенные Папы, а ближе к концу XV века эту должность начинают занимать и вовсе светские карьеристы и политики, самые известные из которых относятся к династии Борджиа. Такие папы, как Николай V (Томмазо Парентучелли) (1397-1455) или Пий II (Эней Сильвий Пикколомини) (1405-1464) сами были гуманистами и писателями, меценатами и заказчиками переводов античных текстов. Этим отчасти объясняется тот факт, почему гуманистов не преследовала церковь, хотя возможно в папской курии тоже отлично видели, что в основе своей гуманисты это не революционеры, угрожающие Церкви, а обычные консерваторы в духе стоиков и Платона. Большинство примеров преследований гуманистов относятся либо к цензуре на отдельных их произведения (без гонений или карьерных последствий), либо к чисто-политической борьбе, никак не связанной с их философскими и эстетическими идеями.
Перечислять всех интересных историков этого периода было бы слишком долго, поскольку в отличии от XIII века здесь уже очень хорошая сохранность текстов и гораздо большая концентрация известных личностей. Мы перейдем сразу к изобразительным искусствам, и попытаемся теперь описывать биографии как можно короче. Среди художников, предшествовавших Леонардо да Винчи, назовем семейство Якопо Беллини (1400-1470) и его сыновей Джентиле (1429-1507) и Джованни (1430-1516), деятельность которых считается важным элементом перехода венецианской живописи к т.н. Высокому Возрождению. Хотя даже братья, бывшие почти современниками Леонардо, далеки от мастерства последнего. Художник и доминиканский монах Фра Анджелико (1395-1455) известен своими безмятежными и светоносными фресками в монастыре Сан-Марко во Флоренции и в Ватикане; сочетал декоративные качества поздней готики с ренессансными новшествами в форме и пространстве. Филиппо Липпи (1406-1469) известен изображением Мадонны с Младенцем, в стиле, совсем близком к классицистическому. Вместе с Мазаччо (1401-1428) они произвели революцию в живописи, используя линейную перспективу, светотень для создания объема и психологически глубокие образы. Они решительнее, чем раньше направили итальянскую живопись на путь натурализма. Среди учеников Липпи особую роль сыграл Андреа дель Верроккьо (1435-1488), ставший впоследствии учителем для целой массы знаменитых художников, включая Леонардо.
Перечислим ещё некоторых: Антонио Альберти (прим. 1400–1440) из Феррары, творчество которого демонстрирует переход от поздней готики к раннему Ренессансу.

Самым крупным из художников времен Леонардо считается Сандро Боттичелли (1445-1510), прославившийся своими картинами «Весна» и «Рождение Венеры». Но с нашей точки зрения как раз эти две работы — редкая хрень. Они гораздо хуже, чем почти что угодно у Гирландайо. В списке работ Боттичелли по меньшей мере 118 картин и фресок. Из них сносных от силы 15, все остальное именно что без всяких «но» — абсолютное дерьмо. Но даже «сносные» это просто неплохой уровень, который выдают и другие современники Боттичелли. Из всех работ Боттичелли хорошими мы бы назвали разве что «Святой Августин в келье», «Паллада и Кентавр», и с огромными оговорками «Благовещение Честелло», «Оплакивание Христа» (и там и там исключительно из-за неплохо поставленных фигур главных героев, но они так плохо вставлены в общий антураж, что это на грани фола) и «Коронование Марии». Ещё куда не шло «Призвание Моисея» или «Три искушения Христа», хотя они и перегружены фигурами и лишены нормальной глубины пространства, но хотя бы обладают хорошей цветовой палитрой и качественными лицами персонажей. И упомянем ещё «Поклонение волхвов», как пример «массовой» работы. В остальном же его портреты уступают Гирландайо или Леонардо, и в целом он выглядит далеко не новатором, если оценить его работы в контексте всех тех авторов, которых мы видели до него. Просто откройте хайповую «Венеру» и присмотритесь к тому, насколько её фигура плохо вставлена в общий пейзаж, и как головы всех персонажей картины выделяются на фоне собственных же тел. Будто бы использовался коллаж из разных элементов, налепленных один поверх второго. Это очень плохо. Единственное что в этой картине удалось, это женщина в платье справа от Венеры. Также как в «Весне» удачными можно назвать разве что лица у четырех персонажей левее центра и платье в цветах у женщины справа. Но центральная фигура настолько убогая, как и вообще композиция в целом, что эта картина скорее плоха, чем хороша. Однако история рассудила иначе, и теперь этот ужас считается классикой живописи. Критиковать такие шедевры запрещено под страхом расстрела. Ещё здесь выделяется Пьетро Перуджино (1446-1523), в основном за то, что он был учителем Рафаэля Санти. Тяжело сказать, что его работы были первоклассными, но в принципе они могут стоять в одном ряду с Боттичелли, и очевидно повлияли на Рафаэля выбором основных цветов и некоторыми изменениями и изображении фонового пейзажа, в основном в изображении облаков.
Переходим к скульпторам и архитекторам Италии, достижения которых и были одним из главных источников вдохновения для живописцев. Якопо делла Кверча (1374-1438), ведущий скульптор своего поколения в Сиене. Его работы, такие как фонтан Фонте Гайя и портал базилики Сан-Петронио в Болонье, характеризуются фигурами, близкими скорее к будущей живописи в духе Рафаэля, с округлыми и мягкими формами. Хотя некоторые работы можно рассматривать как сильные примеры резкости и динамизма. Лоренцо Гиберти (1378-1455) был авторов трех мощнейших портретных статуй для фасада церкви Орсанмикеле: на них изображены Иоанн Креститель, св. Стефан и св. Матфей. Прославился также двумя парами бронзовых дверей для флорентийского баптистерия, особенно «Вратами Рая», которые продемонстрировали мастерство владения перспективой в рельефной скульптуре. Он пользовался большим количеством заказов, за счет чего был богаче большинства своих коллег-современников. Лоренцо Гиберти был коллекционером произведений античного искусства и историографом своего времени. Он принимал активное участие в распространении гуманистических идей, изучал творчество античных писателей. Гиберти интересовали актуальные для того времени научные проблемы геометрии и оптики, он занимался изучением перспективы и теории пропорций. Эти занятия пробудили у него желание, подобно древним авторам и по примеру гуманиста Альберти, создать сочинение, в котором излагались бы история и теория искусства. Незаконченный труд Гиберти «Комментарии» (I Commentari, 1452-1455) является ценным источником информации об искусстве эпохи Возрождения и содержит сведения, составляющие автобиографию художника. Эта работа стала основным источником для Джорджо Вазари, составившим «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550). Нанни ди Банко (1384-1421) создал несколько очень добротных скульптур для той же церкви, но не для фасада, а уже для интерьера. Прославился он, правда, не своими действительно хорошими скульптурами, а более посредственной работой «Четыре коронованных святых», по-видимому только за счет того, что здесь представлена сразу группа.
В школе Гиберти учились такие знаменитые скульпторы, как Бернардо Чуффаньи (1381-1458), Донателло (1386-1466) и Лука делла Роббиа (1399-1382). Чуффаньи явно уступал своим учителям и однокашникам, и его скульптура св. Матфея скорее напоминает портретную живопись прошлого поколения. Тогда как Донателло считается одним из величайших скульпторов всех веков (за что и удостоился отсылкой в Черепашках ниндзя). Он работал вместе с Бруналески с юности, и оставил множество неплохих в целом работ, далеких от реализма, но напоминающих скорее современный экспрессионизм. Прославился своей статуей бронзового Давида, хотя мы бы скорее выделили его памятник св. Георгию в доспехах со щитом и конную статую Гаттамелате. Третий же из упомянутых учеников Гиберти, Лука делла Роббиа, известный изобретением и усовершенствованием техники глазурованной терракотовой скульптуры, что позволяло создавать прочные и красочные произведения.
Ну и скорее к чистым архитекторам, чем к скульпторам, стоит отнести неоднократно уже упоминаемого выше Филиппо Брунеллески (1377-1446), который считается одним из отцов-основателей архитектуры Ренессанса. Он спроектировал купол Флорентийского собора, по своим размерам почти повторяющий купол античного Пантеона (и создал при этом технику, до тех пор не позволяющую реализовывать подобные проекты), и такие здания, как капелла Пацци и Оспедале дельи Инноченти, создав новый архитектурный язык, основанный на классических принципах, порядке и пропорциях.
Очень похожие по стилистике на чертежи с набросками механизмов Леонардо остались и от Франческо. В одной из оставленных им книг мы находим эскизы насосов, сифонов, водяных мельниц, лебёдок, стенобитных орудий, понтонных и других мостов, судов с колёсным ходом, военных кораблей и галер, подъёмных устройств, оружия, аппаратов для перемещения по воде и под водой, колёсных грузовых повозок, тягловых механизмов, методов подрыва мин, артиллерийских устройств, способов обороны гаваней, штурмовых лестниц, лафетов, планов крепостей и лабиринтов. Считается, что и Франческо и Леонардо могли делать такие зарисовки под прямым влиянием инженерных трактатов («О двигателях» и «О машинах») Мариано ди Якопо (1382-1453), по прозвищу Таккола. Интересно, что Таккола крайне неумело пользовался графическими приёмами перспективных построений, хотя известно, что он консультировал «отца линейной перспективы», архитектора Филиппо Брунеллески (1377-1446).

Второй период за рамками Италии:
Столетняя война, конец Византии и станок Гутенберга
Франция
И вот, наконец-то, после первого периода (ок. 1280-1380 гг.) нашей статьи и огромного обзора раннего итальянского возрождения, мы переходим к остальным странам Европы в 1380-1500 гг. Начнем же мы с Франции, как безусловного лидера Европы в предыдущие века. Теперь эта страна доходит до пика Столетней войны и начинает выходить на траекторию её завершения. Для ориентира — Жанна д’Арк, легендарная спасительница Франции, была казнена в 1431 году, а закончилась эта война уже в 1453 году, тогда же, когда турки окончательно завоевывают Византию. До этого момента политические дела Франции были очень плохи, и она постоянно рисковала оказаться в полном подчинении английской короны. Как результат, культурная жизнь страны замирает и перемещается на восток, в Бургундию и Нидерланды (там, на стыке двух культур, немецкой и французской, формируется нечто совершенно новое, но мы не будем уже выделять Нидерланды в отдельный кластер, чтобы не усложнять и без того перегруженный компендиум ссылок). Теперь в философии Парижа видное место занимают последователи Фомы Аквинского и Альберта Великого, что является прямым откатом назад на целое столетие. Школа Буридана будто бы испарилась, а её остатки резко деградируют. Наверняка какие-то номиналисты здесь ещё существуют, но мы просто не знаем даже их имен. Теперь ключевое место занимает философ, поэт и канцлер Парижского университета Жан Жерсон (1363-1429), который вместе с Николя де Кламанжом (1363-1437) был другом Пьера д’Айи (см. начало этой статьи, наследники Буридана). Это поколение уже гораздо консервативнее, чем во времена Буридана. Товарищ Жерсон был типичным богословом, который умеренно критиковал роскошь при папском дворе, и чем привлек внимание и оказал влияние на самых разных протестантов следующих поколений, включая Мартина Лютера. Жерсон — основоположник соборного движения (это когда вселенский собор должен считаться авторитетнее Папы) и один из виднейших теологов Констанцского собора. Он также разрабатывал то, что позже стало называться теорией естественного права, хотя уже далеко не первым на этом поприще, но тем не менее; а также стал одним из первых, кто защищал Жанну д’Арк и провозгласил её сверхъестественное призвание подлинным (сам умер ещё до казни Жанны). Звучит будто бы не так уж плохо, но следите за деталями, чтобы понять лучше, что нам пытаются скормить в исторической литературе под видом относительной прогрессивности. Будучи канцлером, Жерсон работал над созданием академического богословия как единой дисциплины: единой школы (томистической), с единым учителем (Фома Аквинский), с единой методологией, где все преподавалось на одном языке (т.е. латыни), уполномоченными учителями (университетскими теологами). Можно было бы сказать, что томизм это ещё не самый плохой вариант, и что Жерсон зато с недоверием относился к экзальтированному мистицизму, предлагая официально осудить видения св. Биргитты. И это было бы так, если бы мы не знали, что он также критиковал и саму схоластику, исходя как раз из позиций, близких к мистицизму, а его проект реформы образования был просто попыткой хотя бы как-то обуздать схоластов, не запрещая их полностью. Теология Жерсона находится полностью в духе самый знаменитых мракобесов прошлых веков: Ришара Сен-Викторского, Бернарда Клервосского, Бонавентуры и новых Братьев общей жизни. Он думал, что, обратившись к мистицизму, сможет в равной степени защитится от спекулятивной схоластики и соблазнов аверроистского пантеизма. Жерсон настолько мракобес, что даже написал целый «Трактат против романа о розе». При этом он не одобрял переводов Библии, утверждая, что в переводы всегда вкрадывается множество ошибок, искажающих смысл, защищал право торговать свободой наряду с торговлей имуществом, и был ревностным поборником монархического правления. Враг монархии, по его мнению, не может быть добрым христианином. И это чучело, напоминаем ещё раз, пытаются выставлять как крупную фигуру гуманистической эпохи! Особенно за счет дружбы с такими людьми, как Клеманж.
В 1393 году Клеманж был избран ректором Парижского университета, но со временем порвал с университетом, из-за конфликтов между его преподавателями и римскими папами, что сделало для него невозможным оставаться в Париже. Несмотря на своей показной консерватизм и поддержку пап, Николя де Кламанж, наряду с Жаном де Монтрёйлем (1354-1418), Лораном де Премье (1365-1418) и Гонтье Колем (1355-1418) считается важнейшей фигурой «первого французского гуманизма». Сам Клеманж находился под влиянием Петрарки, и его произведения отличаются изысканностью латинского стиля. Он также занимался филологией, исследуя и собирая рукописи античных авторов. Работы Клеманжа показывают также и то, что он знал греческий язык и возможно даже поддерживал близкие контакты с Поджо Браччоллини. Его друг Жан Монтрёйль тоже посещал Италию и был лично знаком с Колуччо Салютати. В вестибюле своего отеля Монтрёйль вписал десять законов Ликурга (Спарта ведь, как известно, центр прогресса и Просвещения, а никак не анти-интеллектуальная казарма) и из-за этого поссорился с Лораном де Премье, который противопоставлял «sterile nugas et inania verba Lycurgi» Священному Писанию, т.е. одно дерьмо другому. К слову, Лоран де Премье перевел «Декамерон» Боккаччо, его же работу о выдающихся людях прошлого, и переработал сочинения Николая Орема об экономике, что выглядит даже весьма неплохо на фоне Клеманжа и Жерсона. В их кружке какое-то время даже был некий миланец Амброджо, который представлялся как убежденный любитель античности. Их споры о Цицероне и сравнительных достоинствах Вергилия и Овидия переросли в ожесточённую переписку, которая привела к обмену письмами между членами группы; позже Монтрёйль высмеял обращение в христианство Амброджо, которого он знал как эпикурейца и скептика в религиозных вопросах (и это может косвенно значить, что Монтрёль предпочел бы сохранение эпикурейского скептицизма). Монтрёйль и Гонтье Коль также входили в галантное общество королевы Изабеллы Баварской и в знаменитый «Cour amoureuse» с «puys d’amour», куда каждый должен был приходить, сочинив балладу, и где проходили «испытания любви».
Среди литературных споров, в которых Монтрёйль принимал участие, наиболее известны «Дебаты о романе о Розе», состоявшиеся в Париже в 1401-1402 годах. Эти споры начались с небольшого трактата, восхваляющего «Роман о Розе», который Монтрёйль распространял в парижских литературных кругах. Кристина Пизанская ответила летом 1401 года длинным открытым письмом, также своего рода небольшим трактатом, в котором она осудила «Роман о Розе» как безнравственное, женоненавистническое и непристойное произведение. Затем образовалось два лагеря (которые медиевист Эрик Хикс в шутку назвал «родофилами» и «родофобами»), которые в течение нескольких месяцев обменивались «открытыми письмами». На стороне «родофобов»: Кристина Пизанская и канцлер Жан де Жерсон; на стороне «родофилов»: Жан де Монтрёйль, Гонтье Коль и его брат Пьер Коль. Можно подумать, что намеки на эпикурейские взгляды Монтрёлья как-то сгладят его похвалы Ликургу Спартанскому, но на самом деле всё не так хорошо, как может показаться. Монтрёйль был одним из первых, кто прибегнул к Салическому закону в качестве аргумента против женского престолонаследия, и использовал его последствия, чтобы оспорить притязания Генриха IV Английского, который также был покровителем Кристины Пизанской. Не трудно понять, какие взгляды на положение женщин в обществе отстаивал Монтрёйль в спорах с прото-феминистичной писательницей. Все таки наши гуманисты ориентировались преимущественно на традиции Петрарки, т.е. были теми ещё консерваторами.
Вообще теологов и гуманистов во Франции достаточно много, и перечислять всех было бы слишком долго. Достаточно посмотреть на фигуру Роберта Гагена (1433-1501) и его товарищей (напр. Гийома Фише, ставшего ректором в Париже), чтобы увидеть, как на первый взгляд самые банальные и традиционные теологи, обслуживающие интересы церкви, тем не менее, занимаются переводами античной классики, а иногда даже пишут неплохие картины, приближающиеся к уровню их итальянских коллег. Если бы точно такие же люди родились не во Франции, а в Италии, их бы уже давно носили на руках, как выдающихся гуманистов. Так что гуманисты за пределами Италии есть, и вполне неплохие, но увы, они гораздо хуже изучены, их в целом меньше, и они не оставили серьезного культурного следа. Самым крупным из них считается мистик-герметист (!) Жак Лефевр д’Этапль (1460-1536). Он прославился в основном как автор перевода Библии на французский язык и очередной предшественник протестантизма, но кроме теологии и магии Лефевр кое-как пытался продолжать номиналистические традиции Буридана, написал огромное количество комментариев к Аристотелю, Эвклиду, Сакробоско и т.д. Сам писал работы по музыке, астрономии и математике, И хотя в целом уступает даже Буридану, не говоря уже про Лоренцо Валлу, тем не менее стоит упоминания, как крупный французский философ этого периода. Особняком стоит также всем известная знаменитость, книготорговец и меценат Николас Фламель (1330-1418), который спустя долгое время после своей смерти приобрел репутацию алхимика, создавшего философский камень, благодаря чему он обрёл бессмертие. Сам же Фламель наверняка не был даже и алхимиком. Из ученых можно было бы назвать несколько математиков, но они не сделали никаких серьезных вкладов в науку. Единственное что хоть как-то скрашивает эту общую картину, это наличие более-менее неплохих врачей. Например Анри Арно из Зволле (1400-1466), кроме того, что был врачом, также работал астрономом, астрологом и органистом Филиппа Доброго. Он наиболее известен своим трактатом о музыкальных инструментах. Между 1438 и 1446 годами (за несколько десятилетий до деятельности Леонардо да Винчи) он создал рукописи на латыни по широкому кругу технических предметов, включая астрономию, гидравлику, астрономические инструменты и чертежи складной лестницы и машины для полировки драгоценных камней. Самая известная часть его музыкального трактата касается проектирования и строительства музыкальных инструментов, содержащий, среди прочего, самую раннюю иллюстрацию клавесина. Он дал подробное описание действия и эксплуатации этого инструмента, а также описал лютню, клавикорд, дульсе мелос и орган.
Известны также две женщины-хирурга, Перетта Перонне и Гийеметта дю Люи (ок. 1420-1479). Они обе преследовались за то, что работали без лицензии (которую и получить-то было почти невозможно), хотя упоминаются даже как лекари при королевском дворе. Вообще женщины-врачи к тому моменту были довольно распространенным явлением, и даже столетиями раньше уже встречались примеры, тоже, впрочем, преследуемые за нелегальную практику, такие как Жаклин Фелице де Алманиа (ок. 1280-1340) или Херсенд (ок. 1190-1259). В XV веке женщин-врачей стало гораздо больше, но мы лишь кратко упомянули двоих. И как уже говорилось выше, Кристина Пизанская (1364-1430) выступила с критикой сексизма в «Романе о Розе» на стороне Жерсона. Хотя она итальянка по происхождению, но все таки это придворная писательница французского королевского двора, поэтому и рассматривается как французский автор. Одна из первых профессиональных женщин-авторов, Кристина была прекрасно знакома с римской литературой, произведениями Данте, Петрарки и Боккаччо. По началу она сочиняла стихи в духе куртуазной лирики и большой успех снискала её «Книга ста баллад», написанная в традиции оплакивания и повествующая о нелёгкой участи одинокой вдовы. Особо следует выделить «Послание богу любви», с которого началась резкая полемика Кристины Пизанской против «Романа о Розе». Современники высоко ценили энциклопедическую поэму Кристины «Путь долгого учения», историю её воображаемого восхождения на Парнас, а затем и выше, к небесному престолу Разума. В 1404 году по поручению герцога Бургундского Филиппа Смелого Кристина написала апологетическую «Книгу о деяниях и добрых нравах мудрого короля Карла V». К наиболее известным сочинениям Кристины Пизанской относится «Книга о Граде женском» (1404), в которой подчёркивается, что женщина ни в чём не уступает мужчине по своим способностям. Причину неудачных браков она видела в конкретных человеческих пороках мужчин и женщин. Она выступала за женское образование, которому посвящено отдельное произведение, «Сокровище града женского», законченное в том же году. От Кристины Пизанской берёт начало так называемый «спор о женщинах» во Франции XVI века. Кристине принадлежит ещё ряд прозаических сочинений, включая «Книгу о военных деяниях и о рыцарстве» (1405), а ее последнее сочинение «Песнь о Жанне» посвящено Жанне д’Арк.
Были во Франции и богатые купцы, связанные с Италией, которые использовали свое богатство в том числе и для покровительства наукам и искусствам. Например, Жак Кёр (1395-1456), дворцы которого выстраивались уже с использованием новых архитектурных и скульптурных стилей из Италии. Во Франции, как и везде в Европе, уже существует стабильный театр, правда до сих пор преимущественно по христианским сюжетам в честь каких-то праздников. Известны как минимум несколько драматургов (Арнул и Симон Гребан, Николь де Ла Шене, Эсташ Маркаде, Жан Мишель, Жак Миле), и комедиограф-шут Трибуле, сочинивший большое количество комических пьес, пять из которых дошли до нас: глупая пьеса Король Шутов (1454), возможно, знаменитый фарс Мастер Пателина (1457), пьесы Вигилеса Трибуле (1458), Переписчики и Кладовые (1461) и Дураки, или Магнификат (1462). В конце своей карьеры он написал Дискуссию Трибуле и Смерти (1480). Он не только был современником, но и лично был знаком с крупнейшим поэтом средневековья, Франсуа Вийоном (ок. 1431-1480). Этот последний, фигура очень интересная, но увы, мы опишем его только в нескольких предложениях. Он вырос в бедности, у приемного отца, который тем не менее смог получить должность в Парижском университете, что обеспечит Вийону образование. Со студенчества он вел богемную и разгульную жизнь, был вовлечён в преступную деятельность и неоднократно сталкивался с правоохранительными органами. Он прекрасно понимал средневековый куртуазный идеал, но часто предпочитал писать против течения, переворачивая ценности и воспевая подонков, обречённых на виселицу, с удовольствием погружаясь в пародии или непристойные шутки и постоянно новаторствуя в своей манере и словарном запасе; в нескольких небольших стихотворениях широко используется парижский воровской жаргон. Тем не менее, стихи Вийона повествуют преимущественно о его собственной жизни, о нищете, трудностях и испытаниях, которые, безусловно, разделяла и целевая аудитория его стихов. Известен как автор «Большого» и «Малого Завещаний». Его баллады (например, знаменитая «Баллада дам былых времён») сочетают грубоватый реализм с глубокой лиричностью и размышлениями о бренности жизни. Из чистых литераторов, наверное третья фигура эпикурейского типа после Боккаччо и Чосера. Из крупных поэтов можно назвать ещё Алена Шартье (ок. 1385-1430), чьи сочинения проникнуты дидактизмом и патриотизмом; французского принца Шарля Орлеанского (1394-1465), который провёл 25 лет в английском плену после битвы при Азенкуре, где создал на французском и английском сотни изящных лирических стихотворений; и сатирика Антуана де ла Саля (1385-1460), который известный своей книгой «Маленький Жан из Сантре», которая иногда считается смесью куртуазной темы и фаблио, и пародией на рыцарские романы.
Французское изобразительное искусство этого периода находилось под сильным влиянием фламандской и итальянской школ, сильно вышедших вперед к этому моменту. Продолжалось строительство великих готических соборов, а также началось возведение замков и дворцов, предвосхищавших архитектуру Ренессанса. Но и здесь Франция оказывается скорее неплохим, но все же подражателем. Из художников здесь особенно отметились Жан Фуке (ок. 1420-1481), мастер портрета и книжной миниатюры, который сумел соединить традиции итальянского Ренессанса с элементами готики, создав стиль, напоминающий Донателло, но при этом с выраженным портретным реализмом. Но если посмотреть на работы таких прославленных мастеров, как Жан Малуэль (1370-1415), Анри Бельшоз (1390-1445), Жак Иверни (1411-1438) Ангерран Картон (1410-1466), или книжные миниатюры нидерландских братьев Лимбург, то все же бросается в глаза, что французская живопись на несколько десятилетий отставала от уровня итальянской. Они пытаются развивать реалистические черты непосредственно из готики, не особо пытаясь подражать античным образцам или примерам объемной скульптуры. Французская живопись по большей мере идет тем путем, который выбрали Нидерланды, чем тем, который выбрала Италия. В этот период франко-фламандская школа была доминирующей силой в европейской музыке, и многие из ее ведущих деятелей были выходцами из регионов, которые сейчас являются частью Франции. Самым крупным представителем этой школы стал композитор Гийом Дюфаи (1397-1474), а также Жиль Беншуа (1400-1460). В 1436 году Дюфаи сочинил один из своих самых известных мотетов — «Nuper rosarum flores» по случаю освящения 26 марта 1436 года нового флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре, купол которого был завершен великим зодчим Филиппо Брунеллески. Наиболее ценной частью наследия Беншуа считаются его шансон, преимущественно на три голоса. В них он показал себя как композитор, придерживающийся стилистических традиций прошлого. «Бургундская шансон» Беншуа — прямая наследница многоголосных светских баллад и рондо французской школы Ars nova на стереотипные тексты куртуазной тематики (похожие, например, на стихи Гильома де Машо). Авторы текстов неизвестны, за исключением баллады Dueil angoisseus rage demeseurée, положенной на стихи Кристины Пизанской.
Это далеко не все писатели, художники и поэты, и нами упущено много таких, что считаются значимыми. Но перечисление остальных уже мало что добавит к сложившейся картине (разве что можно было упомянуть гуманиста Жана Тиксье де Равизи, из более поздних, но это малоинтересный автор книг о риторике). Здесь мы видим, что Франция резко теряет свою значимость. Возможно это связано с углублением последствий Столетней войны. Школа Буридана вдруг просто исчезает, как будто не осталось и следа. Местные гуманисты местами показывают неплохой уровень, но это уже обычное заимствование веяний из Италии, догоняющее, а не самостоятельное явление. Парижский университет переживает полное доминирование христианской ортодоксии. Полноценный французский Ренессанс начнется только в начале XVI века, после военных походов в Италию, когда Франция станет первой политической силой Европы, а вот в XV веке мы впервые фиксируем застой. Правда, нельзя сказать, что дела здесь совсем плохи, они не хуже, чем до этого были в Германии или Испании, и явно лучше, чем Англия этого же периода.

Англия
В период между 1370 и 1450 годами Англия тоже переживала бурную эпоху, отмеченную окончанием Столетней войны, началом Войны Роз и значительными социальными и культурными преобразованиями. Будучи среди лидеров в чисто-теоретическом плане ещё в XIV веке, Англия точно также, как и Франция, деградирует под влиянием политических обстоятельств. Но если Франция ещё кое-как сохраняла культурный уровень, то в Англии ситуация оказалась едва ли не худшей во всей Европе. Интеллектуальная жизнь всё также была сосредоточена в университетах Оксфорда и Кембриджа. Традиции Оккама здесь исчезли, как и традиции Буридана во Франции. Натурфилософия сдает позиции, и в моду снова возвращается типичная теология в духе Фомы Аквинского и Дунса Скота. Здесь мы перечислим практически всех видных схоластов этого периода, хотя все они уступают даже консервативным гуманистам Италии. Чаще всего фигурирует имя Алана из Линна (1348-1423), теолога-кармелита, который любил аллегорические толкования Библии, был очень известен среди своих современников талантом проповедника и был другом или духовным приближенным мистика и полемиста Марджери Кемпе (1373-1438). Она тоже достаточно популярный и часто упоминаемый автор этого периода, что вообще многое говорит про Англию в целом. Кемпе написала первую автобиографию на английском языке, в которой записаны её видения, экстатические молитвы и диалоги с Христом. Она предприняла ряд паломничеств (в Иерусалим, Рим, Испанию), но как и большинство слишком фанатичных мистиков, официально обвинялась в ереси. Многое говорит имя Николас Лав (1370-1424). Это был автор популярного перевода-адаптации «Размышлений о жизни Христа», который использовался церковными властями для противодействия учению Джона Уиклифа. При всех недостатках Уиклифа и вообще реформационного движения, как явления скорее аскетически-консервативного, борьба против еретиков и контрреформация от этого не становятся лучше (хотя протестантов критиковали и вполне передовые деятели культуры, такие как Эразм и Мор). Доктором теологии не только в Кэмбридже, но и в Париже был Джон Бестон (ок. 1370-1428); и, тем не менее, он не написал ничего толкового об античности, сосредоточив внимание на вопросах Библии и теологической морали. А сэр Томас Неттер (1375-1430) стал очередным кармелитским монахом и богословом, что активно боролся против учения Джона Уиклифа. При этом и он, и почти все перечисленные до этого мыслители — даже посещали Италию, но никакого влияния это на них не оказало. Среди наиболее памятных высказываний Неттера – краткое изложение традиционного взгляда: «В делах веры, как говорят, искусные духовные люди понимают, остальные же просто верят». От всех них ничем не отличается и Джон Фелтон (ок. 1370-1434), и даже Уильям Линдвуд (1375-1446), считавшийся крупным церковным юристом, всё равно активно боролся против Уиклифа и почти не писал сочинений на светские темы.
Несколько лучше выглядел Джон Бейт (ок. 1370-1429), чьи основные труды хотя бы связаны с философией, например о «Частях речи», об «Универсалах» Порфирия и об «Этике» Аристотеля. Другие работы были посвящены Аристотелю и «Sex Prædicamenta» Жильбера Порретанского. Бейт даже знал греческий язык, что для Англии могло быть неплохим достижением, и порицался более консервативными коллегами чуть-ли не как сатанист. Но он не был ни аверроистом, ни даже номиналистом. Джон Барнингем (ок.1380-1448) тоже мало чем отличается от всех вышеперечисленных консерваторов, но о нем хотя бы мелькают данные, что это был последователь Дунса Скота. Не то, чтобы это было символом прогресса, но это хотя бы схоластика, а не чистая теология. Епископ Томас Беккингтон (1390-1465), скорее всего, относится к группе радикальных консерваторов, но по крайней мере он оставил текст не теологического характера. Самым важным результатом дипломатических миссий Бекингтона во Францию стал один латинский дневник, написанный им самим и касающийся посольства в Кале, и еще один, написанный одним из его сопровождающих и касающийся путешествия в Арманьяк. Единственный, кто хоть как-то дополняет блеклые ростки адекватности Джона Бейта, это Александр Карпентер, латинизированный как Фабриций (ок. 1380-1440), который был автором Destructorium viciorum, религиозного произведения, популярного в XV и XVI веках. И это тот пример, когда вместо борьбы против Уиклифа мы видим человека, который поддерживает лоллардов (хотя это и оспаривается). Последователей лоллардов можно найти даже в стенах Оксфорда на руководящих должностях, например Роберт Бертон и Джон Кастелло, магистры в Оксфорде, были исключены из университета и обвинены в ереси, но кроме этого они ничем толком и не известны. В следующих поколениях отметились Реджинальд Пикок (1395-1461) — епископ и богослов, известный своими трудами в защиту ортодоксии на английском языке, в которых он пытался вразумлять лоллардов убеждением, а не карательными мерами. Пикок призывал к просвещению мирян и к дискуссии с еретиками посредством разума и Писания. Его умеренная позиция вызвала подозрения, и в 1457 г. его осудили за «ересь»: Пикоку пришлось отречься от своих трудов. Тем не менее, он остался в истории как мыслитель, выступавший за разумный диалог в вопросах веры. Джон Фоскал (1415-1474), последователь Дунса Скота и неоплатонизма, достаточно влиятельный, чтобы читать лекции в Германии и Италии; и Джон Баркер (ок. 1450-1490), преподаватель логики по собственному тексту, «Scutum inexpugnabile». Копий не сохранилось, но, вероятно, это было введение в аристотелевскую логику и модальную грамматику. Так что в целом до конца века здесь сохраняется стабильность в консерватизме.
В Англии того времени продолжали появляться алхимики, например Томас де Эштон получил от короля Генриха VI разрешение на трансмутацию драгоценных металлов, а 7 апреля 1446 года был издан специальный приказ, поощрявший Эштона и сэра Эдмунда де Траффорда, продолжать свои эксперименты в области алхимии и запрещавший любым подданным короля досаждать им. Позже мы встречаем алхимика Джона Стейси (ок. 1440-1477), которого подозревали в занятиях тёмными искусствами, и было известно, что он предсказал смерть герцога Саффолка. Позднее он был обвинён в заговоре против Эдуарда IV, короля Англии, и казнён за измену. Среди врачей этого периода, которых безусловно было немало, таких которые стоили бы упоминания, всего несколько. В первую очередь это хирург Джон Брэдмор (ок. 1350-1412), который приобрёл известность тем, что сначала вылечил неудачно пытавшегося покончить с собой мастера королевских павильонов, а затем с помощью изобретённого им хирургического инструмента смог извлечь стрелу из головы будущего короля Генриха V, которой тот был ранен во время битвы при Шрусбери в 1403 году. Между 1403 и 1412 годами Брэдмор создал труд, названный им «Philomena» — один из самых ранних трактатов по хирургии. Ещё заметным стал хирург Томас Морстед (1411-1450), служивший трём королям Англии: Генриху IV, Генриху V и Генриху VI. В 1423 году, работая при Генрихе VI, Морстед вместе с врачами Джоном Сомерсетом (ок. 1410-1454) и Гилбертом Каймером (ок. 1410-1463) попытался основать объединённый колледж врачей и хирургов. Колледж был основан «для лучшего образования и контроля над врачами и хирургами в городе и его свободами». Несмотря на это, колледж просуществовал всего год и закрылся в ноябре 1424 года. Из астрономов Николас Линнский, современник Чосера, высоко оценивался этим последним. Это, конечно, не уровень Леонардо да Винчи или французских врачей, но уже кое что.
И все же считается, что и Англию не обошел гуманизм. Мы знаем, что Хамфри, герцог Глостерский (1390-1447) и родственник королей, помимо своих политических и военных достижений (или скорее неудач), был видным меценатом и покровителем гуманистов, собравший большую библиотеку, которую он завещал Оксфордскому университету. Он и сам считался образованным человеком, почти ученым, который активно интересовался культурными процессами в Италии, и поэтому современники даже считали его чудаковатым. В исторических пьесах Шекспира изображение Хамфри примечательно тем, что является одним из самых однозначно симпатичных: в тетралогии «Война Роз» он один из немногих исторических персонажей, изображенных в единообразно положительном свете. Но кто же те люди, которым он покровительствовал? Это главным образом поэт Джон Лидгейт (1370-1451) и историк Джон Капгрейв (1393-1464). Капгрейва тяжело назвать гуманистом, он написал несколько самых типичных хроник, число которым миллион, и был по сути священником. Единственное что его выделяет, это работа «Путеводитель по Римским древностям». Лидгейт тоже был священником, но этот человек один из немногих в Англии того времени, кого можно смело причислить к гуманистам. Он сознательно пытался продолжать традиции Чосера, возможно даже лично знал Чосера и был его учеником. Он отлично знал почти всю античную литературу и даже некоторые крупные произведения из Италии. Конечно, Лидгейт писал и исторические хроники с моральным содержанием, и жития святых, но кроме этого написал и такие фаблио, как «Лондонский бездельник», «Песенки о женских рожках». В наиболее известной поэме «Троянская книга», содержащей объёмистый перевод «Троянской истории» итальянского поэта XIII века Гвидо де Колумна, Лидгейт намеренно выходит за рамки «Рассказа рыцаря» и «Троила и Крессиды» Джеффри Чосера, чтобы сделать своё произведение чисто эпическим. Около 1422 года Лидгейт создал также поэму «Осада Фив», дополнявшую французскую переработку известного античного сюжета о походе семерых царей. Между 1431 и 1438 годами он написал поэму «Падение принцев», представляющую собой творческую переработку латинского трактата Джованни Бокаччо «О несчастиях знаменитых людей» (1360). Сюжетно она перекликается с «Рассказом монаха» из сборника Чосера и предположительно содержит заимствования из трактата Колюччо Салютати «О роке, судьбе и случайности» (1399). Аллегорически излагая историю начиная с грехопадения Адама и Евы, нагота которых была, по его мысли, ещё невинна, он рассуждает в ней о важной роли в развитии человечества одежды, смену которой увязывает с постепенным упадком морали и нравственности. Ещё одним учеником и продолжателем традиций Чосера считается Томас Окклив (1368-1426). Его первая известная поэма «Письмо Купидону», была переводом 1402 года «Послания к богу любви» Кристины Пизанской, и возможно, была расценена как неуместно франкофильская в контексте растущего английского национализма. Сегодня он наиболее известен своей серией автобиографических стихотворений, которая включает в себя самое раннее описание психических заболеваний на английском языке. Также некоторый вклад сделал Джон Ширли (1366-1456), переводчик и переписчик, особенно известный переписыванием произведений Джона Лидгейта и Джеффри Чосера. С другой стороны, помимо традиций Чосера, сохраняются и традиции рыцарских романов. Главная фигура здесь — Томас Мелори (1415-1471), автор знаменитого рыцарского романа «Смерть Артура», завершённого около 1470 г. и напечатанного Уильямом Кэкстоном в 1485 г. Мелори обобщил артуровский миф, объединив французские и английские источники, и создал классический рыцарский эпос Средневековья на английской почве, который повлиял на всю последующую литературу о рыцарстве. В то же самое время некий Генри Ловелих перевел с французского языка «Роман о Мерлине», а позже Джон Буршье (1467-1533) активно переводит целую массу рыцарских романов с французского и испанского языков, в том числе и «Золотую книгу Марка Аврелия» Антонио де Гевары, чем внес свою лепту в популяризацию стоицизма. Таким образом, в Англии сохраняются традиции Чосера и проникает какой-то зачаточный гуманизм итальянского типа. Но все же основными жанрами, как и раньше, были поэзия, исторические хроники и религиозные тексты. В этом плане ситуация все равно даже хуже, чем во Франции.
Если вышеназванных чосерианцев ещё редко называют гуманистами, то следующих двух называют почти всегда. Уильям Грей (ок. 1420-1478), епископ и коллекционер рукописей, один из ранних английских гуманистов, который несколько лет проучился в университетах Германии и Италии, был лично знаком с ведущими итальянскими мыслителями, и привнес оттуда методы сбора материалов из церковных библиотек. Ну а Джон Догет (1435-1501), который тоже по делам оказался в Италии и провел там несколько лет, где-то между 1473 и 1486 годами представил свой «Examinatorium in Phaedonem Platonis», свой первый философский труд, перевод сочинения Леонардо Бруни с комментариями. Неоплатонические тексты, цитируемые Догетом, включая латинскую версию книги Гермеса Трисмегиста, написанную Марсилио Фичино, рассматриваются им через призму христианской апологетики, а «Федон», без сомнения, был выбран в качестве инструмента для комментария прежде всего потому, что мог быть представлен как мифологизированная версия христианского учения. Это самая мракобесная версия итальянского гуманизма, но наконец-то хоть она полноценно проникает в Англию.
Из прогрессивных примеров среди драматургов стоит упоминания Генри Медуолл (1462-1502) он написал пьесу на английском языке «Фульгенс и Лукреция» (1497), героиня которой должна выбрать одного из двух женихов. Это самая ранняя из известных светских английских пьес, основанная на латинском произведении итальянского гуманиста Буонаккорсо да Монтеманьо. А настоящим новатором английской поэзии считается Джон Скелтон (1460-1529), иногда называемый предвестником английского Возрождения. Поэт-лауреат и наставник при короле Генрихе VIII. К числу его наиболее известных произведений относятся морализаторская пьеса «Magnyficence» (1516), юмористическая поэма «The Tunning of Elinor Rumming» (1520) и многочисленные сатирические стихотворения, в которых он высмеивал как светские, так и церковные власти. Хотя он писал практически во всех известных к тому моменту жанрах, как поэт Скелтон в основном известен своими инвективами и сатирами, часто написанными в крайне нерегулярном размере, который и сейчас называется скелтоника. Эразм Роттердамский в 1500 году назвал Скелтона «unum Britannicarum literarum lumen ac decus». Эта латинская фраза примерно переводится как «единый свет и слава британской литературы». Так тут стоит отметить, что в Англию проникает книгопечатание, главной фигурой в котором стал Уильям Кэкстон (1422-1491), основавший в 1476 году первую английскую типографию в Вестминстере и напечатал около 100 изданий. Кэкстон издал «Кентерберийские рассказы» Чосера, сочинения Мелори и многие другие тексты, унифицировав орфографию и диалект. Его деятельность существенно поспособствовала формированию единых норм английского языка и распространению литературы. Как переводчик Кэкстон познакомил Англию с рядом европейских сочинений, сделав литературу доступнее широкой аудитории в Англии позднего XV века.
И раз уж мы упоминаем Эразма, то стоит зайти слегка вперед и сказать, что после всей этой преимущественно мракобесной картины, появление Томаса Мора (1478-1535), автора знаменитой «Утопии» (1516), действительно выглядит как настоящий культурный прорыв. В переписке с Мором и Эразмом находился ещё священник Уильям Латимер (1467-1545), который ещё в 1490-х годах отправился в Италию, чтобы изучить древнегреческий язык, и в конечном итоге получил степень магистра искусств в 1502 году в Феррарском университете. Но это уже поздний период, скорее относящийся к началу XVI века, когда в большинстве стран Европы наконец-то начинается полноценное Возрождение (в Англии это называли «Новое учение»). Из деятелей времен Мора и кружка гуманистов, распространявших новое учение, тут можно упомянуть ещё Уильяма Гросина (1446-1519), который тоже посетил Италию, где изучал греческий и латынь, а затем способствовал распространению греческой науки в Англии. Эразм считал его своим другом и наставником. В этот же кружок входил врач Томас Линакр (1460-1524), изучавший греческий язык в Италии (учился в том числе и у Полициано), и у которого греческому учились как Мор, так и Эразм, и ещё несколько людей, которых мы уже не будем упоминать. Но ещё раз, это все уже относится к совсем позднему времени, к поколению современников Леонардо да Винчи, и даже несколько старше его. До их появления в Британии почти столетие царит полный мрак.
Итоги по Англии очевидны. Прогрессивные натуралистические школы мертвы, ситуация даже хуже, чем во Франции, гуманизм ещё практически не проник в страну, а лучшие её достижения заключаются в том, чтобы просто кое-как поддерживать литературную традицию Чосера. Всё остальное, включая произведение Мелори — голая архаика. Страна будто бы была отброшена на 200 лет назад в своем культурном развитии. Даже архитектура и живопись здесь почти не ощущает следов влияния Италии. Безусловно, к 1500 году Англия уже отставала даже от аутсайдеров 1400 года, т.е. Германии и Испании. Это было потерянное столетие, которое будет наверстано только в XVI веке.

Германия
После сплошной деградации в Германии XIII-XIV веков, то что начинает происходить здесь в XV веке выглядит просто невероятным прорывом. Местами немцы в это время оказались гораздо выше, чем вся ренессансная культура Италии. Конечно, тут нужно учитывать, что итальянцы часто напрямую влияли на Германию, ибо отчасти Италия входила в состав Священной Римской Империи, и немецкие юноши регулярно ездили в Италию для получения образования. Выдающихся ученых и философов в Германии этого периода стало настолько много, что даже тяжело решить, с чего начать и куда двигаться. Их так много, что мы пожалуй не будем особо упоминать теологов и мистиков, за исключением самых выдающихся в масштабах Европы. Само собой в стране, где вскоре начнется Реформация — теологов было предостаточно. К сожалению, для них просто не найдется места в этом уже и без того огромном списке. Но все же начнем мы с философов и богословов. Безусловно, первым здесь считается Николай Кузанский (1401-1464), кардинал, философ, математик и теолог, которого называют самым значительным немецким мыслителем XV века. Он активно участвовал в церковных реформах и предвосхитил многие важные идеи: выдвинул концепцию «учёного незнания», рассуждал о бесконечности Вселенной и вращении Земли. Его сочинения представляют оригинальную версию неоплатонизма, соединённого с математикой и натурфилософией. Конечно, неоплатонизм тяжело назвать прогрессивной философией, но по крайней мере в версии Кузанского это подавалось слегка лучше, чем в версии итальянского мракобеса Марсилио Фичино, да ещё и на несколько десятилетий раньше него. В отличии от Фичино, Кузанский хотя бы не всецело сосредоточен на теологии. Но в каком-то смысле можно сказать, что Кузанский продолжает традиции мракобеса Экхарта, поддерживая на плаву мистическую версию представлений о пантеизме. С другой стороны, в Германии мы находим то, что потеряли в Англии и Франции, а именно продолжение школы номинализма. Здесь Габриэль Биль (1420-1495), получивший образование в Гейдельбергском и Эрфуртском университетах, начал поддерживать и развивать учения Уильяма Оккама; правда, нужно признать, что в последних трёх своих работах он был ближе к философии Дунса Скота, чем к номинализму. Биль также внёс значительный вклад в развитие политической экономии. Начав с вопроса о справедливой цене товара, Биль определил её как определяемую спросом на товар, его редкостью и усилиями, необходимыми для его производства. Биль не видел ничего плохого в торговле, и считал её изначально благом, оправдывал доход купца, поскольку тот должен был нести труд, риск и расходы. Он написал отдельный труд о денежном обращении «Поистине золотая книга», в котором осудил подделку монет князьями как бесчестную эксплуатацию народа. В той же книге он также сурово порицал тех правителей, которые ограничивали общие права на леса, пастбища и воду, произвольно увеличивали налоговое бремя; и жаловался на конные увлечения молодых дворян, безрассудно опустошавших поля сельского населения. К моменту выхода — это было самое передовое экономическое сочинение в Европе, оставившее далеко позади взгляды Фомы Аквинского.
Номиналистам с видным упорством противостоял Иоганн Хейнлин (1425-1496), но проиграв в борьбе против Биля, он перебрался в Париж, где стал членом Сорбонны и ректором Парижского университета. Там никаких номиналистов уже и не было, поэтому не было и стоящего сопротивления. Он же ввел первый печатный станок во Франции в 1470 году. Среди учеников Хейнлина числится довольно знаменитый Рейхлин, а среди друзей Себастьян Брант (о них дальше). Позже математик Пауль Скрипторис (1460-1505) – монах-францисканец, скоттист и профессор Тюбингенского университета, читал лекции по космографии Птолемея, а также преподавал и изучал труды Евклида. Он написал комментарий к труду Дунса Скота, примечательный тем, что стал первой книгой, напечатанной на печатном станке в Тюбингене. В 1499 году Скрипторис читал лекции против пресуществления хлеба в тело Христово. За это он был изгнан францисканцами и умер в изгнании. Его фамилия – латинский перевод немецкого имени Шрайбер («писатель»), что косвенно указывает и на влияние итальянского гуманизма. Были здесь и видные томисты, например Ламберт Кёльнский (1430-1499), поклонник Аристотеля, защищавший толкования перипатетической философии от Фомы Аквинского от толкований Альберта Великого и его последователей. В сочинении «Главный вопрос о спасении Аристотеля» предлагал формальное признание философа «блаженным» (беатификацию). Среди других его работ — книга «Связи восьми книг “Физики” Аристотеля с учением Фомы Аквинского». Как бы консервативно это ни звучало, но даже он один стоит выше, чем вся философия Англии в это время, взятая вместе. И это только самые видные и основные схоласты! Конечно же здесь были и более банальные и выраженно мракобесные авторы, например Фома Кемпийский (1380-1471), автор трактата «О подражании Христу», одного из наиболее распространённых духовных произведений христианства. Фома Кемпийский представлял движение Devotio Moderna («новое благочестие») и в своей книге призывал к смирению, внутренней молитве и подлинно христианской жизни, свободной от внешней помпезности. Ну или теоретик оккультизма Иоганн Тритемий (1462–1516), автор «Steganographia» – мистического трактата о тайнописи, и хроники, прослеживающей историю церкви и империи. Тритемий, сочетавший средневековую эрудицию с интересом к магическим искусствам, повлиял на многих позднейших мыслителей-мистиков (например, Агриппу Неттесгеймского) своим взглядом на связь между наукой, магией и теологией. Но также он считается одним из пионеров криптографии (в «Steganographia» изложены методы шифрования), продолжая дело Альберти и предвосхищая более поздние разработки, так что и он сделал какой-то вклад в культуру Европы. Конечно же мистиков и консерваторов было гораздо больше, и отчасти они послужили причиной победы Реформации, течения в общем-то скорее консервативного. Но несмотря на это, было все же и нечто ещё, традиции философии, которые здесь не угасли, а наоборот получили второе дыхание.
Но гораздо лучше, чем в теологии, дела обстояли в сфере чистой науки. Здесь счёт выдающихся деятелей идет на десятки. И основным центром развития математики и астрономии становится Вена, та самая, куда из Парижа переехали ученики Оккама ещё в XIV веке. Возникшая ещё тогда астрономическая школа наконец дала результаты. Первым мы назовем здесь немецкого астронома, математика и гуманиста Иоганнеса фон Гмундена (1380-1442), магистра искусств в Венском университете. С 1408 года он читал лекции по «Физике» Аристотеля (1408) и «Метеорам» (1409, 1411), и «Пьетро Испанский» (1410). С 1412 года стал специализироваться по математическим предметам, перейдя на чтение геометрии по Евклиду, теории движения планет по «Альмагесту» Клавдия Птолемея и «Сфере» Сакробоско, теории шестидесятеричных дробей по собственному руководству. Кроме того, он читал курсы по теории и применению астролябий. Он составил трактат «О синусах, хордах и дугах» и две астрономические таблицы (1437, 1440). Судя по всему, даже был номиналистом в вопросе универсалий. В Чехии, бывшей в это время ядром Священной Римской Империи и находящейся в орбите немецкой культуры, тоже появляется немало выдающихся астрономов. Ян Шиндел (1370-1456), профессор Карлова университета в Праге и его ректор в 1410 году, читал лекции по математике и астрономии, а также был личным астрологом и врачом королей Вацлава IV Богемского и его брата императора Сигизмунда. Астрономические таблицы и карты Шинделя, как утверждается, использовались даже самим Тихо Браге. Ян питал особую любовь к астрономическим приборам, и основываясь на его предложениях и расчётах, Микулаш из Каданя построил пражские часы Орлой в 1410 году (см. картина выше). Кршиштян из Прахатиц (1370-1439), астроном, математик, врач и теолог, алхимик, педагог, а также ректор Карлова университета, был другом и учителем мятежного протестанта Яна Гуса. Важнейшие работы Кршиштяна — два астрономических труда по астролябии, «De composicio astrolabii» и «De utilitate (usu) astrolabii», которые получили признание во всем мире. Стал популярным в Богемии своими трудами по медицине, считался экспертом по лечению чумы и траволечению. Опубликовал на латинском трактат о кровопускании.
Во времена преподавания Гмундена в Вене формируется т.н. «первая математическая школа». Её главными представителями стали ученики Гмундена — Георг фон Пойербах (1423-1461) и Региомонтан (1436-1476). Оба они астрономы и математики. Георг также был поэтому и изготовителем инструментов. Он прославился упрощённым изложением птолемеевской астрономии в «Новых планетах». Пойербах сыграл важную роль в упрощении и доступности астрономии, математики и литературы для европейцев в эпоху Возрождения, и начал перевод «Альмагеста» Птолемея с греческого на латынь, но эта работа была завершена и опубликована только его учеником Региомонтаном в 1496 году. Сам же Региомонтан фигура особенной значимости, поскольку его работы, возможно, повлияли на гелиоцентрическую модель Солнечной системы, созданную Николаем Коперником, и, по-видимому, он принимал выводы древнегреческого астронома Аристарха Самосского. Основным математическим трудом Региомонтана было сочинение «О всех видах треугольников» (1464). Это был первый труд в Европе, в котором тригонометрия рассматривалась как самостоятельная дисциплина. Он посещал Италию, учился у местных астрономов и даже преподавал в итальянских университетах. Ученик Региомонтана (кстати, это псевдоним в подражание латинским авторам, настоящее его имя — Иоганн Мюллер), немецкий купец Бернхард Вальтер (1430-1504) был человеком с большими средствами, которые он посвятил научным исследованиям. Когда Региомонтан обосновался в Нюрнберге в 1471 году, они вместе работали над строительством обсерватории и типографии. После смерти Региомонтана в Риме в 1476 году Вальтер выкупил его инструменты. Он продолжал наблюдать за планетами до своей смерти в Нюрнберге. При наблюдениях Вальтер учитывал эффект астрономической рефракции. Его астрономические наблюдения являются самыми точными до времен Тихо Браге. А его дом, купленный в 1509 году Альбрехтом Дюрером (о нем дальше), сегодня является музеем. В то же время в Германии работали два крупных картографа. Николай Германус (1420-1490), который модернизировал «Географию» Птолемея, применив новые проекции, добавив дополнительные карты и внеся другие нововведения, которые оказали влияние на развитие картографии эпохи Возрождения; и Генрих Мартелл Герман (ок. 1420-1496), картограф, работавший во Флоренции с 1480 по 1496 год. Среди его сохранившихся картографических работ — рукописи «Географии» Птолемея, рукописи «Insularium illustratum» (атласа островов) и две карты мира, на которых впервые был показан проход вокруг южной оконечности Африки в Индийский океан. Его карты мира обобщают географические знания начала эпохи Великих географических открытий и «олицетворяют лучшее из европейской картографии конца XV века». Его также отождествляют с неким Арригио ди Федериго, автором первого перевода на немецкий язык «Декамерона» Боккаччо.
Уже в конце XIV века в Германии можно найти интересных врачей. Современник математика Гмундена — Амплониус Ратинг де Берка (1365-1435), кроме врачебной практики был также педагогом и коллекционером книг, на манер итальянских гуманистов. Амплоний получил степень магистра искусств в Пражском университете в 1387 году и начал изучать медицину в Кёльнском университете в 1391 году. Чуть позже получил докторскую степень в Эрфуртском университете и был избран ректором Эрфурта (там же школа номинализма, где учился Габриэль Биль). В 1395 году Амплоний отправился преподавать в Венский университет. В 1412 году Амплоний основал в Эрфурте новый колледж, Collegium Amplonianum, которому он передал в дар свою личную библиотеку, Bibliotheca Amploniana. Он составил каталог своей коллекции, в который вошли 635 томов, содержащих около 4000 произведений. Сегодня это часть городской библиотеки Эрфурта и крупнейшее сохранившееся собрание рукописей позднесредневековой Германии. Иоганнес Хартлиб (1410-1468), придворный врач из Баварии, написал сборник по травам около 1440 года, а в 1456 году книгу обо всех запрещённых искусствах, суевериях и колдовстве. Хартлиб также выполнил немецкие переводы произведений различных классических и средневековых авторов (Тротула, Макробий, Гильбертин, Мусцио). Иоганн Воннеке фон Кауб (1430-1503) немецкий врач и ботаник, составитель гербария (травника), который впервые появился в 1484 году под названием «Гербарий». Позже он вышел на верхненемецком языке как «Ortus Sanitas, или Сад здравия». Считается автором ранней печатной книги по естественной истории. Бартоломеус Метлингер (ок. 1430-1491 года) окончил Болонский университет и работал в нескольких немецких городах. Его самая известная работа, «Маленькая книга о детях», переименованная в более поздних изданиях в «Руководство по маленьким детям» была первой работой по педиатрии на немецком языке. В ней Метлингер рассматривает уход за младенцами и маленькими детьми до семи лет. В книге описывается несколько детских болезней и их лечение, а также даются советы по воспитанию. Она также содержит одно из первых известных письменных определений соски-пустышки. Эухариус Рёслин (1470-1526) написал книгу о родах под названием «Розовый сад», которая стала стандартным медицинским учебником для акушерок. В нее были включены гравюры Мартина Кальденбаха, ученика Альбрехта Дюрера. Таким образом, он впервые дал печатные иллюстрации родильного кресла, родильной палаты и положений плода в утробе матери. Книга имела мгновенный успех. В 1540 году она вышла на английском языке под названием «Рождение человечества». К середине XVI века она была переведена на все основные европейские языки и выдержала множество изданий.
Ученый гуманист, медик и историк Хартман Шедель (1440-1514) выучился медицине у лучших итальянских врачей Падуанского университета. Но наибольшую известность он получил как создатель «Нюрнбергской хроники» (1493) — уникальной работы по описанию городов и стран, богатой ксилографическими иллюстрациями и картами. Высокую оценку современников получила его собранная в Италии и в 1504 году описанная археологическая коллекция и собрание книг. Один из первых, кто тиражировал карты при помощи печатного станка. Иероним Бруншвиг (1450-1512) – хирург, алхимик и ботаник, который прославился своими методами лечения огнестрельных ранений, работами по методам дистилляции, приготовлением лекарств и лабораторными технологиями. Некоторые автобиографические заметки в «Книге хирургии» позволяют предположить, что Иероним получил образование в Болонье, Падуе и Париже, и он отлично знал труды всех современных врачей, арабских авторов и античных классиков, часто обращаясь к ним и даже критикуя, на основе личного опыта. Ганс фон Герсдорф (1455-1529) опубликовал в 1517 году «Полевую книгу хирургии» для военных врачей, содержащую инструкции по таким процедурам, как ампутация. Книга была проиллюстрирована гравюрами на дереве, приписываемыми Гансу Вехтлину. Иоганнес де Кетам был немецким врачом, жившим в Италии в конце XV века. О нём мало что известно, но многие считают его врачом, практикующим в Вене. Сегодня Кетам известен как автор монументального труда «Пучок лекарств», впервые опубликованного в Венеции в 1491 году. «Пучок лекарств» стал первой печатной книгой с анатомическими иллюстрациями. Книга представляет собой сборник кратких медицинских трактатов, отредактированных Кетэмом. Магнус Хундт, также известный как Партенополитан (1449-1519), философ, врач и теолог, который ввёл термин «антропология». Труд Магнуса Хундта «Antropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis» объяснял тело не только с анатомической и физиологической точки зрения, но также с философской и религиозной, утверждая, что люди были созданы по образу Божьему и представляют собой микрокосм мира, каким Бог его создал. «Antropologium» содержит 17 иллюстраций в виде гравюр на дереве, изображающих анатомию человека.
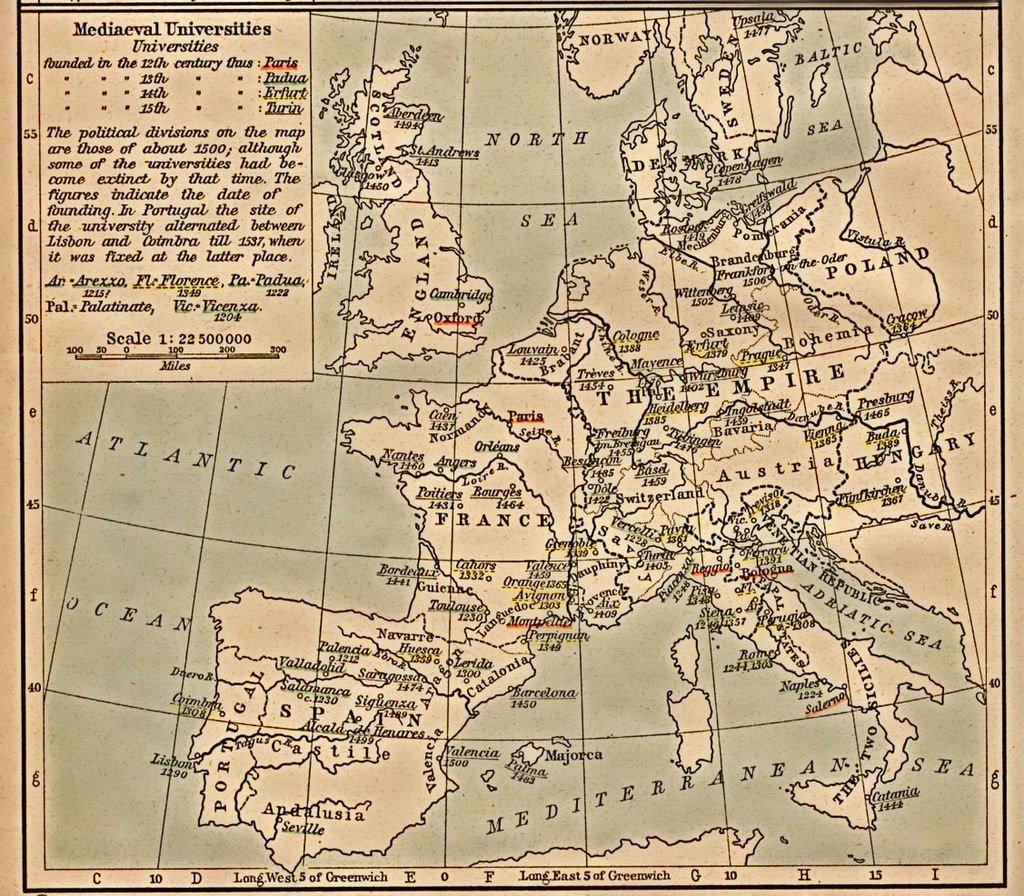
Астрономия, математика и картография в Германии представлены каким-то невероятным количеством авторов. После Региомонтана и Германуса эти отрасли представляли Иоганнес Толхопф (1450-1503), ставший придворным астрологом венгерского короля, и тогда же гуманизм итальянского типа активно распространяется в Венгрии. Иоганнес Энгель (1453-1512), врач, астроном и астролог из Айхаха, труды которого (по астрономии, описании чумы и т.д.) печатались даже в Венеции. Он опубликовал эфемериды небесных тел, основанные на таблицах Региомонтана, а его работами вдохновлялся Кеплер, и, возможно, Коперник. Эрхард Эцлауб (1455-1532), картограф, астроном, геодезист, изготовитель инструментов (карманных солнечных часов) и врач, среди карт которого есть даже специальная карта дорог Священной Римской Империи. Иоганнес Штёффлер (1452-1531) — математик, астроном, астролог, священник и профессор Тюбингенского университета. Занимался изготовлением астрономических инструментов, часов и небесных глобусов. Он вел оживлённую переписку с выдающимися гуманистами, например, с Иоганнесом Рейхлином, для которого он изготовил экваторий и составил гороскопы. Венцель Фабер фон Будвейс (1455–1518) был астрономом, астрологом, врачом и теологом из Богемии. Он был ведущим автором практических работ конца XV века, что сделало его одним из наиболее широко печатаемых авторов своего времени. Якоб Циглер (1470-1549) был гуманистом и теологом из Баварии. Он был странствующим учёным-географом и картографом, который вёл скитания по Европе. Известен своим критическим комментарием к «Естественной истории» Плиния. Ну и математик Иоганн Видман (1460-1505) получил известность тем, что первым употребил и опубликовал современные знаки плюса и минуса. А заслугой более позднего математика Адама Ризе (1492-1559) стало введение в Германии индо-арабской цифровой системы вместо латинских цифр и символов. Ризе впервые ввёл понятие математического действия с неизвестными величинами. Математика приобретает уже почти современную форму.
И это даже не часть знаменитого венского кружка математиков (!). А тем временем в Вене движение никуда не исчезло. Австрийский математик, астроном, теолог и гуманист Андреас Штоберль (1465-1515) как и многие другие, в знак приверженности классическим ценностям взял латинский псевдоним Стиборий. Он был членом венского кружка гуманистов, куда входили известные учёные Георг Таннштеттер (1480-1530), Иоганнес Стабий (1450-1522), Томас Реш (1460-1520), Иоганн Куспиниан (1473-1529) и реформатор Иоахим Вадиан. Многие члены кружка были приближёнными ко двору императора Священной Римской империи Максимилиана I, покровительство которого можно считать одним из важных элементов развития науки в Германии. В Вене Стибориус работал с Танштеттером, и вместе они стали наиболее выдающимися представителями «Второй венской математической школы» (первая была кружком вокруг Иоганна фон Гмундена, Георга фон Пойербаха и Региомонтана). Танштеттер в своем труде «Viri Mathematici» называет как Стабия, так и Стибория своими учителями. В качестве редактора Стиборий опубликовал в 1503 году издание книги оксфордского калькулятора Роберта Гроссетеста. Для издания Танштеттера «Tabulae Eclypsium…», которое было опубликовано в 1514 году и содержало таблицы затмений Георга фон Пейербаха и таблицы primi mobilis Региомонтана, Стиборий написал два предисловия. Стабий также прославился как картограф, разработавший около 1500 года сердцевидную проекцию, позднее доработанную Иоганном Вернером (1468-1522). Этот последний тоже создавал инструменты для наблюдений, но больше всего прославился переизданием трудов Птолемея и созданием картографической проекции Вернера, пользующейся огромной популярностью до создания современной проекции Меркатора.
Хорошо всё было и с инженерным знанием в Германии. Не говоря уже о том, что им просто практически необходимы были такие знания, чтобы разрабатывать рудники в Австрии и Швейцарии, из-за чего в Германии возникла сильная школа инженерного дела, некоторых мыслителей специально поддерживали императоры для использования их знаний в военном деле. Конрад Кейзер (1366-1405) – немецкий военный инженер и автор книги «Bellifortis», посвящённой военной технике и пользовавшейся популярностью на протяжении всего XV века. Первоначально задуманная для короля Вацлава, работа была посвящена Кейзеру Руперту II Немецкому. Темы глав этой книги включают автомобили, осадные машины, гидравлические двигатели, подъёмники, огнестрельное оружие, оборонительное оружие, фейерверки для войны, фейерверки для развлечения и вспомогательные инструменты. Водолазный костюм, представленный в книге, имеет прецеденты, восходящие к XII веку и временам Роджера Бэкона. В книге также содержится самое раннее из известных изображений пояса верности. Кейзер относит artes magicae к механическим искусствам, и его труд содержит различные примеры применения магии в военном деле. Известно также, что у него было десятки подражателей в XV веке, а один из немецких инженеров, Йоханнес Грант, даже помогал византийцам во время осады Константинополя в 1453 году. Не стоит также забывать и о главном изобретении в масштабах всей Европы. В середине XV века Иоганн Гутенберг (1400-1468) разработал технологию печати подвижными литерами и уже в 1455 г. издал первую печатную Библию. Распространение книгопечатания произвело информационную революцию в Европе на рубеже XV–XVI вв., способствуя быстрому распространению гуманистических идей, Реформации и научных знаний. Правда, хотя Германия и стала пионером печатного дела, уже к 1480-м годам одним из самых крупных центров книгопечатания во всей Европе станет Венеция, и даже немцы часто будут выпускать свои книги в Италии. Отдельно проставился Иоганн Георг Фауст (1480-1541), немецкий странствующий алхимик, астролог и маг эпохи немецкого Возрождения. Его часто называли мошенником и еретиком. Доктор Фауст стал предметом народных легенд вскоре после своей смерти, которые передавались в виде брошюр , начиная с 1580-х годов, и были адаптированы Кристофером Марло в качестве трагического еретика в его пьесе «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста» (1588–1592). Традиция «Фаустбух» сохранялась на протяжении всего раннего Нового времени, и легенда была вновь адаптирована в драме Гёте «Фауст» (1808), музыкальном произведении Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста» (премьера 1846) и симфонии «Фауст» Ференца Листа 1857 года.
Что же до собственно литераторов, которых здесь также было немало, и которым изобретение печатного станка очень помогло стать по настоящему массово популярными, то крупнейшими из десятков авторов стали Освальд фон Волькенштейн (1376-1445), последний крупный поэт-миннезингер Германии, что оставил более 130 песен и стихов на средневерхненемецком языке – от любовной лирики до остроумных сатирических песен. Или Конрад Цельтис (1459-1508) – поэт-гуманист, известный как «германский Архигуманист». Цельтис основал в Вене гуманистическое общество Sodalitas Danubiana (Дунайское содружество) и по итальянскому образцу пропагандировал изучение антиков и национальной истории. Ему принадлежат патриотические латинские оды («Любовные песни», «Стихи о Германии»), а также издания древних текстов (он открыл поэму «Германия» Тацита, сочинения монахини Гросвиты и др.). Перед читателем его произведений Цельтис представал в разных, мало согласованных обличьях: то как восторженный поклонник античной классики, то как сторонник обновлённого христианского благочестия, окрашенного в тона неоплатонизма, то как апологет древней, якобы исконно германской, но во многом созданной богатым поэтическим воображением самого Цельтиса «религии друидов». Проще говоря, это как местная версия Марсилио Фичино. Ну и самым знаменитым стал сатирик Себастиан Брант (1457-1521), известный своей аллегорической поэмой «Корабль дураков» (1494), высмеивающей пороки общества. Это произведение, изобилующее гравюрами, имело огромный успех по всей Европе и считается одной из вершин позднесредневековой литературы. К слову, в его тексте в почти комплиментарном духе упоминается Эпикур. Брант также издавал труды отцов церкви и римских классиков, способствуя распространению гуманистических знаний.
Одним из самых знаменитых немецких гуманистов стал Иоганн Рейхлин (1455-1522) знаток древних языков, изучавший Тору. Он ввёл систематическое изучение древнееврейского языка в европейское гуманистическое образование и стал на защиту еврейских книг от сожжения. Рейхлин был политическим советником и учёным-лингвистом, его труды по фонетике и «Рудименты иврита» (1506) заложили основу христианской каббалистики. Он прославился своим публичным спором (1510-е гг.) с противниками еврейской литературы, оказав влияние на зарождение толерантности в эпоху Реформации. Между прочем, в Италии даже подружился с мракобесом Пико делла Мирандолой. Из многочисленных скульпторов, художников и архитекторов Германии центральной фигурой является Альбрехт Дюрер (1471-1528), один из лучших граверов в истории Европы. Хотя его творчеству предшествовали многие известные авторы. Например, Штефан Лохнер (1410-1451), ведущая фигура Кёльнской школы живописи. Конрад Виц (1400-1446), один из первых немецких художников, кто изображал реалистичные пейзажи и водную поверхность. Ни один гуманист Италии того времени даже близко не стоит рядом с Вицом в плане изображения пейзажей, и мало кто сможет конкурировать с ним даже в следующих поколениях. Ханс Мульчер (1400-1467) был одним из ведущих мастеров Ульмской школы. Он был новатором, который отошёл от «мягкого стиля» готики к более реалистичному и строгому изображению человеческих фигур и эмоций. Он работал как с камнем, так и с деревом, а также занимался живописью. Мартин Шонгауэр (1448-1491), один из самых влиятельных гравёров Северной Европы до Альбрехта Дюрера. Его работы распространялись по всей Европе и вдохновляли многих художников, включая молодого Микеланджело. Михаэль Пахер (1435-1498), сочетавший в своих работах принципы немецкой поздней готики и итальянского Возрождения, особенно в использовании перспективы. Он создавал сложные резные алтари, в которых скульптура и живопись были неразрывно связаны. Фейт Штосс (1447-1533), одним из крупнейших скульпторов поздней готики. Его стиль характеризуется экспрессивностью, драматизмом и детализированной проработкой фактур, особенно в резьбе по дереву. Реализм в лицах слабый, но в целом это не хуже школы Донателло в Италии. Несколько лучше в плане реализма оказались работы Тильмана Рименшнайдера (1460-1531), одного из самых плодовитых и успешных скульпторов своего времени. Никлас Герхарт ван Лейден (1430-1473) считается мастером психологического портрета в скульптуре. И само собой, это далеко не всё. Но ничего подобного мы не видим ни во Франции (за всего несколькими исключениями), ни в Англии. Вообще в Германии, под влиянием Нидерландов, возникает альтернативная версия ренессансного стиля, основанная на традициях готики, но с использованием новых итальянских методов, что в итоге дало нам реалистический стиль в живописи, с мрачными тонами, обыденными сюжетами и отказом от идеализации образов. Собственно Нидерландскую культуру уже стоило бы рассматривать отдельно от немецкой, так что всю голландскую живопись мы уже не будем относить к немецкой, и рассматривать её в этом цикле. Отметим только, что с нашей точки зрения, искусство Нидерландов с её тягой к реализму стоит выше, чем итальянский классицизм.
Ну и последнее, что здесь стоит упомянуть, забегая несколько вперед, что именно в немецкой культурной сфере, под влиянием всего этого многообразия развитой науки, сформируется польский астроном Николай Коперник (1473-1543), чьи достижения даже не нуждаются в описании, и величайший гуманист этого периода после Лоренцо Валлы и Леонардо да Винчи — Эразм Роттердамский (1466-1536). Этот голландский философ, мыслитель, теолог, библеист, писатель, переводчик и педагог, прозванный «князем гуманистов», подготовил одно из изданий греческого оригинала Нового Завета с комментариями, положил начало мирскому критическому исследованию текста Священных писаний, как следующий шаг после работ Валлы. Он способствовал возвращению в культурный обиход литературного наследия античности, и как Валла — писал преимущественно на латыни. Снискав всеевропейскую славу свободолюбивыми взглядами, Эразм не принял Реформацию и в конце жизни остро полемизировал с Лютером по поводу доктрины свободы воли (которую многие протестанты ставили под сомнение). Как и Валла, которого Эразм отлично знал, и иногда упоминал с похвалой, он тоже симпатизировал эпикурейской философии, пытался создать некий синтез Эпикура и христианства, и часто обвинялся в эпикуреизме своими соперниками, в том числе Мартином Лютером. Его любимым античным автором был кинико-эпикурейский сатирик Лукиан, а взгляды самого Эразма по многим частным вопросам, таким как война, добродетель и т.д. полностью совпадают с типичным эпикурейским мировоззрением. В конце XV века трудно найти хотя бы ещё кого-то настолько порывающего с классическим платоно-стоическим мировоззрением (разве что Леонардо). И без всякого резюме тут становится понятно, что Германия не просто не уступает Италии, но уже даже опережает итальянцев во множестве сфер культуры. Но эта положительная динамика вскоре серьезно затормозится благодаря строго консервативной и аскетической идеологии Мартина Лютера (1483-1546), победа которого была завоевана только в результате многолетних и жестоких религиозных войн, не так сильно затормозится, как Англия или Франция в XV веке, но все же, заметно. Кто знает, какой бы могла стать Германия XVIII века, если бы не этот процесс культурной реакции.

Испания
Испания, которая раньше была отсталой окраиной Европы, и лишь изредка блистала прорывами в духе Толедской школы переводчиков, в XIV веке уже показала заметную связь с итальянским гуманизмом на уровне художественной литературы. В целом же Испания все равно оставалась стабильным аутсайдером Европы. Но теперь, когда Франция и Англия вдруг потеряли большую часть своей культуры, у Испании появился шанс. Если в Германии крупнейшим достижением стало изобретение печатного станка, то в Испании это было, само собой, открытие Америки и новой эпохи колонизации. Но это случится уже ближе к концу рассматриваемого нами периода. Сливки Испания будет снимать только потом. На самом деле активное исследование берегов Африки вплоть до экватора началось ещё в XIV веке и активнее всего поддерживалось впоследствии португальцами. Счет известных португальских мореплавателей XV века тоже идет на десятки, причем большинство их них были работорговцами, и активно завозили чернокожих рабов в Европу. Уже они заложили фундамент для испанских открытий. Но из всей массы этих мореплавателей самым знаменитым стал Васко да Гама (1460-1524), обогнувший Африку и установивший устойчивый морской путь в Индию, сделавший не нужным посредничество мусульман Ближнего Востока (и, косвенно, также итальянцев). Чтобы обеспечивать такое новое направление в жизни Европы, не достаточно одного только интереса к открытиям. Для этого нужно было передовое кораблестроение, т.е. развитое инженерное дело. Не каждая страна могла себе позволить корабль, способный пересекать океаны. Крупнейшим испанским исследователем стал, само собой Христофор Колумб (1451-1506), открывший Америку в попытке найти ещё более короткий путь в Индию. До этого происходит и расширение знаний про Азию, например из испанцев Руи Гонсалес де Клавихо (ок. 1350-1412) служил послом в империи Тимуридов в 1403-1404 годах; он прошёл вдоль черноморского побережья Турции до Трабзона, а затем по суше через Армению, Азербайджан, Иран и Туркменистан в Узбекистан, посетив в процессе город Тегеран, что позже было записано и опубликовано как очередная книга о путешествиях. В 1436 году начинается путешествия Педро Тафура (1410-1484) по Ближнему Востоку, а в 1487 году португальский исследователь и шпион Перу да Ковильян (1460-1524) отправляется на Ближний Восток и в Индию по приказу короля Португалии, чтобы собрать информацию, необходимую для успешного установления морского пути между Португалией и Индией, чем и воспользуется позже Васко да Гама. А кроме них существовало ещё десятки различных мореплавателей-предшественников, которых мы не станем упоминать здесь, не говоря уже про аналогичных деятелей родом из Италии. Ну а теперь обратимся к самому началу и посмотрим, как выглядела культурная жизнь Испании (и Португалии) XV века.
Во-первых, в обеих странах, которых мы будем совокупно называть испанскими (хотя правильнее было бы называть их иберийскими), всё ещё огромную роль играли евреи и остатки высокой арабской культуры и науки. Ближе к моменту открытия Америки короли Португалии и Испании начнут массовые гонения и террор против евреев, из-за чего лучшие умы страны покинут её. Но это будет потом, а пока пройдемся по основным деятелям. Испанский раввин, философ и проповедник XV века Йосеф Альбо (1380-1444) хорошо знал математику, медицину, был знаком с христианской теологией. Он был в числе арагонских раввинов, участвовавших в религиозном диспуте 1413-1414 годов в Тортосе, в присутствии папы Бенедикта XIII, с отпавшим от еврейства раввином Иосуа Алорка, носившим в христианстве имя Жеронимо де Санта Фе (ок. 1380-1450), который доказывал правоту христианства при помощи ссылок на Талмуд. Йосеф Альбо известен, главным образом, как автор многократно переиздававшегося сочинения об основах иудаизма «Корни» (1425). Иногда Альбо называют «первым еврейским мыслителем, имевшим мужество согласовать философию с религией и даже отождествить их». Цель жизни видел в необходимости стремления человека к самоусовершенствованию и этим путём достижения вечного блаженства, и этим отчасти напоминает итальянских гуманистов того же времени. Но всё же уровень дискурса уже здесь понятен — это неплохо для XIII века, но уже несколько архаично для XV-го. За несколько веков Испания сохранила лучшие достижения прошлого, но не заметно, чтобы эти достижения как-то развивались дальше. До сих пор в Испании продолжали работать множество математиков, врачей и астрономов, таких как Исаак ибн ал-Хадиб (1350-1426). Известен ещё картограф из Мальорки Иегуда Крескес (1350-1427), положивший основание новейшей картографии своей «Каталонской картой» (1375), на которую были занесены результаты открытий Марко Поло в Азии. Он один из основателей Мальоркской картографической школы, которая насчитывает около 20-ти географов в XV веке. Представители этой школы создавали максимально точные морские карты (портоланы) Европы, и большая часть из этих ученых имели еврейское происхождение. Позже мы находим таких людей, как Ицхак бен-Иегуда Абрабанель (1437-1508) — еврейский учёный, комментатор Танаха и государственный деятель из Португалии (позже бежал в Испанию, где застал гонения и вынужден был бежать ещё дальше в Италию). Он писал также комментарии к Маймониду, но главным образом прославился тем, что был отцом Иехуды Абрабанеля (1460-1523), поэта и философа-неоплатоника. Вторую половину своей жизни он провёл в Италии. Автор «Диалогов о любви», переведённых на испанский язык Инкой Гарсиласо де ла Вега и оказавших в своё время влияние на испанских мистиков. Исаак бен Моше Арама (1420-1494) — испанский раввин и писатель, что помимо толкований Торы занимался также толкованиями Маймонида и развивал около-мистические идеи из каббалы. Его теория подобна теории Александра Афродисийского, согласно которой душа — это «форма» органического тела, но Арама пытается подкрепить её Талмудом и Каббалой. С другой стороны мы находим не только мистиков. Еврейский аверроист и аристотелик Авраам бен Шем Тов Бибаго (1420-1489) верил в объединение философии, науки и веры, защищал Маймонида от критики справа, и известен двумя работами: «Путь веры», в защиту иудаизма, и «Комментарием к метафизике Аристотеля». А философ Элайджа бен Джозеф Хабилло в основном занимался переводом схоластов (Фомы и Оккама) на иврит. Трудно сказать, какая из еврейских общин к этому моменту лидировала в плане философского развития, испанская или провансальская, но во всяком случае в Испании удерживается неплохой уровень.
Известный астроном Авраам бен Шмуэль Закуто (1450-1515) первый сконструировал металлическую астролябию, позволявшую дать более точные измерения, чем деревянная. Васко да Гама советовался с Закуто перед своим историческим плаванием в Индию, и вообще многие мореплаватели с уважением относились к работам этого астронома. И все же, Закуто пережил изгнание евреев из Испании и Португалии, окончив свои дни в Иерусалиме или Дамаске. Другой португальский еврей Жозе Визинью (ок. 1460-1540), придворный врач и учёный конца XV века, был учеником Авраама Закуто, и считался авторитетом в вопросах космологии, математики и географии при короле Португалии Жуане II. В 1483 году король отправил его в Гвинейский залив для измерения высоты солнца с помощью астролябии. А при отправке Колумба в Америку Визинью был одним из тех, кто оценивал реалистичность его плана по достижению Индии. Ицхак бен Моше Эли ха-Сефаради был испанским математиком еврейского происхождения, написавшим введение к Евклидовой геометрии и также переживший изгнание евреев из Испании, после чего жил, вероятно, в Стамбуле. Авраам из Лериды (ок. 1420-1480) был еврейским врачом, хирургом и астрологом. Он провёл операцию по удалению катаракты на правом глазу короля Хуана II Арагонского, а затем с таким же успехом провёл операцию и на левом глазу. Если говорить про чисто арабский мир, то до конца XV века в Испании арабы ещё контролировали Гранаду, где и работал Аль-Каласади (1412-1486), специалист по исламскому наследственному праву, который написал «Снятие покрывала с науки цифр губар», «Канон арифметики», «Разъяснение биномиалей», ряд трактатов о разделе наследства. Аль-Каласади сделал попытку ввести в исламскую математику символическую алгебраическую нотацию. Так что в целом хорошо видно, что Испания не была бедна математиками. Это конечно не самый передовой уровень, как в Италии и Германии, но всё же намного лучше, чем ситуация во Франции и Англии.
На христианской стороне мы находим Раймунда де Сабунде (1385-1436), который стремился примирить противоречия между природой или разумом и Библией, причём приближался к мистике. В своём сочинении Liber creaturarum seu theologiae naturalis (Страсбург, 1496) он представил целую систему учения церкви. Он утверждал, что книга природы и Библия являются божественными откровениями; первая — общее и непосредственное, вторая — особое и опосредованное. Его книга так понравится Мишелю Монтеню спустя столетие, что тот даже переведет её на французский язык. Чуть позже появляется Алонсо Тостадо (1410-1455), богослов и советник Иоанна II Кастильского. В его эпитафии говорилось: «Чудо земли, все, что люди могут знать, он изучил». Его часто записывают в гуманисты из-за того, что он предлагал текстологическую критику Библии (в духе Эразма и Валлы), но насколько он умен, можно судить хотя бы по тому, что его считают одним первых теоретиков колдовства; в своей работе «De Maleficis Mulieribus, Quae vulgariter dicuntur bruxas» (1440 г.) Алонсо защищал возможность летающих ведьм, основываясь на библейской экзегезе. По сути, вся его заслуга перед человечеством только в том, что он писал сочинения оспаривающие власть Папы над церковью, чем приближался к обыкновенным еретикам-реформаторам, коих уже и раньше по всем странам Европы было бесчисленное множество. Не удивительно, что и его ученик Педро Мартинес де Осма (ок. 1430-1480) писал сочинения в духе Уиклифа и Яна Гуса против индульгенций. К слову, он был томистом и выступал против номинализма в философии. Писал также комментарии по этике и метафизике, и сделал вклад в реформу программы Саламанкского университета, включив в неё физику и метафизику Аристотеля. Богослов и историк Хуан де Сеговия (1395-1458) известен как автор обширных трактатов, пропагандировавших идею согласия и компромисса во время церковного Раскола. После Базельского собора Сеговия посвятил себя диалогу с исламом: переводил Коран на латинский и написал трактат «De gladio divini spiritus», где призывал к теологическому спору с мусульманами вместо насилия. Даже официальный придворный священник Франсиско Хименес де Сиснерос (1436–1517), и тот прославился, как инициатор проекта по критическому изданию Библии на латинском, греческом и еврейском языках, чем немало способствовал критическому изучению текстов Библии.
Эдуард Король-философ (1391-1438) из Португалии считается очень либеральным правителем для своего времени, он не менее пяти раз созывал португальские кортесы (национальное собрание) для обсуждения политических дел своего королевства. В отношении морских исследований Африки он поощрял и финансировал своего знаменитого брата, Генриха Мореплавателя. Он увлекался литературой и написал несколько работ, таких как «Верный советник» и «Книга по обучению умелой верховой езде в любом седле». «Верный советник» считается первым сочинением по этической философии в Португалии и памятником дидактической прозы португальской литературы. Его дочь Инфанта Катарина (1436-1463) тоже была автором множества книг по морали и религии, и прекрасно знала латынь и греческий язык. В следующем поколении мы также находим при дворе знатную поэтессу по имени Филипа де Алмада (1453-1497), в то время как в Испании Эстефания Каррос-и-де-Мур (1455-1511) была известным педагогом, которая основала светскую школу для девочек из дворянского и бюргерского сословий в Барселоне. Ее инициатива была необычной для ее времени — в этот период школы для девочек обычно были монастырскими школами. Ее, очевидно, уважали в школе, и у нее была обширная сеть коллег и сторонников среди женщин. С одной сторона Эстефания проповедовала ценность ответственной свободы каждой женщины выбирать свою судьбу, но с другой — она была мракобесом и мистиком, объявившей целибат и аскетический образ жизни.
Фернандо де Кордова (1421-1486) был испанским теологом и философом, что путешествовал по Европе в 1444–1446 годах, поражая слушателей публичными диспутами и демонстрируя эрудицию. Он получил образование в Университете Саламанки. В философском отношении он был платоником и реалистом в отношении универсалий. В теологическом отношении он был скотистом. Перед тем, как покинуть Испанию, он тщательно выучил наизусть труды Августина Блаженного, Аверроэса, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Александра Галльского, Бонавентуры и Иоанна Дунса Скота. Самое раннее достоверное свидетельство пребывания Фернандо в Италии содержится в письме Лоренцо Валлы, датированном Неаполем 25 июля 1444 года. Обращаясь к королю Альфонсо Великодушному, Валла восхваляет Фернандо за мастерство в искусствах, праве, медицине и теологии, которое он продемонстрировал в трёхдневных дебатах. Поджо Браччолини утверждал, что Фернандо спас Валлу от инквизиции в Неаполе, хотя Валла это оспаривал. На какое-то время он впал в безвестность, пока не появился вновь во время спора о наследии Платона и Аристотеля в 1466 году. Это всё ещё консервативная в целом философия, но уже гораздо лучше, чем было столетием раньше, и в принципе даже немного лучше, чем в Англии того же времени. Испанская философия уже может конкурировать с деградировавшей французской на равных.
Что же до христианских врачей и математиков, то тут можно вспомнить разве что математика Рамоса де Пареха (1440-1490), теоретика музыки и композитора, прошедшего обучение в Италии. Его единственное сохранившееся произведение – это канонический латинский трактат «Musica practica». Хуан Альменар (ок. 1470-1540) автор одной из первых книг о сифилисе «De lue venerea sive de morbo gallico» (Венеция, 1502). Ну а Диего Альварес Чанка (1463-1515) был врачом, сопровождавшим Христофора Колумба во время его второго путешествия. Чанка был лейб-медиком Фердинанда и Изабеллы, благодаря чему он и познакомился с Колумбом. Испанская корона назначила его сопровождать вторую экспедицию Колумба в Америку в 1493 году. Вскоре после высадки на Эспаньолу Колумб и некоторые члены его экипажа заболели малярией, которую Чанка успешно вылечил. Это хотя бы кое-что, хотя найти такое же количество ученых, как в еврейской традиции, становится проблематично. В целом, несмотря на преобладание консерватизма, какие-то нотки гуманизма все же ощущаются в Испании. Прошлый раз единственной сферой, где была видна струя гуманизма из Италии, была литература. Теперь это касается большинства сфер культуры. Но и литература Испании всё ещё продолжает держать неплохой уровень. Как и в других странах, у нас появляются фигуры богатых меценатов. Например, Маркиз де Сантильяна (1398-1458), политический деятель при дворе короля Хуана II и один из самых образованных испанцев XV века. Он собрал огромную библиотеку и покровительствовал искусствам. Сантильяна ввёл моду на сонет в Испании, писал утончённые пасторали («Серранильи» – 10 горных песен) и аллегорические стихи, а в знаменитом «Прологе» к своим «Сочинениям» (1444) дал первый образец литературной критики на испанском языке. Сантильяна был большим поклонником Данте, и его произведения могут быть отнесены к дантово-аллегорической школе. В этом стиле написана исп. «La Comedieta de Ponza», драматическая поэма в октавах посвящённая морскому сражению при Понса. Он также усвоил гуманизм Петрарки и Джованни Боккаччо, первым начав писать сонеты на кастильском языке. Сантильяна считается одним из первых историков испанской литературы и автором первой испанской поэтики «Предисловие и послание к коннетаблю дону Педро Португальскому».
В это время в Испании творит Энрике де Вильена (1384-1434) – учёный-энциклопедист, поэт и переводчик. Представитель старой аристократии (родственник королей Арагона), Вильена прославился как «испанский Вергилий» за свою учёность. Он перевёл на кастильский язык «Божественную комедию» Данте, труды Цицерона и Верлигия, написал пересказ мифов о Геракле, трактаты по алхимии и астрологии, а его трактат «Искусство поэзии» стал первым эстетическим трактатом на испанском. Несмотря на репутацию мага (инквизиция после смерти сожгла часть его книг), Вильена внёс вклад в формирование испанского научного и поэтического языка. Маркион де Сантильана Гомес Манрике (1412-1490) – поэт, драматург и государственный деятель, считается одним из первых испанских драматургов: ему приписывают религиозные мистерии (предшественницы испанского театра) – например, «Представление о Делах религии». Правда, таких деятелей к тому моменту уже было много по всей Европе. Как поэт, писал гражданскую лирику и сатиры, обличавшие беззакония. Его стихотворное «Послание к падшей Кордове» – ранний образец патриотической поэзии, а письма в стихах, адресованные королеве Изабелле, свидетельствуют о росте политического самосознания испанского дворянства на пороге нового времени. Хуан де Мена (1411-1456) – королевский хронист и поэт при дворе Хуана II. Его главное произведение – эпическая поэма «Лабиринт Фортуны» (1444), патриотическое аллегорическое видение о судьбе Испании. Мену высоко ценили современники за классическое образование: в его стихах ощутимо влияние Данте и латинских классиков. Поэма Мены, насыщенная латинизмами и мифологическими образами, расширила выразительные возможности кастильского языка и оказала влияние на последующих испанских поэтов Ренессанса. Хорхе Манрике (ок. 1440-1479) – воин и поэт, автор знаменитого стиха «Коплас о смерти отца» (1476) – элегии на смерть Родриго Манрике. Эти «Стансы» стали хрестоматийным произведением испанской литературы, где размышляется о скоротечности жизни и посмертной славе. Хорхе Манрике происходил из знатного рода (был племянником маркиза де Сантильяны) и пал в бою. Его «Коплас» доныне читаются как образец изящной простоты и глубины чувства, а строчка «всякая жизнь проходит» вошла в пословицы. Антонио де Небриха (1441-1522) – филолог-гуманист и первый великий испанский грамматист. В 1492 году он издал «Грамматику кастильского языка», отметив в предисловии королеве Изабелле, что «язык – это инструмент империи». Небриха также составил латинско-испанские и испанско-латинские словари и ввёл в Испании методику изучения латыни, основанную на итальянском гуманизме. Его труды по языкознанию стандартизовали кастильский язык и заложили основы испанской филологии.
Из литераторов крупнейшим в Испании считается Фернандо де Рохас (1465-1541) – писатель-драматург, чьё имя связывают прежде всего с книгой «Селестина», ставшей одним из величайших произведений испанской литературы на рубеже Средневековья и Ренессанса, и самой популярной книгой в Испании до появления «Дон Кихота». Других сочинений он при этом не оставил. Эта книга сочетает традиции любовных романов, фаблио и гуманистической любви к аллегориям и отсылкам на античность. Аналогично огромной роли Томаса Мелори в Англии, такую же роль для поздних рыцарских романов сыграл Гарси Родригес де Монтальво (1450-1505), автор романа «Амадис Галльский», повествующего о далеком прошлом, про предшественников короля Артура в Англии. Тем временем в драматургии прославился португалец Жил Висенте (1465-1536), прозванный Трубадуром. Он играл и ставил собственные пьесы и считается главным драматургом Португалии. Иногда его называют «португальским Плавтом», и часто упоминают как «отца португальской драмы» и одного из величайших драматургов западной литературы. Висенте также известен как лирический поэт, писал на испанском языке так же много, как и на португальском, и поэтому, наряду с Хуаном дель Энсиной (1468-1530), считается одним из отцов испанской драмы.
Португальская живопись в основном напоминает немецкую и голландскую (см. такие художники, как Жорже Афонсу, Вашку Фернандиш, Нуну Гонсалвеш, Кристован де Мораиш), реже видны нотки влияния из Италии (Альваро Пиреш де Эвора). Испанская живопись в общем-то тоже, хотя скульптура визуально напоминает примеры из Франции. Всего художников в Испании XV века около пятидесяти только из известных. Мы назовем только некоторых. Например подражателей немецкого стиля: Хуан де ла Абадиа, Луис Алимброт, Бартоломе Бермехо (крупнейший представитель), Мартин Бернат, Педро Берругете и ещё многие другие. Итальянскому стилю подражали немногие художники, например Алонсо Берругете, Висенте Масип, Хуан де Хуанес, Хуан де Боргонья или Фернандо Яньес де ла Альмедина (крупнейший представитель, копирующий стиль Леонардо). И то, это примеры, уже заметно выходящие за наши временные рамки, единственный кто не выходит за них, это ученик итальянца Гирландайо — Антонио дель Ринкон. В обоих случаях подражания эти были более-менее неплохие, и их в любом случае гораздо больше, чем в Англии или Франции того же времени. И если, как в примерах раньше, забегать немного вперед, то уже в следующем поколении, начала XVI века, в Испании появляются гуманисты первой величины, например такие, как Луис де Вивес (1492-1540) – испанский гуманист, философ и педагог, автор трудов по психологии, логике и политике. Не просто сторонник аристотелизма, но также друг Томаса Мора и Эразма Роттердамского.

Итоговые выводы: смена центров и заря Нового времени
Проделав немалую работу по систематизации более чем 750 имен, мы создали панораму интеллектуальной жизни Европы на протяжении почти четырех столетий. Наша цель состояла не просто в том, чтобы составить «шпаргалку», но и в том, чтобы проследить динамику культурного развития, выявить его движущие силы и оспорить устоявшиеся мифы. В XIV веке именно Франция и Англия были безусловными локомотивами европейской мысли. Парижский университет с его школой номинализма (Буридан, Орем) и Оксфорд с его эмпириками (Оккам) и «калькуляторами» задавали тон всей интеллектуальной жизни. Однако в XV веке обе державы входят в полосу глубокого кризиса, вызванного Столетней войной и внутренними конфликтами (Война Алой и Белой розы). Результатом стал резкий культурный регресс. Великие философские школы исчезают, уступая место консервативной теологии и схоластике XIII века. Интеллектуальная жизнь замирает, и к концу столетия обе страны оказываются на периферии европейского прогресса, лишь поддерживая литературные традиции прошлого (Вийон, Мелори) и робко усваивая итальянские гуманистические веяния. Это было по-настоящему потерянное столетие для бывших лидеров.
Италия, без сомнения, явила миру культурный взрыв невероятной силы. В литературе, живописи, скульптуре и архитектуре она достигла высот, которые стали эталоном для всей Европы. Именно здесь зародился гуманизм как широкое светское движение, а такие фигуры, как Лоренцо Валла и Леонардо да Винчи, продемонстрировали вершину критической и научной мысли. Однако было бы ошибкой идеализировать итальянское Возрождение. В чисто философском плане оно часто оказывалось шагом назад даже по сравнению с XIV веком. На смену радикальному номинализму и аверроизму пришел респектабельный стоико-платонический консерватизм (Бруни, Альберти), а затем и откровенное мракобесие в лице неоплатонической академии Марсилио Фичино и мистики Пико делла Мирандолы. Их деятельность, по сути, реабилитировала самые иррациональные течения античной мысли, подготовив почву для фанатизма Савонаролы. Таким образом, Италия была ареной борьбы двух тенденций — прогрессивной, научно-рационалистической, и реакционной, мистико-идеалистической, и далеко не всегда побеждала первая.
Самым поразительным феноменом XV века стал взлет Германии. Страна, которая веками считалась культурной окраиной, совершила невероятный рывок, к 1500 году обогнав по многим параметрам даже Италию. Именно здесь произошла технологическая революция, определившая ход всей мировой истории — изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. На немецких землях формируются мощнейшие научные центры. Венская школа астрономии и математики (Пойербах, Региомонтан) становится ведущей в Европе, закладывая фундамент для открытий Коперника. Немецкие инженеры, врачи, картографы и гуманисты создают работы мирового уровня. Немецкое искусство, представленное гением Альбрехта Дюрера и множеством других мастеров, формирует собственный, «северный» путь Ренессанса, основанный на готическом реализме. Хотя здесь уже выделяется отдельный кластер, культура Нидерландов на стыке Германии и Франции. В итоге, к концу XV века именно Германия, а не Италия, становится главным центром научного и технологического прогресса. Испания, как и Германия, долгое время находилась в роли догоняющей. Однако к XV веку, завершив Реконкисту и объединившись, она накапливает огромный потенциал. Сохранившееся наследие еврейских и арабских ученых обеспечивает ей высокий уровень в математике, медицине и, что особенно важно, в картографии и навигации. Литература, впитавшая итальянские влияния, создает шедевры национального масштаба («Селестина»). Все это, помноженное на передовые инженерные достижения в кораблестроении, позволило иберийским монархиям инициировать эпоху Великих географических открытий. Открытие Америки Колумбом и путь в Индию Васко да Гамы не были случайностью — они стали итогом долгого накопления знаний и технологий. К концу XV века Испания превращается из европейской периферии в первую глобальную державу, готовую диктовать свою волю всему миру. Таким образом, XV век — это не просто «итальянское Возрождение», а эпоха кардинальной смены культурных и технологических лидеров. Пока старые центры (Франция, Англия) стагнировали, на передний план вышли новые — наукоемкая и технологичная Германия и готовая к глобальной экспансии Испания. Италия же, при всех ее гениальных прорывах в искусстве, в интеллектуальном плане оказалась во власти глубоких противоречий, которые будут преодолены лишь в следующем, XVI веке. Именно эта сложная и динамичная картина, а не упрощенная схема «возрождения античности», и стала настоящей колыбелью Нового времени.
