
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Версия на украинском и английском языках
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
Латиноамериканский позитивизм
Это переведенная в формат статьи серия заметок из Telegram. Она не претендует на какую-то новизну, и во многом базируется на данных из Википедии. Тем не менее, мы публикуем это здесь, чтобы под рукой был хотя бы какой-то, более-менее целостный свод по основным регионам распространения позитивистской философии XIX века. Поскольку мы начали этот цикл с Бразилии и стран Латинской Америки, хотя правильнее, конечно, было бы начать из Европы, то и здесь мы начнем с латиноамериканского позитивизма. Тогда мы выбрали Бразилию, потому что эта страна больше всех в мире подверглась влиянию позитивизма на уровне официальной государственной политики. Если обратиться к одной старой советской статье про Бразильскую философию, то в ней говорится, что в общем-то с момента появления португальцев в Америке — там всецело доминировал классический католицизм вместе с иезуитским орденом. И только на какой-то совсем короткий промежуток времени после ВФР, здесь промелькнул взрыв популяризации просветительской философии (Локк, Гельвеций, Кондильяк, Вольтер и т.д.), подпитывающий в том числе и главных идеологов войны за независимость от Испании и Португалии. А если отвлечься от этой вспышки, то действительно, радикально-теологический режим в идеологии Бразилии поддерживался вплоть до установления Республики в 1889 году. Главной формой идейного протеста против католицизма тогда стал позитивизм Конта. Это, в каком-то смысле и не удивительно, если считать, что позитивизм является искаженной версией той же просветительской философии XVIII века. Если сделать скидку на чисто марксистскую фразеологию, то в общем-то краткий обзор традиции в вышеупомянутом советском словаре давался неплохой:
Во 2-й пол. XIX в. появляются первые видные философы и социологи. Выражая интересы зарождавшейся нац. буржуазии, они выступали против старой схоластики и спиритуалистич. эклектизма. В качестве идеологич. оружия они использовали позитивизм и естеств.-науч. материализм. К 50-м гг. XIX в. относится появление в Бразилии позитивизма, в 70-х гг. он получил широкое распространение. Видным представителем позитивизма был врач Луис Перейра Баррету. Будучи сторонником т.н. науч. диссидентского позитивизма, Баррету критически относился к учению Конта и вел борьбу против сторонников консервативного т.н. религ.-ортодоксального позитивизма (М. Лемус, Т. Мендис и др.). Позитивизм сыграл определенную положит. роль в борьбе против схоластики и спиритуалистич. эклектизма. Будучи представителями умеренного крыла браз. буржуазии, позитивисты выступали против рабства и монархии, проводили политику реформ и компромисса. Почти все крупнейшие браз. мыслители 2-й пол. XIX в. в начале своей деятельности были связаны с позитивизмом. Наиболее передовые из них, видя идеалистич. ограниченность позитивизма и реакционность его политико-религ. учения, порывали с учением Конта и переходили на позиции эволюционизма Дарвина и естеств.-науч. материализма Геккеля, решающую роль в распространении к-рого сыграл прогрессивный поэт, юрист и философ Тобиас Баррету. Он высказал ряд диалектич. идей и высоко ценил Маркса. Под влиянием т. Баррету сформировалась целая плеяда мыслителей – т.н. школа Ресифи: Силвиу Ромеру, Домингис Гедис Кабрал, Титу Ливиу ди Кастру (1864–1890) – автор труда «Женщина и социогения» (Tito Livio de Castro, A mulher e a sociogenia, 1887), Фаусту Кардозу (1864–1906) – «Монистическое мировоззрение» (1894) и «Социальная таксономия» (1898); Эстелита Тапажос, Граса Аранья, Кловис Бевилакуа (1859–1944) – «Юристы-философы» (1897) и «Наброски и фрагменты» (1899), к-рые отстаивали материалистич. идеи в разных областях знания. Идеологич. оружием представителей школы Ресифи был материализм, хотя в решении мн. вопросов они были непоследовательны и допускали серьезные ошибки идеалистич., и особенно метафизич. характера. Несмотря на эти недостатки, передовые идеи, проповедуемые т. Баррету и его последователями, особенно критика религии и идеализма, пропаганда атеизма, эволюционизма и материализма, имели революционизирующее значение в феод. Бразилии. Их филос. взгляды отражали интересы не только поднимающейся буржуазии и прогрессивной интеллигенции, но и интересы всего браз. народа.
Дальше авторы говорят, что к рубежу веков снова вернулась право-консервативная реакция, а тот же марксизм начал распространяться в нормальном виде только к середине XX века. Насколько это адекватная статья — судить не беремся, но все равно не лишним будет снова отметить, что почти вся правящая верхушка Бразилии в конце XIX века разделяла идеи позитивизма. Иногда встречаются даже упоминания о том, что якобы позитивистский календарь чуть было не сделали основным в стране. Огюст Конт, в лучших традициях Французской Революции создал собственный календарь. Этот позитивистский календарь начинается с ВФР, имеет 13 месяцев по 28 дней в каждом, и каждый месяц называется в честь крупного исторического деятеля, впрочем как и каждый день. Например, сегодня (пост писался 24 февраля 2024 года) — 236 год, месяц Гомер (2), и день Лукан (27). Само собой ни одного французского материалиста там нет (даже таких умеренных, как Вольтер), и нет Эпикура. Зато полно консерваторов. Правда, есть и Аристипп с Лукрецием. У современных позитивистов даже есть интерактивная версия календаря на своем сайте, с которой можете ознакомиться сами. Самым красноречивым примером влияния позитивизма стал девиз Бразилии, изображенный государственном флаге — «Ordem e Progresso» (с порт. — «Порядок и прогресс»), что происходит из кредо позитивизма, сформулированного Огюстом Контом — «Любовь, как принцип, порядок как основа; прогресс как цель». Появился он на флаге Бразилии в 1889 году, после того, как та стала республикой. Это страна, в которой по сегодняшний день существует Церковь Позитивизма, самая крупная из действующих до сих пор. Отчасти это влияние присутствует и в других странах Латинской Америки, но уже не в такой степени. В основном позитивизм получил распространение (как «партия», а не как общий вектор идей про важность науки) — в форме «религии человечества». В Бразилии тоже возобладала именно эта форма.
Но известно также и то, что внутри кружка Конта произошел раскол. Меньшинство из «левых» и радикальных учеников, сгруппировались вокруг имени Эмиля Литтре, и популяризировали «философскую» версию позитивизма, которую консервативные современники часто называли материалистической. Большинство, с Лафиттом во главе (и при прямой поддержке самого Конта) — популяризировали «религиозную» версию, а благодаря поддержке основателя школы она стала как бы основной. И хотя в рамках чистого позитивизма доминировали всегда вторые, но и первая группа имела множество альтернатив, не имевших прямой связи с Контом. Эти альтернативы имели огромное влияние на науку во всем мире, куда больше, чем одна лишь группа Литтре. Если рассматривать их вместе, то течение Литтре становится едва ли не самым влиятельным в мире. Мы считаем, что «позитивизм», который развивали Милль, Спенсер, Геккель и т.д. — может считаться родственным к течению Литтре, хотя чисто технически это был уже не позитивизм, а другие ветви научной философии (в т.ч. сюда можно приписать и Маркса). Из советской статьи про Бразилию мы видим такой же раскол, как и во Франции. Философскую сторону здесь представляли Луис Баррету и Тобиас Баррету (школа Ресифи). Религиозную сторону представляли Лемус и Мендис, а также такие крупные фигуры-политики, как Констан. Именно последние трое имели влияние на политический курс страны. Но нельзя сбрасывать со счетов и идейное влияние «философской» группы. В общем, как и в среде марксизма, здесь тоже были свои расколы на большевиков и меньшевиков, при чем в международном масштабе, и это весьма забавно.

Тобиас Баррету (1839-1889) — бразильский философ, поэт, юрист, общественный деятель и литературный критик. В молодости получил церковное образование, где сумел выучить латынь. Пытался использовать это знание языка, чтобы перебиваться доходами от репетиторства, и даже попытался получить образование духовника, но понял что это не то, и дохода нормального не дает. Поэтому позже он окончил юридический факультет университета Ресифи, профессором которого был до конца жизни (и преподавал собственно латынь). Он стал одним из основоположников «ресифской школы» в философии, противопоставлявшей теологическому идеализму, эклектизму и позитивизму материалистический монизм (см. Геккель), форму философского пантеизма, объясняющего все явления природы изменениями единой материальной субстанции. В том, что на формирование взглядов Баррету решающее влияние оказала эволюционная теория, сыграло свою роль то, что он был энтузиастом немецкой культуры (он даже основал немецкоязычную бразильскую газету Der Deutsche Kämpfer). Такой интерес побудил его изучать труды немецких авторов, главным образом Эрнста Геккеля и Людвига Бюхнера (см. наш обзор философии Бюхнера). Под влиянием Геккеля он стал известнейшим ранним дарвинистом в Бразилии. Из немецкоязычных авторов, помимо двух уже названных, Баррету высоко ценил и «грозного критика капитала» Карла Маркса, поспособствовав знакомству бразильской аудитории с его идеями. При этом сам он не принимал марксистского диалектического материализма в полной мере. Ему был ближе своеобразный гилозоизм, соединявший механицизм с телеологией (ср. философия Чольбе и Ибервега). В политической сфере он боролся против монархии, за установление республики и запрет рабства, а также сыграл важную роль в распространении прогрессивных идей. Как поэт Баррету известен созданием «кондоризма» (по сути вариация романтизма В. Гюго) — так называемой «кондорской школы», или «третьей фазы» бразильского романтизма. Считается, что он совершил революцию в бразильском романтизме и поэзии.
Так что не удивительно, что «Ресифская школа», по сути была школой немецкого материализма, выступавшей как научная альтернатива французскому позитивизму. Очевидно, что политическая программа у представителей этой школы находится в левом спектре идей (особенно по вопросам рабства), и литературу романтизма они развивают в ключе социальной проблематики (также как и В. Гюго). К этой школе примыкают такие писатели, как Сильвиу Ромеру (1851-1914), Кловис Бевилакуа (1859-1944), Жоакин Набуку (1849-1910), историк Капистрану ди Абреу (1853-1927), врачи Луис Перейра Баррету (1840-1922) и Домингес Гедис Кабрал (1852-1883). Но несмотря на левые взгляды, касающиеся собственного народа, значительная часть этих деятелей были также сторонниками радикального расизма и поддерживали теорию евгеники. Как мы это ещё неоднократно увидим, для деятелей XIX века было вполне обыденным делом сочетать худшие представления о дискриминации с самыми прогрессивными и левыми позициями (также как Спенсер, Геккель или Дюринг в Европе).
Консервативные представители религиозного позитивизма сгруппировались вокруг фигуры Мигеля Лемоса (1854-1917). Он учился в Политехнической школе Рио-де-Жанейро, и как многие другие «политехники» интересовался позитивизмом уже с юности (интересно отметить, что сен-симонизм и позитивизм во Франции тоже возник вокруг парижской Политехники). В 1876 году (т.е. в 22 года) он основал, вместе с двумя другими видными позитивистами Тейшейра Мендесом (1855-1927) и Бенджамином Констаном (1836-1891) — первое официальное «общество позитивистов» в стране, которое позже превратиться в бразильскую церковь позитивизма. Уже через год Лемос отправится в Париж, чтобы познакомится с лидерами двух веток позитивизма (Литтре и Лаффиттом). Первоначально он еще склонялся к версии Литтре (см. школа Ресиф), но вскоре убедился, что религиозная версия более последовательно развивает оригинальную доктрину Конта, и это убедило его в том, что следует поддержать Лаффита. Точно так же в Париже он познакомился и с чилийцем Хорхе Лагарригом, совершившим аналогичный переход (то есть от «литтреизма» к «лаффиттизму») и с которым они стали большими друзьями.
Позитивистская церковь Бразилии сразу заняла позицию по самым разнообразным социальным, политическим и религиозным вопросам, среди которых можно отметить: участие в аболиционистской и республиканской кампаниях; защита социальных и трудовых прав (включая, например, право на забастовку); пацифизм; отделение церкви от государства (т.е. секуляризм); защита социальной справедливости и многие другие.
Сподвижники Лемоса — т.е. Мендес и Констан, были крупными политиками своего времени, которые встали во главе государства после утверждения Бразильской Республики. Мендес — автор флага Бразилии и ее девиза, а Констан — лидер самой революции. К их тусовке также прямо примыкал первый президент Бразилии и впоследствии диктатор (что вполне соответствовало идеям позитивистов, см. мнения Конта о диктатуре пролетариата и авангарде этого класса) — Мануэл Деодору да Фонсека (1827-1892). Но кроме партий «философского» (Литтреисты) и «религиозного» (Лаффитисты) позитивизма в Бразилии была еще одна очень занятная группа мыслителей. Надо понимать, что не случайно позитивизм имел такое большое влияние в Латинской Америке. Вся страна очень сильно зависела от французской культуры. В 1845 году группа совсем еще молодых поэтов Алварис ди Азеведу (1831-1852), Аурелиано Лесса (1828-1861) и Бернарду Гимарайнш (1825-1884) основали тайную группу писателей под названием «Общество Эпикурейцев». Группа состояла из представителей богемы и проводила дискуссии и занятия на темные темы жизни, например, смерть и сатанизм. На них большое влияние оказали романтизм лорда Байрона и Шарля Бодлера. Мы упоминаем ее буквально из-за названия, никакого эпикуреизма по сути там не было, если не считать яркий индивидуализм и нигилизм. Но и эти ребята оказались достаточно влиятельными, и затрагивали актуальные политические и социальные темы, выступая с позиций политического либерализма. Их наиболее адекватным французским аналогом можно считать кружок «Сенакль», а наиболее похожими на них фигурами можно считать Мюссе и Сент-Бёва.
Возможно, позитивисты Латинской Америки быстро приобщились к немецкому материализму как в знак протеста на засилье французской литературы в регионе. Если после ВФР сначала пошла волна подъема классического «материалистического» Просвещения, то ее почти сразу же затмил французский же спиритуализм и эклектизм (крупнейшая фигура — Виктор Кузен). Немецкий материализм мог рассматриваться как более жесткий ответ этим тенденциям. Хотя немецкий идеализм тоже имел свое влияние. Как ни странно, через совсем экзотическую школу краузеанства (об этом дальше), и почти полностью игнорируя Гегеля. Но всё таки, судя по всему, французский позитивизм и французский спиритуализм здесь прижился крепче, чем немецкие аналоги.

Позитивизм в Чили
Итак, мы рассмотрели Бразильский позитивизм с разных сторон. Во-первых, узнали что это была почти государственная идеология в конце XIX века, под влиянием которой была создана республика, ее законы и такие символы, как официальный флаг Бразилии. Есть версия, что влиятельные позитивисты даже хотели сделать официальным календарем тот проект, который создал Огюст Конт. Мы посмотрели на то, как бразильскую философию рассматривали в СССР, и в частности, на международный раскол позитивизма, оформившегося в «философскую» и «религиозную» ветви. Оценили, вкратце, на примере Бразилии, равным образом как философскую группу последователей Литтре, так и религиозную группу последователей Лаффита, и даже обнаружили литературный кружок богемной интеллигенции, который называл себя «Эпикурейским обществом». Теперь, наверное, еще короче рассмотрим этот же раскол, но уже на примере второй по размеру группы позитивистов Латинской Америки — позитивистов Чили. Наш экскурс в чилийский позитивизм начнется со статьи на «Стэнфордской энциклопедии философии». Здесь тоже указывается, что даже после обретения независимости (1810), в первые десятилетия доминировал консерватизм и официальное католичество:
«Поскольку большинство философов были верующими, это ограничение не обязательно означало проблему. Но как философы они были просто вынуждены исследовать доктрины и школы, которые были светскими или даже враждебными католицизму. В таких случаях они обсуждали эти доктрины, но подавляли то, что могло рассматриваться как выходящее за рамки католической церкви. В результате такого мыслителя, как Дэвид Юм, можно было комментировать, но в конечном итоге подвергнуть резкой критике из-за его скептицизма. О такой школе, как «Французская идеология», можно было бы говорить, но она опять-таки была бы лишена материалистических сторон. Результатом философской продукции в целом были учебники для средней школы, которые должны были быть одобрены соответствующими правительственными механизмами, а это обычно означало применение католических церковных критериев допустимого с философской точки зрения и приемлемого с теологической точки зрения. Не было места открыто антикатолическим трактатам, таким как «Sociabilidad Chilena» Франсиско Бильбао (1844 г., собрано в 1866 г.), которые в конечном итоге были сожжены за богохульство и безнравственность».
Самым радикальным нонконформизмом в Чили оказалась деятельность популяризатора «шотландского просвещения» (вполне консервативной школы «здравого смысла», близкой Канту; хотя её ещё сближают с правым крылом французской идеологии) — Андреса Бельо (1781-1865). Только к середине XIX века в Чили возникает сильная либеральная партия и вообще какие-то значимые альтернативы католическому и консервативному господству. Поскольку классический позитивизм сам является только формой утопического социализма школы Сен-Симона, то небезынтересно в начале упомянуть о весьма раннем возникновении утопизма в Чили. Крупнейшей фигурой тут является как раз вышеупомянутый Франсиско Бильбао (1823-1865). Его идеи сформировались не только в ходе политических преследований в самом Чили, но и в ходе путешествия в Париж во время этих преследований. В 1845-48 гг. он находится в Париже и принимает активное участие в революции. Вместе с еще одним мигрантом, Сантьяго Аркосом (1822-1874) они возвращаются на родину в 1849 году и создают «Общество равенства», которое имело немалое влияние на неудачную революцию 1851 года в Чили. Впоследствии Бильбао жил в эмиграции, сначала в Перу и Аргентине, а позже уже в Европе. Занятный факт, что тот самый христианский социалист Ламенне, который повлиял на Конта, стал одним из важнейших европейских авторов в глазах Бильбао. Этот чилийский утопист представлял себе Америку, как имеющую два основных культурных контура — индивидуалистический, протестантский, федеративный англосаксонский Север и коллективистский, католический, централистский латинский Юг: «Янки — центробежная сила; южные американцы — центростремительная сила. Обе необходимы для того, чтобы существовал порядок». Идея Латинской Америки для него состояла в том, чтобы оспорить «индивидуализм янки», и не соотносилась с географическими границами региона, поскольку он исключал отсюда Бразилию (как монархию с рабовладельческой экономикой), Парагвай и Мексику (с её запутанными отношениями с Соединенными Штатами). Этот взгляд особо интересен в корреляции с современными институционалистами Аджемоглу и Робинсоном, которые объясняли различия между развитием английского севера и испанского юга.
Такие яркие представители утопизма в Чили (Аркос позже примет участие и в Парижской коммуне 1871 года), уже сами по себе показывают, что в первой половине XIX века культура в «испанском» Чили находилась на порядок выше, чем в «португальской» Бразилии, где школа Ресифи возникнет только спустя 20 лет. Это сказывается также и в других местах. Правда тут же надо отметить, что еще более прогрессивным регионом, под влиянием которого развивался либерализм в Чили — была Аргентина. Либералы придут к власти в Чили только в 1861 году, позже, чем в Аргентине, хотя это все равно достаточно рано (раньше, чем в Бразилии). Во время либерального правления здесь начнется расцвет позитивизма. И как мы видим, ростки для этого создавались еще в конце 40-х годов. И конечно же, прогрессивные явления не исчерпываются примером утопических социалистов. В Чили можно найти и самых обыкновенных позитивистов.
Наиболее важным примером либерального мыслителя и философа стал Хосе Викторино Ластаррия (1817-1888), который выступал за ликвидацию колониального наследия, все еще укоренившегося в церкви, а также за ликвидацию авторитарных практик, которые препятствовали свободе индивидуальной инициативы и выражения. Еще в 1842 году он создал «Литературное общество», целью которого было распространение либеральных идей. Он принимал участие в создании Чилийского университета и был крупной политической фигурой даже в консервативный период истории Чили. Будь то благодаря своему месту в Конгрессе, или роли основателя Либеральной партии (1849 г.) или своим обширным трудам, но Ластаррия успешно продвигал основные принципы либерализма и сформулировал последовательную философию истории, твердо укорененную в идеях эпохи Просвещения. Он даже было примыкал к утопическому «Обществу равенства» и поддерживал попытку революции 1851 года (за что и поплатился изгнанием). Позже Ластаррия станет одной из важных фигур в популяризации позитивизма, а при либеральном правительстве будет занимать крупные министерские должности. Также он развивал литературу романтического жанра в сторону социальной критики (ср. деятельность бразильской школы Ресиф). Среди других мыслителей, которые внесли свой вклад в развитие либеральных взглядов в Чили, были аргентинские изгнанники Доминго Фаустино Сармьенто (1811-1888) и Хуан Баутиста Альберди (1819-1884), о которых мы еще поговорим отдельно, в разделе про Аргентину.
Приход позитивизма совпал с ростом волны антиклерикализма в Чили в 1860-х и 1880-х годах, но влияние позитивизма не ограничивалось нападками на церковь; он также поспособствовал существенной трансформации учебных программ на уровнях среднего и высшего образования. Фундаментальная привлекательность позитивизма заключалась в его понятии «прогресса». Основываясь на работах Огюста Конта, позитивизм позволил антиклерикальным мыслителям отвергнуть «теологическую» стадию как примитивное состояние в эволюции человечества, которое неизбежно будет заменено «метафизической» и «научной» стадиями. Политические последствия и возможности использования этой эволюционной точки зрения были очевидны: чтобы подняться на высший уровень, чилийцам необходимо было оставить позади религиозное влияние католической церкви. Как заявил ранее упомянутый нами Ластаррия, наука могла решить проблемы чилийского общества наиболее эффективным способом. Многие прислушались к этому призыву и сконцентрировались на таких важных приоритетах, как образование. Либеральный историк Диего Баррос Арана (1830-1907) много сделал в этом отношении, посредством своей реформы учебной программы в Национальном институте, как и Мигель Луис Амунатеги (1828-1888), который в качестве министра образования в 1879 году официально ввел преподавание естественных наук в государственных школах.
Наиболее значительной позитивистской фигурой был Валентин Летелье (1852-1919), чья «Философия образования» послужила основой для глубокой переориентации философских исследований в Чили. По его мнению, теологические и метафизические акценты, которые доминировали в чилийском образовании с момента обретения независимости, мало что сделали для объединения страны вокруг ядра общих убеждений. По его мнению, только научные данные могут сделать это. Инструментом достижения этой высшей ступени была логика, которую он успешно ввел в образовательный план 1893 года в ущерб этике и теодицее. Летелье исследовал не только работы Конта, но также изучал Виктора Кузена и Герберта Спенсера. И замечено влияние таких писателей, как Джон Стюарт Милль, Савиньи, Дестют де Траси, Эмиль Литтре и Пьер Ларомигьер. Он был депутатом Конгресса 1888-1891 годов и, как лидер Радикальной партии (местные социал-либералы), был одним из тех, кто подписал акт о свержении президента Хосе Мануэля Бальмаседы в январе 1891 года. На третьем съезде Радикальной партии в 1906 году Летелье успешно отстаивал «социалистические» принципы (т.е. социальные реформы), которые были прямой противоположностью «индивидуализму», которого придерживался его главный противник, Энрике Макивер Родригес. Идейно Летелье был близок к немецкой социал-демократии, находившейся под влиянием Эдуарда Бернштейна и Августа Бебеля. В соответствии с акцентом на логику в изложении позитивизма, Хуан Серапио Лоис (1844-1913) опубликовал наиболее полную трактовку логики с точки зрения Конта – «Элементы позитивной философии» (1906-8), применив логический анализ к методологии ряда наук.
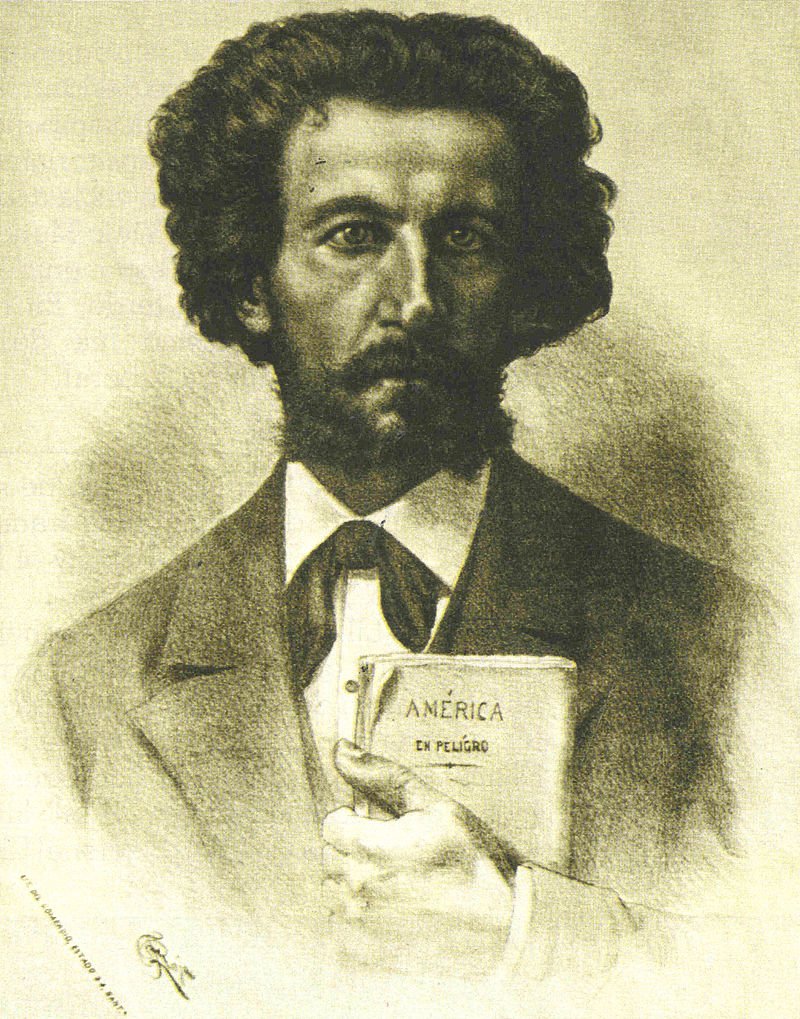
На примере чилийского позитивизма мы почти не замечали влияния немецкого материализма Геккеля, дарвинизма и т.п. тематик. Чилийские мыслители будто бы менее настроены на развитие натурализма. Но многих из их все таки можно считать классическими позитивистами в сферах права, истории и социологии, т.е. «философским» крылом классического позитивизма. В Чили, в отличии от Бразилии, именно это крыло имело большой политический вес. Было здесь также и «религиозное» крыло позитивизма, представленное братьями Хуаном Энрике Лагарригом (1852-1927), Хорхе Лагарригом (1854-1894), а также Луисом Лагарригом (1864-1949), которые восприняли религиозные идеи покойного Огюста Конта и принесли т.н. «религию человечества» в Чили. Хотя эта разновидность позитивизма сохранилась до XX века, она оставила мало влияния в области философии. В политическом отношении она была связана с президентской и предположительно авторитарной администрацией Бальмаседа, который потерпел поражение в гражданской войне 1891 года. Как и в случае с поддержкой Контом правления диктатора Луи Бонапарта, позитивизм братьев Лагарриг стал ассоциироваться с авторитаризмом.
В 1872 году, будучи еще очень молодыми, братья вступили в Иллюстрированное общество, место которого после смерти директора и основателя занял Хорхе. Там они познакомились с философами Ластаррией и Летелье, склонными к европейскому позитивизму, а Хорхе перевел на испанский язык «Принципы позитивной философии» Огюста Конта (1875). Позже он опубликовал в чилийском журнале под руководством Диего Барроса Араны и Мигеля Луиса Амунатеги горячую защиту позитивизма Конта. По общему набору интересов и личных связей, очевидно, что в этот период братья Лагарриги еще были «философскими» позитивистами. Но затем Хорхе предпринял поездку в Париж, где встретил бразильского позитивиста Мигеля Лемоса (1854-1917) и Эмиля Литтре, и в конечном итоге, сравнивая позитивизм Литтре с ортодоксальным позитивистским обществом в версии Лаффита — принял сторону последнего (вместе с Лемосом). Во время краткого пребывания в Чили, около 1883 года, он основал Позитивистскую церковь Чили, которая позже образовала Позитивистское общество, и руководил ею лично до своей ранней смерти в Париже (1894 г.), когда на должности руководителя его сменил его брат Хуан Энрике.
Теперь по аналогии с Бразильским позитивизмом мы рассмотрели и позитивистов Чили. Заметно, что здесь влияние позитивизма также было огромным, в т.ч. сказывалось на ведущих государственных деятелях страны. Видно, что идеи позитивизма шли рука об руку с либеральной политической теорией, постоянно переткали в область социальной критики и тяготели «влево», и что левый социалистический утопизм появился здесь очень рано. Мы оценили, вкратце, на примере Чили, как философскую группу последователей Литтре, так и религиозную группу последователей Лаффита, которые здесь также находились в конфронтации, как и во всем остальном мире. А впереди нас ждет еще обзор позитивизма в таких крупнейших регионах Латинской Америки, как Мексика и Аргентина.
Позитивизм в Аргентине, Перу, Уругвае, Боливии, Колумбии, Венесуэле и Карибском бассейне
Как и в любой другой стране Латинской Америки, под влиянием Французской революции и войн Наполеона (которые послужили спусковым крючком к войнам за независимость Америки) — в Аргентине возник интерес к французской философии Просвещения. Точно также до этого там господствовал дух испанской теологии в мракобесия, а после краха Наполеона — различные ветви романтической философии (спиритуализм, эклектизм, немецкая классика). В политическом плане здесь также огромную роль играла борьба либералов против консерваторов. Ведь поскольку Латинская Америка была культурно-отсталым регионом с высокой религиозностью (впрочем и остается такой сегодня), а экономическая власть находилась в руках крупных землевладельцев (т.е. по сути аристократии), то в результате революции и независимости, к власти в Латинской Америке повсюду пришли консервативные партии. Как и в Чили (да и в Бразилии тоже) — последующая политическая победа либералов сопровождалась принятием менее консервативной идеологии, и в то время философским фундаментом для нее был в первую очередь позитивизм.
Мы не будем рассматривать в деталях все сложные перипетии истории Аргентины, а сосредоточимся на интеллектуальных группах. Либерализм здесь начал проявляться еще раньше, чем в Чили. Первым серьезным центром развития либерализма стал «Литературный салон» в Буэнос-Айресе, проводившийся в 1837 году для обмена идеями среди интеллектуалов, известных как «Поколение 37-го». Эти деятели создавали романтическое движение в Аргентине. Салон был распущен через шесть месяцев после своего создания из-за неоднократных призывов к вниманию представителей правительства. Это поколение выступало за отказ от чисто монархических укладов, унаследованных от испанской колонии, и за установление демократии, гарантирующей права граждан. Свои идеи они передавали через литературные произведения, стилистически находящиеся под влиянием английского и французского романтизма, и имели решающее значение в период, известный как Национальная организация, между 1852 и 1880 годами.
Главным идеологом и организатором этого собрания был Маркос Састре (1808-1887). Но самыми значимыми представителями «поколения 37-го» были Доминго Фаустино Сармьенто (1811-1888), Хуан Мария Гутьеррес (1809-1878), Эстебан Эчеверриа (1805-1851) и Хуан Баутиста Альберди (1810-1884). Часть из них станут крупными государственными деятелями своей родной страны, и тоже примут участие в распространении позитивизма. Например Сармьенто будет президентом Аргентины в 1868-74 гг. Еще в 1842 году Сармьенто организовал газету «Прогресс», а позже, в 1845-47 гг. посетил Европу и США с целью реформы образования у себя дома. В 1852 году принимал участие в революции, которая закончилась свержением местного аргентинского диктатора. Но уже при новом правительстве он подвергся преследованиям и оказался в Чили (где повлиял на местную литеральную традицию). Сармьенто был сторонником модернизации, секуляризма и либеральной демократии, ему были знакомы труды передовых западных политических философов, включая Джона Стюарта Милля и Карла Маркса. Однако несмотря на принадлежность к либеральной партии, он считал допустимым ограничение свобод, опасаясь, что полная свобода может привести к анархии либо гражданской войне. И при всех прогрессивных сторонах своей деятельности — он был резким расистом и сторонником истребления коренных американцев. Главное сочинение Сармьенто «Цивилизация и варварство. Жизнеописание Хуана Факундо Кироги» (1845). В соответствии с его концепцией «варварства-цивилизации», противопоставлялись друг другу социокультурные возможности «чистых», способных к порождению и поддержанию ценностей «цивилизации» рас (прежде всего — белой расы) — и «метисных рас», неизбежно воспроизводящих элементы «варварства». С этой точки зрения, латиноамериканская цивилизация представлялась расисту-теоретику Сармьенто (самому имевшему некоторую примесь индейской крови) абсолютно несостоятельной, в силу своего метисного, индейско-мулато-гаучского, происхождения. Массовая иммиграция из Европы содействовала, по мнению Сармьенто, «исправлению расы» и утверждению «европейских ценностей». При этом в социально-экономических вопросах Сармьенто был приверженцем идеалов равенства (в том числе в образовании женщин и мужчин) и под влиянием идей утопического социализма считал, что просвещение приведёт к преодолению неравенства классов и установлению общественной гармонии (ср. школа Ресиф).
Сармьенто внес важный вклад в науку в качестве пропагандиста научного прогресса, а также своими постоянными действиями и проповедями в пользу создания научных и культурных учреждений. В борьбе между эволюционистами и креационистами, которая имела место также и в Аргентине, позицию эволюционизма защищал Флорентино Амегино (1853-1911), а позиции креационизма — Бурмейстер (1807-1892). Несмотря на то, что Бурмейстер был признанным ученым в Европе (и даже другом Гумбольдта!), Сармьенто без колебаний поддерживал идеи Амегино. Он также всегда превозносил фигуру врача и палеонтолога-любителя Франсиско Хавьера Муньиса (1795-1871). В общем, в Аргентине была своя крупная школа натурализма, и Сармьенто был ее приверженцем. Это еще не позитивизм в собственном смысле слова, но отличная иллюстрация развития и влияния естественнонаучного материализма на территории Латинской Америки.

Один из основателей конституции Аргентины 1853 года Хуан Баутиста Альберди (1810-1884) большую часть жизни провел в эмиграции (в частности в Чили), но считается одним из самых влиятельных либеральных деятелей Аргентины своего времени. Он находился под влиянием правовой школы немецкого историцизма (Савиньи). И он тоже не был позитивистом в строгом смысле слова, но может считаться влиятельным вольнодумцем своего времени. Такой его товарищ, как Хуан Мария Гутьеррес (1809-1878) был пропагандистом изучения естественных наук в Аргентине, а Эстебан Эчеверриа (1805-1851) был сторонником учения Сен-Симона и романтизма в духе Байрона, Гете и т.д. Более того, последний еще и принимал участие в организации «Молодая Аргентина» (ср. «Молодая Европа»). Все это — представители поколения 37-го, которое имело влияние в том числе и на чилийский либерализм.
Как говорят энциклопедические статьи, начиная с 70-х гг. XIX в. наряду с естественнонаучным материализмом, модным философским течением становится позитивизм, который к началу XX в. занял господствующее положение. Обычно там называют ещё ряд имен, которые на самом деле ничего интересного не представляют. Из этого мы можем сделать вывод, что позитивизм не имел серьезной почвы на территории Аргентины. Он возник также поздно, и даже ещё позже, чем в Бразилии, и не оставил ни одного действительно интересного писателя. Однако и здесь мы видим ряд близких к позитивизму естественнонаучных течений что даже лучше, чем собственно позитивизм. Большинство известных позитивистов в Аргентине появляются гораздо позже, чем в Бразилии или Чили, и они уже сразу развиваются в контексте социалистических партий. Например, один из двух крупнейших позитивистов, Хосе Инхеньерос (1877-1925) был основателем соцпартии Аргентины (и опять же, радикальным расистом..). Мы уже говорили, что подавляющее большинство латиноамериканских позитивистов были социал-дарвинистами и расистами в той или иной мере, но судя по статьям про Аргентину, она давала фору в этом вопросе абсолютно всем странам юга.
Посмотрим теперь на другие мелкие страны Южной Америки, например Перу. Как правило в таких странах спиритуализм и эклектизм ощущались гораздо сильнее. Но и здесь под влиянием Герберта Спенсера наука превозносилась как генератор порядка и прогресса. Главным представителем этого течения был Мануэль Гонсалес Прада (1844-1918). Политически он изначально был либералом, но эволюционировал в анархиста, не прекращая быть сторонником позитивизма. Под влиянием анархизма Гонсалес Прада критикует традиционные властные группы в Перу, виновные в катастрофе войны и моральном разрушении огромного большинства коренного населения. Он предлагает полный разрыв с вице-королевскими формами мышления и посредством научного образования поднять население до уровня современности. Также можно упомянуть Мариано Х. Корнехо (1866-1942), известного как отец социологии в Перу, и как один из лидеров позитивизма, который также занимал и ряд государственных должностей; или Хоакина Капело (1852-1928), сенатора и министра общественных работ Перу, который также был позитивистом-социологом с инженерным образованием. В Уругвае, который был чуть-ли не самой развитой страной Юга в свое время, позитивизм пустил чуть большие корни, но тоже не был строго оформлен, как именно «позитивизм». Влияние сказывается на многих деятелей-просветителей, которые хотели распространить знания о науке на широкие массы народа (Общество друзей народного образования). Из этих деятелей наиболее «позитивистами» считаются Альфредо Васкес Асеведо (1844-1923) и Хосе Педро Варела (1845-1879). Мы не будем расписывать их биографии, но очевидно, что ещё несколько подобных деятелей уж точно найдется. Из более поздних и сознательных позитивистов выделяется Карлос Вас Феррейра (1872-1958). В отличии от Аргентины, кое-какие видные позитивисты здесь всё таки есть.
В Боливии, Колумбии, Венесуэле и прочих странах южной Америки мы тоже можем найти позитивистов и натуралистов самой разной величины, но это уже требовало бы чрезмерной детализации и более глубокой систематизации. Главное что они есть, и что на испанском языке можно найти монографии по истории философии Боливии и т.д. Как правило в любой стране есть свой крупный позитивист и материалист. Из подобных второстепенных фигур стоит упомянуть пуэрториканца Эухенио Мария де Хостоса (1839-1903) и кубинца Энрике Хосе Варона (1849-1933), весьма крупных деятелей в регионе Карибского бассейна. Возможно в каком-то будущем мы ещё вернемся к этой теме и откопаем всех второстепенных авторов, систематизируем их позиции, переведем несколько монографий с испанского, но это явно не сейчас. А сейчас закончим это все обзором позитивизма Мексики, последнего крупного региона Латинской Америки. Подводя хотя бы небольшой итог по этой огромной (как оказалось) теме, мы решили перевести небольшую главу из книги «A companion to Latin American philosophy» (2010). Переведенная глава называется «Возникновение и трансформация позитивизма». Здесь больше внимание придается тому, какую роль сыграл позитивизм в политической жизни Латинской Америки, в частности рассматривается либеральное и консервативное крыло в позитивизме Колумбии (что в нашем обзоре было упущено).
Позитивизм в Мексике
В 1867 году в своей «Гражданской молитве» мексиканский врач Габино Барреда (1818-1881) выделил в истории своей страны колониальный этап, соответствующий «религиозному государству», за которым после обретения независимости последовал еще один этап «метафизического государства». Но как сторонник утопических либеральных идей, он выступал за начало нового — «позитивного» периода, характеризующегося порядком и прогрессом. Между 1847 и 1851 годами он учился в Париже, и теперь применил учение Огюста Конта к анализу своей национальной действительности. По возвращении в Мексику в 1851 году он выступил основоположником местной школы позитивизма, и организовал здесь Общество сторонников позитивизма, и стал его первым руководителем. Так позитивизм пришел в Мексику одновременно с окончательным триумфом либералов. Он был близким другом двух президентов Мексики, правивших с 1858 по 1876 годы. Второй крупнейший позитивист Мексики — Хусто Сьерра (1848-1912), стал основателем Национального университета Мексики и занимал должность министра просвещения. Он отличался отсутствием ярко-выраженного расизма. В 1902 году Сьерра провозгласил лозунг «мексиканизации познания», призывая восстановить историческую роль метиса как специфически мексиканского типа, имевшего важное значение для процесса образования нации. В своей исторической концепции Сьерра старался освободиться от навязанных ранее схем, найти специфические закономерности развития страны.
Мексика стала третьей после Бразилии и Чили страной с огромным влиянием позитивизма в университетах и государственных структурах. И точно также, как и во всех прочих случаях, позитивизм здесь был прямо связан с либеральной политикой и борьбой против консервативных аристократических режимов. Зачастую позитивисты были сторонниками промышленной революции и буржуазного общества, и открытыми противниками аграрной экономики. Главное, что во всех случаях бросается в глаза, так это определяющее влияние Франции (в первую очередь) и Британии (во вторую) на развитие идеологии Латинской Америки. Ни Германия, ни даже Испания, что еще страннее, особого влияния не имели. А если Германия и имела влияние, то это были такие деятели, как Геккель. Правда за пределами позитивизма немецкая философия всё же оказала влияние, но не через Гегеля, а через краузианство, о чем мы расскажем в следующему разделе.

Позитивизм в Испании и Португалии
См. также статьи на сайте: «Рецепция материализма в Испании по Густаво Буэно», «Материализм, сенсуализм и позитивизм в Испании», «Критика материалистической философии (Сеферино Гонсалес)», где затрагиваются эти же писатели, и немного детальнее. Эти статьи были внесены на сайт позже, чем написан следующий комментарий, так что их влияние на сам комментарий нет.
Довольно странно, что на Латинскую Америку будто бы почти не влияет философская литература самой Испании. Возможно, это настолько самоочевидные вещи, что на них даже не акцентируют дополнительного внимания, и литература на испанском языке кажется слишком близкой и провинциальной. Но все же стоило посмотреть, что же происходило в Испании. Оказалось, что здесь можно найти даже интересные фигуры в рамках эпикурейской традиции. Есть там, конечно, и свои позитивисты. Но прежде чем их рассмотреть, нужно упомянуть один странный феномен, который объединяет Испанию и ее бывшие колонии. Это чрезвычайная популярность немецкого философа Карла Фридриха Краузе (1781-1832). Он почти не был замечен в Германии, и тем более в любой другой стране Европы, но стал чуть-ли не официальным философом всего испаноязычного пространства. Он оказался эдакой заменой Гегеля и Кузена для более консервативно настроенных слоев общества. Что такое этот «краузизм»? В принципе, это альтернатива гегельянства. Он столкнулся с учениями Фихте и Шеллинга, и решил синтезировать их, примирить все крайности, основные из которых — дух и материя, в рамках единой монистической системы. Центральной фигурой у него был Спиноза, хотя по духу это почти копия философии Мальбранша (не то, чтобы между Спинозой и Мальбраншем была огромная разница…). Это чуть более идеалистическая версию философии Марины Бурик, с религией человечества и стадиальным развитием в духе Конта.
Он исходит из сознания, в котором находит непосредственное познание божества. Само по себе (an sich) божество чисто от всякого противоречия, оно чистое тождество. В себе (in sich) оно содержит все противоположения и прежде всего основное — природы и разума. Божество находится вне мира: оно беспредельно, между тем как мир имеет пределы. Оно находится и в мире; иначе божество не было бы все Сущее. К пантеистическим атрибутам божества надо присоединить моральные. Это учение — не деизм и не пантеизм чистый, а панентеизм (все в Боге). Организм, в котором осуществляется божество — мир, представляющий собою не что иное как божество, раскрытое в пространстве и времени. Самая совершенная часть мира — человеческий индивидуум, в котором соединяются природа и разум. Цель индивидуума жить, по возможности, в Боге. Жизнь всей вселенной резюмируется в нём: он, в свою очередь, видоизменяет её своей свободой. Но индивидуум не может рассматриваться отдельно. Будучи сам в себе целым, он вместе с тем — часть организмов с постепенно увеличивающимся объёмом: семьи, рода, народа, расы, человечества.
Человечество — это «царство духов», в котором разум распределяется органическим способом. Души, составляющие его вечны; они осуществляют божество через преемство существования. Божество есть целостное благо, которое человек должен осуществлять в своей жизни. Определение этого человеческого блага составляет содержание наиболее важной части системы Краузе — его «практической философии». Сюда входит теория религии, теория нравственности и теория права. Оригинальна последняя. На право следует смотреть не как на совокупность условий внешней свободы (по учению Канта и Фихте), а как на совокупность целостной свободы; право обнимает все человеческое существо, в его стремлении к божественной жизни. Каждый из организмов, составляющих переход от индивидуума к человечеству, имеет своё право. Эти системы права подчиняются праву человечества, обнимающему их все. Право не имеет смысла иначе как в отношении к прогрессу. Эта цель делает законными некоторые формы права, которые кажутся тираническими, напр. право уголовное: это временное покровительство, опека. Теории нравственности и религии освещены философией истории. Краузе понимает её очень схоже с позитивизмом. Живое существо развивается пo двум законам, восходящему и нисходящему. Каждый из этих двух законов осуществляется в трех последовательных моментах: момент зачаточный, роста и зрелости. В первом возрасте человечества содержатся зачатки нравственности и религии: человек соединен с Богом каким-то смутным инстинктом, магнетическим родством. Век роста содержит три подразделения: политеизм, с рабством и тиранией, монотеистические и фанатические средние века и, наконец, век освобождения, терпимости и цивилизации.
Что в Испании, что в колониях — франко-английские веяния проходили через фильтр «краузизма», либо в согласии, либо в борьбе с ним. Это учение было несколько видоизменено, усилено в сторону «религии человечества», и было нацелено на воспитание «человека будущего». В частности, крупнейший испанский «краузист» конца XIX века, Франсиско Хинер де лос Риос (1839-1915) был зациклен на вопросах воспитания, и в 1876 году организовал и возглавил «Свободный институт воспитания», ставший базовой экспериментальной школой и органом подготовки реформ системы народного образования в стране. Целью воспитания для Хинера было формирование «нового человека», основные качествами которого становились оригинальность мышления, интеллектуальная свобода, духовная близость к природе, правовая и гражданская культура, тонкий эстетический вкус, «артистизм» поведения, физическая красота. Задача его института заключалась в раскрытии разносторонней творческой индивидуальности детей, содействии их самоопределению. Программа совместного обучения носила универсальный, «энциклопедический» характер, помимо традиционных дисциплин изучались технология, антропология, экономика, история искусства, общественные науки и труд. Образование в институте представляло единый непрерывный процесс от детского сада до университета. Одну из главных ролей в построении идеального общества, по мнению краузистов, должны играть учёные, а идеальное государство — это совокупность общин, наделённых самоуправлением. Отсюда довольно просто перейти как на позиции позитивизма, так и на позиции марксизма. И это особенно интересно, учитывая тот факт, что по причинам своего создания и по общей задумке — это была альтернативная версия Гегеля.
А теперь вернемся немного назад в прошлое, ближе к эпохе Просвещения, и посмотрим на самых главных «эпикурейских» представителей в Испании. Во-первых, мы находим множество прямых последователей Гассенди, которые именовались группой «новаторов» (см. цикл постов в испаноязычном блоге об этом). Примечательно то, что здесь развернулись масштабные баталии между церковниками и эмпириками еще в 1710-30х годах, даже раньше, чем в Англии или Франции! И посмотрите в каком духе велась эта полемика. Например, Франсиско Паланко опубликовал в 1714 году свой «Физико-теологический диалог против новаторов философии», как реакцию на тексты Альвареса (человек, пытавшийся примирить библию с атомизмом). В ответ на это, в 1716 году Хуан де Нахера под псевдонимом Алехандро де Авенданьо опубликовал «Философские диалоги в защиту атомизма». Мы видим полемику вокруг медицины и защиту неких врачей-эмпириков, еще в 1711 году. А вот уже в 1717-м году некий врач-аристотелик Хуан Мартин де Лессака пишет новый ответ с точки зрения консерватизма, и посмотрите как он пишет:
Атомисты утверждают, что их философия — лучшая, поскольку она основана на самом опыте и на том, что воспринимают чувства; и поэтому они называют свою философию экспериментальной и разумной. Таков «Химический курс», столь высоко оцененный автором обзора, который говорит: «Итак, химия, будучи доказательной наукой, принимает в качестве основания только то, что осязаемо и доказательно». Действительно, очень полезно иметь такие разумные принципы, которые можно установить с помощью большего количества оснований. Возвышенное воображение других Философов, которые держатся за свои Физические принципы, поднимая свой дух до уровня великих идей, никогда ничего не доказывает демонстративно. Именно поэтому она и называется экспериментальной философией…
Лессака использует это различие между чувственным познанием и рациональным, между опытом и разумом, чтобы указать, что novatores можно назвать «грубыми», учитывая, что чувства более грубы, чем разум. Лессака ссылается на максимы новаторов, чтобы показать низость их методологии. Принципы атомизма Гассенди и сенсуализм отстаивал также профессор философии Валенсийского университета Хуан Батиста Берни (1705-1738). И это только «вершки» поверхностного ознакомления с темой. Честно говоря, не ожидаешь увидеть такое в Испании. Если мы переместимся теперь немного дальше по хронологии, в сторону Французской революции, то в Испании под сильным влиянием философии Кондильяка находились философы-сенсуалисты Антонио Эксимено-и-Пухадес (1729-1808) и Хуан Андрес (1740-1817). Оба при этом были иезуитами, что весьма характерно для Испании. Они были одними из главных основателей т.н. «Испанской универсалистской школы XVIII века». Школы, которая занималась в первую очередь сравнительной этнографией, материал для которой давали огромные просторы колоний, а также тематикой истории и натурализмом (описанием путешествий с наблюдениями за экзотической природой). Все это делалось на основе современного им эмпиризма, и поэтому школа является одним из крупнейших центров европейского Просвещения, объединяющая интеллектуалов Испании и Италии. Первый из двух приведенных в пример философов-сенсуалистов был крупным теоретиком музыки, второй — крупнейшим в свое время автором по сравнительному литературоведению; теоретиком эстетики. Как бы ответ на это распространение прогрессизма и материализма — в Испанию проникает тот самый краузизм, который дополняется философией эклектизма Виктора Кузена и философией здравого смысла шотландских просветителей. Но учитывая, что все же католическая партия в Испании была сильнее, чем в любой другой стране Европы, просветители Испании не имели серьезного перевеса даже в момент своего наивысшего подъема. Поэтому партия рационалистов в Испании никогда не проигрывала, и всегда имела достаточно крупных представителей. Краузизм и эклектизм применялся скорее не в качестве экстренной меры для борьбы с засильем эмпириков, а как обновление идеализма при помощи иностранных новинок (если бы новинок не было, они бы всё равно задушили прогрессистов просто силами официальной теологии). Поэтому в Испании уже в 60-е годы XIX века появляются крупные неокантианцы и неогегельянцы. И по-видимому, они спокойно перевешивают слабое сопротивление местных позитивистов и материалистов. Возможно ещё и поэтому в колониях не видно серьезного влияния из материка, ведь колонии были куда более либеральными.
Но все таки и в Испании были свои представители материализма и позитивизма XIX века. Выдающимся представителем материалистической традиции и защитником сенсуализма был философ, врач и политический деятель Педро Мата-и-Фонтанет (1811-1877). Вот что пишет о нем советская энциклопедия: «За свои лит. выступления, а также за непосредств. участие в революц. борьбе подвергался преследованиям. После поражения революции 1833-43 активно занимался науч. деятельностью. В «Исп. мед. философии» (1850) М.-и-Ф. обобщил свою полемику с идеалистами из Мед. академии наук. Его перу принадлежат также работы: «Исп. философия. Трактат о человеч. разуме…» (1858–78), «Учебник психологии» (1866) и естеств.-науч. произведения. В Испании сер. 19 в. М.-и-Ф. был одним из самых авторитетных пропагандистов идей материализма и защитником сенсуализма. Он отвергал идеалистическую интерпретацию духовной жизни человека и утверждал, что духовная жизнь имеет свой материальный субстрат – мозг». На материалистических позициях, но с элементами позитивизма и агностицизма, стоял испанский естествоиспытатель, врач и гистолог Рамон-и-Кахаль (1852-1934), чьи первые научные работы были опубликованы в 1880 году. В отличии от колоний, где марксизм начал распространяться только в XX веке, в Испании пропагандистами идей марксизма уже были Хосе Меса (1840-1904) и Франсиско Мора (1842-1924).
В Португалии с философией все куда хуже, и там очень мало самостоятельных фигур, а поэтому нет никаких обобщающих статей, и самой стране это считается отдельной проблемой. Но все таки некоторые фигуры есть. Крупнейшие философы — некий местный аналог Гегеля и Краузе — Педро Виана де Аморим (1822-1901), а также Сампайо Бруно (1857-1915), ярый критик позитивизма. Даже беглое гугление выявляет достаточно много разных интересных фигур, по-видимому, даже местного сторонника «идеологов» — Сильвестра Пиньейру Феррейра (1769-1846), но португальцы почему-то считают, что у них нет своей философской традиции, странно. Из крупнейший позитивистов можно назвать Теофилу Брага (1843-1924), который не просто был литератором и убежденным позитивистом, но также был лидером революции, установления республики, и какое-то время занимал пост президента Португалии. Остальные десятки разных имен мы называть не будем, просто зафиксируем, что все крупнейшие направления здесь тоже представлены.
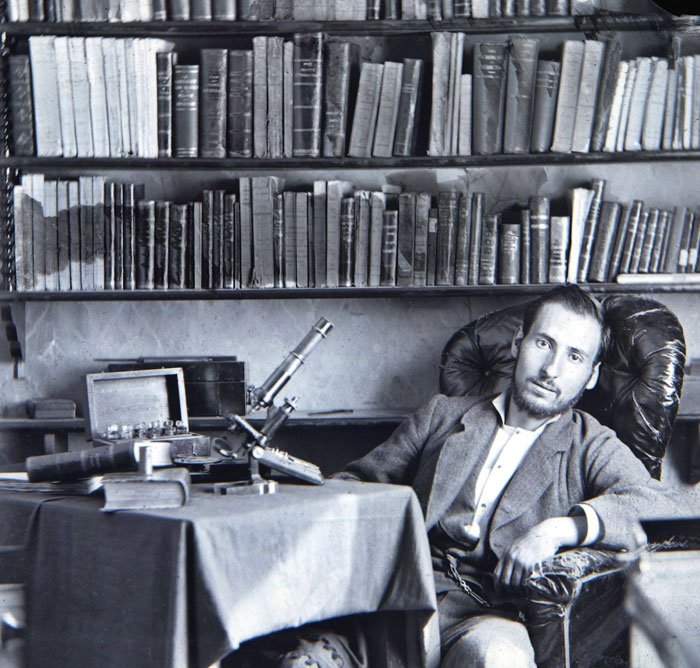
Позитивизм Западной и Центральной Европы
Итак, после обзора позитивизма Бразилии и Чили, мы оценили позитивизм в Аргентине, и убедились, что он здесь был не так сильно развит, как можно было бы ожидать. После этого мы ускорились (т.е. уменьшили плотность внимания), и оценили состояние дел в остальных странах юга, в частности Перу, Уругвае, и прочих странах Карибского бассейна. Также очень сжато посмотрели на положение дел в Мексике, и на этом подвели промежуточные итоги для всей Латинской Америки. Чтобы понять лучше весь контекст, мы заглянули в историю философии Испании, и были приятно удивлены наличием там очень ранней традиции эпикурейского сенсуализма, школы Кондильяка и местных «вульгарных» материалистов. Даже краткий обзор философов Португалии продемонстрировал, что там есть что копать глубже, и может обнаружится много серьезных теоретиков. Технически, какое-то влияние на колонии Латинской Америки вполне возможно. Но заниматься дальше этой тематикой, узкоспециально закапываясь в философию этого региона мы не будем. Все это было не более, чем набором заметок, неким «якорем», на случай, если вдруг захочется вернуться к этой теме. Позитивизм Франции уже был более-менее рассмотрен в статье «Комментарий к позитивизму Конта». Там же затрагивается позитивизм Российской Империи, фигура украинского позитивиста Лесевича и примеры его статей-популяризаций. А после этого в том же комментарии размещены посты о русском позитивизме, критические комментариев русских консерваторов, с осуждением позитивизма и т.д. Там же мы даем общие замечания по поводу позитивизма самого Огюста Конта. Если прочитать наш комментарий и эти статьи Лесевича, то представление про оригинальный позитивизм будут почти полными (полнее — только читая самого Конта). Плюс нужно учесть, что к французскому позитивизму прямо примыкает огромный цикл статей на нашем сайте про французских идеологов (их много, и они до сих пор не сведены воедино, но самая важная публикация — книга Франсуа Пикаве). В качестве дополнения можем посоветовать статью: «Французские, немецкие и турецкие авторы-материалисты в девятнадцатом веке», где затрагивается Османская Империя, а также две статьи с обзором философии в Нидерландах: «Эмпиризм и его критика в философии Нидерландов XIX века», «Материализм и атеизм в философии Нидерландов XIX века». Поэтому здесь мы уже не будем затрагивать Францию, Нидерланды или Россию, и перейдем к оставшимся крупным государствам Европы — Британии, Италии, Германии и Польше.
Позитивисты Англии
В процессе более близкого ознакомления с позитивизмом, обнаружилось, что одним из крупнейших популяризаторов этого направления была Гарриет Мартино (1802-1876). Писательница, которая помимо художественной литературы, занималась популяризацией экономических и социологических учений. В ее романах поднимались вопросы индустриализации и движения луддитов, она много писала про законы о бедных, интересовалась положением рабочего класса. Также она была сторонником движения за освобождение рабов и в некоторой степени феминисткой. Ее взгляды сформировались под влиянием Конта и Милля, и возможно только поэтому (а также потому, что она соглашалась с аргументацией Мальтуса) мы практически ничего не слышали о ней, читая литературу изданную в 1920-80-х годах. Возможно на это также повлиял ее интерес к спиритизму. Но того же Бульвер-Литтона советская критика хотя бы изображала как известную (хоть и вражескую) фигуру, а здесь странное молчание. Конечно, в Англии уже была подготовлена хорошая почва для позитивизма, стараниями утилитаристов школы Бентама, хотя их, по аналогии, лучше сравнивать с французскими «идеологами». И конечно, одним из первых популяризаторов Конта здесь стал Джон Стюарт Милль (1806-1873). Это известный факт, хотя сам Милль имел серьезные расхождения с «контизмом», и представляет как бы альтернативную ветвь развития позитивизма. Такой же альтернативной ветвью был позитивизм Герберта Спенсера (1820-1903) и Томаса Гексли (1825-1895). Всех троих можно смело относить к «научной» ветви позитивизма, к условной школе Литтре, и даже немного более «левой» в этом смысле.
Идеи этих ученых и философов, как мы видели, активно воспринимались как «свои» в среде позитивистов Латинской Америки. С другой стороны, Англия была передовой страной также и в плане распространения «религиозной» ветви позитивизма, условной школы Лаффита. Именно эту версию поддерживала вышеупомянутая Гарриет Мартино. Но центральной фигурой этого направления стал Ричард Конгрив (1818-1899). Как говорит Википедия, он лично познакомился с Контом, посетив Париж вскоре после революции 1848 года, и после этого поддерживал с ним связи. Вслед за Пьером Лаффитом, возглавившем «Церковь Человечества» в Париже и американским журналистом Дэвидом Гудманом Кроули (1829-1889) учредившим «Церковь Человечества» в Нью-Йорке, Конгрив в 1878 году основал и возглавил «Церковь Человечества» в Англии. Та церковь, которую создал Лемос в Бразилии была создана только три года спустя после Конгрива, поэтому бразильцы далеко не первые в этом деле, хотя и самые успешные. Но при том, что в Англии существовала церковь Конгрива, некоторые религиозные позитивисты сохраняли верность напрямую Лаффиту, и поэтому в Лондоне образовалось сразу два религиозно-позитивных общества («Церковь человечества» и «Лондонское общество позитивистов»). Два основных направления, научное и религиозное, как видим, образовались в раздельном виде и на территории Англии.
Отдельно хотелось бы оставить хотя бы пару слов на счет Герберта Спенсера (1820-1903), хотя ему ещё будет посвящен отдельный цикл и полноценная статья. Он один из самых знаменитых мыслителей Англии. Отец английской социологии, и, в частности, печально-известного «социал-дарвинизма». Благодаря этому последнему факту он стал фигурой «темной», и отчасти табуированной (как и Дюринг). В последние 100 с лишним лет почти не переводился на русский язык. Однако, его писаниями вдохновлялись практически все революционные разночинцы в России XIX века, все материалисты и прогрессивные мыслители на этой планете. Он был самым популярным и продаваемым философом в XIX веке, и говорят, что до сих пор (самый минимум он продал 1 млн. копий своих сочинений). И мы не думаем, что здесь так просто можно сказать — «все люди были слепы». Нет, просто их оптика еще не была искажена мемами про нацистов, и они находили множество других моментов, которые соответствовали «прогрессивному» направлению мысли.
До 1848-го года Спенсер был, в первую очередь, инженером (ср. Конт с его политехническим образованием, или Дж. Холиок, ниже по тексту), но вдруг решил заняться публицистикой и наукой. Уже как журналист, он познакомился с крупнейшими позитивистами Англии (Милль, Льюис, Элиот, Тиндаль и Гексли). Он смог лично познакомится с уже «религиозным» Контом во время поездки во Францию. Во многом поэтому Спенсера считают классическим представителем позитивизма. Он и правда развивал ту же логику об иерархии наук, и действительно стремился к систематизации. А также, как и практически все остальные позитивисты в мире, Спенсер был политическим либералом и поддерживал теорию эволюции Дарвина. Из-за мемов про социал-дарвинизм Спенсера интуитивно хочется сделать правым консерватором, находящимся в синем (право-авторитарном) углу политических координат, поближе к Гитлеру. Но на самом деле его аргументация сугубо либертарианская, из желтого (право-анархического) угла координат. В том числе поэтому, в своей типологизации обществ, он считает промышленный тип общества лучшим, чем военный тип (в этом есть нотки еще и от пацифизма). На старости лет он даже поддерживал контакты с фабианским обществом, в частности с таким крупнейшим деятелем соц-дем. крыла Британской политики, как Беатриса Вебб (и это о чем-то, да говорит). Он был не против социальной политики, но хотел чтобы это было делом благотворительности, а не централизованного государственного контроля. Вообще если смотреть с этого ракурса, то Спенсер был сторонником как раз редукции всего искусственного к естественным основаниям, насколько это возможно. Поэтому и политику (искусственное) он считал всецело редуцируемой к экономике (естественное). В этом плане он даже ближе ко многим современным марксистам, чем к Дюрингу, например. В своей первой книге «Социальная статика» (1851 г.), Спенсер предсказал, что человечество в конечном итоге полностью адаптируется к требованиям жизни в обществе, с последующим отмиранием государства. Важнейший принцип его социологии — уподобление общества организму (т.н. органицизм). Этот принцип в экономике применял и такой признанный идеолог свободы, как Хайек, и большинство других либертарианцев, которых, вот-так чудо, не считают социал-дарвинистами или идеологами нацизма. Общество он рассматривает как организм, состоящий из клеток/атомов — индивидов. Такой подход делает его самым типичным материалистом классического образца. Дальше это станет еще очевиднее.
В общем, Герберт Спенсер индивидуалист и натуралист, сторонник максимального либерализма, всех прав и свобод человека. Он общается со многими прогрессивными философами своего времени. Его книги читают далеко не одни только «правые», и несмотря на жесткое неприятие коммунистической идеологии, его берут на вооружение также и социалисты (самый яркий из доступных примеров — П. Н. Ткачев). С этим мы разобрались. Плюс, он рассматривает такие вещи, как «общество» — по аналогии с организмом, и это тоже ясно. Но в соединении с теорией Дарвина это означало также и то, что общество развивается постепенно, путем эволюции. Спенсер отнюдь не думал, что никаких изменений больше не будет, и что принципиально невозможно искоренить крайнюю нищету. В его представлениях о будущем, все это вполне может быть искоренено, но не полностью. Полное равенство людей невозможно, как невозможно создание двух идентичных вещей на уровне атомов. Люди разные, умеют разные вещи, и т.д. И если кто-то делает больше вклада в развитие «организма», то и награда у него должна быть выше. В целом, Спенсер в этой мысли далеко не оригинал, и говорить что он особенно выделяется этим «вправо» — тоже невозможно. Конечной точкой эволюционного процесса должно было стать создание «идеального человека в идеальном обществе», при котором люди станут полностью адаптированными к социальной жизни, как и предсказывалось в первой книге Спенсера. К тому же, он принял утилитарный стандарт высшей ценности – наибольшее счастье для наибольшего числа людей – и кульминацией эволюционного процесса должна была стать максимизация полезности. В идеальном обществе люди не только получали бы удовольствие от проявления альтруизма («позитивное благодеяние»), но и стремились бы избежать причинения боли другим («негативное благодеяние»). Они также будут инстинктивно уважать права других, что приведет к всеобщему соблюдению принципа справедливости – каждый человек имеет право на максимальную степень свободы, совместимую с аналогичной свободой других.
Да, он действительно ушел вправо, только случилось это уже ближе к старости. И если сначала он поддерживал право на голосование женщин и даже детей, то позже выступал строго против этого. Если сначала он был сторонником прогресса и связывал свою идеологию со сломом аристократического режима правления, то со временем он стал больше походить на Конта, и требовал «порядка и прогресса». Но даже в старости Спенсер оставался противником всякого империализма и милитаризма, и открыто выступал против зарубежной политики Британии. Чем философия Спенсера явно отличалась от Конта, так это тем, что он верил в возможность открытия единого закона для всех явлений на свете. Конт тоже хотел доказать, что законы органики и неорганики имеют одну природу, но все таки был слишком аккуратен и старался не посягать на такую степень всеобщности.
Отправляясь от фундаментальных законов физики и идеи изменения, Спенсер приходит к пониманию эволюции как: «интеграции материи, сопровождаемой рассеянием движения, переводящей материю из неопределённой, бессвязной однородности в определённую, связную разнородность, и производящей параллельно тому преобразование сохраняемого материею движения». Все вещи имеют общее происхождение, но через наследование черт, приобретённых в процессе адаптации к окружающей среде, происходит их дифференциация; когда процесс приспособления заканчивается, то возникает связная, упорядоченная Вселенная. В конечном итоге всякая вещь достигает состояния полной адаптированности к своему окружению, однако такое состояние неустойчиво. И поэтому последняя ступень в эволюции — не что иное, как первая ступень в процессе «рассеяния», за которым, после завершения цикла, вновь следует эволюция. Иными словами, Спенсер считал, что вся природа развивается путем дробления на все больше и большей частей. От целого к частям, от общего к индивидуальному. И чем больше элементов в системе, тем она сложнее организована, тем она качественно лучше. Поэтому эволюция идет также по пути «от простого к сложному». Этот эволюционный процесс, как считал Спенсер, можно наблюдать по всему космосу. Это был универсальный закон, применимый к звездам и галактикам, к биологическим организмам, к социальной организации человека и к человеческому разуму. От других научных законов он отличался только большей общностью, и можно было показать, что законы специальных наук являются иллюстрацией этого принципа.
Исходя из таких принципов, Спенсер считал возможным объяснить разум и психологию при помощи физиологии (ср. Кабанис, Траси, идеологи и т.д.). Из-за низкого уровня развития нейробиологии в это время, он с неизбежностью начал развивать точки зрения, сегодня уже выглядящие совершенно нелепо (например, френологию). В самом желании описать все явления одним принципом, который демонстрирует материальное единство мира — ничего плохого мы не усматриваем. К тому же, что как известно, физиогномистом и френологом был и Карл Маркс. Но главная проблема Спенсера (помимо расизма), на наш взгляд, это его практически кантианский агностицизм. Он признавал, что нам доступны только явления, а не сами вещи, но делал из этого онтологические выводы о реальности. А также использовал агностицизм для того, чтобы допустить примирение науки и Бога. Был бы он догматическим материалистом — цены бы ему не было. Иронично или нет, но Герберт Спенсер был похоронен на Хайгейтском кладбище, рядом с Джордж Элиот (с которой в молодости у него был роман, и которая позже стала женой позитивиста Льюиса) и прямо напротив могилы Карла Маркса.
Но про Спенсера и не менее знакового философа Дж. Ст. Милля мы еще будем писать специальные, «авторские» работы, ибо это фигуры первой величины. А здесь мы обратим внимание на фигуры второстепенные и малоизвестные.

Конгрив еще с самого начала формировал свой позитивизм как орудие для борьбы против Британского империализма. Он использовал это как левую идеологию. В таком ключе позитивизм использовался одинаково как «Церковью..» так и «Обществом..». Многие их последователи занимались филантропическими проектами, выступали за улучшение условий труда рабочих, были профсоюзными активистами и т.д (например Чарльз Бут, Эдвард Бизли и многие другие). Члены «Общества..», среди которых числились также такие крупные фигуры, как писательница Джордж Элиот (1819-1880) и литературный критик Джордж Генри Льюис (1817-1878), выступали за расширение автономии Ирландии, за свободу Индии, в поддержку Парижской Коммуны, и особенно прославились «манифестом» против Англо-афганской войны в 1878 году. К слову, Льюис и Элиот однажды посетили дом вульгарного материалиста Якоба Молешотта, которого Льюис очень уважал. Эти деятели не были строго «научными» позитивистами (Льюис даже критиковал превращение позитивизма в материализм эпикурейского типа), но они немного отделились от чрезмерной ортодоксии с религиозными обрядами, на которых настаивал Конгрив. И все таки все вместе они представляют интерес именно как «лево-утопическая» группировка и развитие идей Сен-Симона, через посредничество Конта. И сейчас мы упомянем двоих деятелей, которые особенно выделяются своей экзотичностью, одного из Англии, другого из Франции.
Английский деятель, которого мы хотели бы особенно отметить, это Джордж Холиок (1817-1906), позитивист в рабочем движении, который сделал общеупотребимыми такие термины, как «ура-патриотизм», «шовинизм» (с плохой стороны) и «секуляризм» (с хорошей). Он стал лидером движения «секуляристов», суть которой ясна уже по названию, т.е. движения за преобразование общества с опорой на науку, а не на религию. Хотя он был чисто-рабочего происхождения, в юности смог поступить в институт механики (ср. французская политехника, как база Сен-Симона и Конта), где стал сторонником учения Оуэна. Когда оуэниты начали требовать религиозных обрядов на своих кружках (ср. религия человечества), Холиок порвал с ними. Он заинтересовался позитивизмом и в основе своей принимал «научный» позитивизм, но видимо и здесь его расстраивали религиозные аспекты учения (хотя он поддерживал общение с той же Гарриет Мартино). Поздний период жизни Холиок занимался активным участием и организацией профсоюзного движения в Англии, занимал крупные посты в движении, писал исследовательские работы, по типу «Кооперативное движение сегодня» (1891 г.), и он особенно интересен, как пример рабочего, приобщенного к левым утопистам (Сен-Симон, Конт, Оуэн), активно занимающегося политикой и вопросами рабочего движения, и при этом совершенно незаинтересованный в марксизме.
Второй пример, менее известный, но более яркий, это Фабьен Маньен (1810-1884), плотник по профессии, и очередной видный представитель рабочего класса, который еще в 1840 году стал позитивистом и частью секты Конта (о том, как Конт планировал использовать пролетариат в своих реформах общества мы еще будем писать отдельно, но это — пример реализации). Маньен был в контакте также и с английскими позитивистами Ричардом Конгривом и Эдвардом Бизли. После смерти Конта он стал президентом «Общества позитивистов» (с 1857 по 1880 годы) и распространял так называемый рабочий позитивизм (le positivisme ouvrier). В 1863 году он основал «Круг пролетариев-позитивистов». Это была организация позитивистов из рабочего класса, которые выступали за революцию и были членами Первого Интернационала. Парижский кружок направил Габриэля Моллена (еще один рабочий, коммунист и позитивист, которых в общем-то много разных) своим делегатом на Базельский конгресс Интернационала. Впоследствии, получившие название «Общество пролетариев-позитивистов», они подали заявку на прием в Интернационал в качестве организации. Но генеральный совет ответил, что они должны изменить конституцию в отношении своего понимания капитала и присоединиться как пролетарии, а не как позитивисты. Вступления, вроде как, не произошло.
Это все к тому, что левый утопизм пережил 1848 год, и нормально чувствовал себя еще в конце XIX века. Позитивизм — это форма левой идеологии, которая имела влияние в том числе и на рабочее движение Европы. Попытки рисовать это сплошняком либеральной и буржуазной теорией — не выдерживают никакого сопоставления с реальностью. Как писал французский позитивист-психиатр Эжен Семери (1832-1884) основавший позитивистский клуб в Париже после основания Третьей французской республики: «Позитивизм — это не только философская доктрина, это также политическая партия, которая претендует на то, чтобы примирить порядок — необходимую основу для всей социальной деятельности — с прогрессом, который является ее целью».
Позитивисты Италии
Есть еще, кстати, такая же несправедливо забытая страна/культура, как Испания и Латинская Америка, и это Италия. Раньше мы уже писали чисто обзорную статью про итальянское просвещение (будет ещё дополняться и переделываться), малость затронув даже местных итальянских «идеологов». И конечно же, в Италии были и свои позитивисты, и свои марксисты, и свои гегельянцы (этим она особенно известна). До XIX века Италия, как и Испания, находится в контексте Англо-французского культурного дискурса, может рассматриваться как периферия в рамках этой культуры. Итальянцы ездят во Францию, и копируют ее всюду, где только могут. К середине XIX века, как нам кажется, немецкое влияние значительно усиливается, Италия становится неким симбиотиком. Хотя здесь по идее доминирует «правая» философия, даже сильнее, чем в Испании, и все таки Италия имела своих крупных представителей-позитивистов. Самыми ранними позитивистами в Италии (хотя, как мы увидим дальше, это не совсем верно) считаются Карло Каттанео (1801-1869) и Джузеппе Феррари (1812-1876), защищавшими линию Вико в гуманитарных науках. Уже Каттанео, считающийся крупнейшим из «ранних» позитивистов Италии, был республиканцем, членом социал-утопических кружков революционеров («карбонарии»), и принимал участие в революции 1848 года в Милане. Каттанео желал привести свою нацию от идеалистического романтизма на почву строгой научности. Свой путь в философии Каттанео начал, что характерно, после тесного знакомства с философом-идеологом Романьози. Феррари тоже вышел из кружка Романьози и был левым республиканцем-демократом, но в отличии от Каттанео он много времени прожил в Париже, отлично знал французскую философию, застал революцию 1848 года как в Милане, так и в Париже. Однако ни того, ни другого нельзя назвать последовательными «контистами». Они очень мало зависели от Конта (тот же Феррари скорее «прудонист»), хотя в самой Италии именно с них начинается отсчет национальной версии позитивизма. К этим двоим иногда даже присовокупляют имя крайне яркого итальняского революционера Пизакане (атеист и радикал, близкий к идеям Бабёфа и Буонарроти, но скорее анархист, чем коммунист), но он в ещё меньшей степени может быть позитивистом. Хотя безусловно, все они были материалистами, боролись против теологии и поддерживали научный прогресс.
Из сравнительно ранних около-позитивистов можно упомянуть медика-патологоанатома Сальваторе Томмази (1813-1888). За свой политический либерализм и участие в революции 1848-го он попал в изгнание, и побывал во Франции и Англии. Был крупным популяризатором Дарвина на итальянском языке, и его работы о дарвинизме стали «манифестом» местного позитивизма. Но и этот пример был скорее позитивизмом в стиле Спенсера, чем в стиле Конта, и это трудно назвать ортодоксией. В «Современном натурализме» Томмази провозглашает: «Мы — выходцы из школы Галилея», — а значит, материал и содержание универсальных понятий философы должны черпать только из опыта.
«Объективные естественные науки не могут опираться на априорные метафизические спекуляции, интуицию и еще менее на чувства» (с) Томмази
Здесь будет уместно поставить рядом другого, более позднего медика-позитивиста, Аугусто Мурри (1841-1932). Тут снова сложно проследить «контизм», но он сознательно пользовался «позитивизмом» как методом исследования, и как общей философской концепцией. Учение Мурри обусловлено сочетанием экспериментального метода, открытого Галилеем, и логического индуктивного метода.
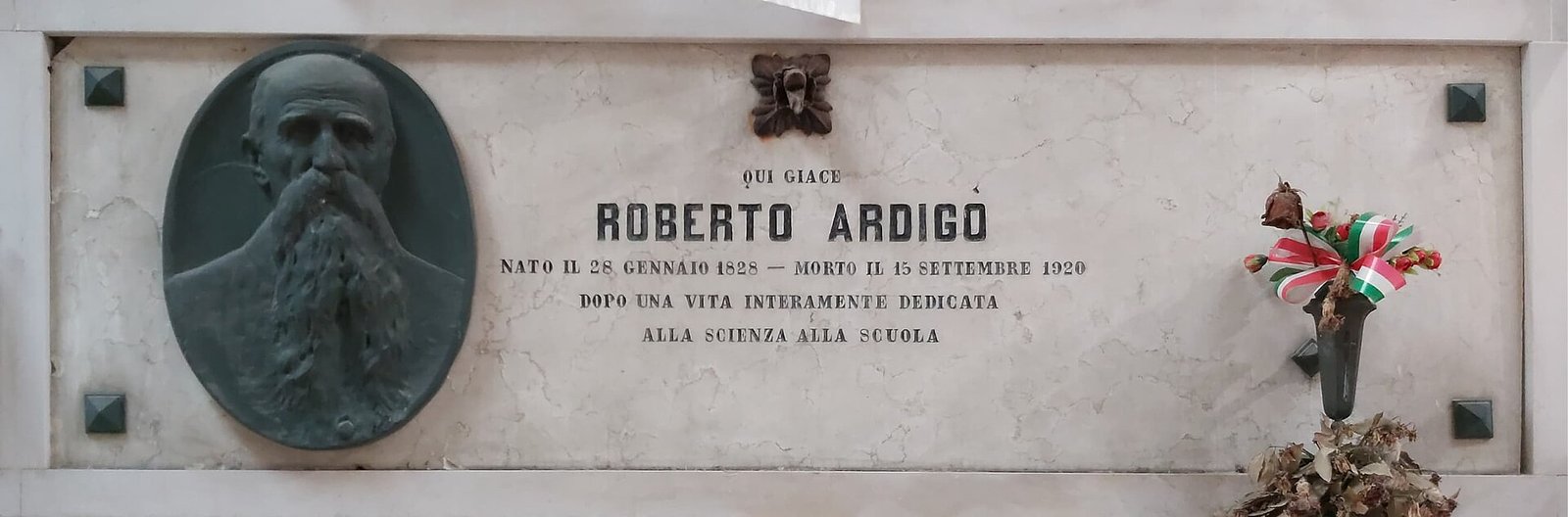
Крупнейшим позитивистом Италии уже в собственном смысле этого слова считается Роберто Ардиго (1828-1920). Перескакивая через всю его раннюю биографию, главные события начали развиваться в 1870 году, когда он опубликовал «Психологию как позитивную науку» (которую, к слову, не признавал наукой Конт). За это он подвергся официальному гонению и отлучению от церкви, что привело его к ответной реакции и стремительному принятию атеизма. Ардиго находился в переписке со Спенсером, хотя не признавал социал-дарвинизм и принижение роли философии. Но также и не был последовательным сторонником Конта (очевидно, из-за своего атеизма). В общем он находится где-то между, в ту зону, в которой можно было бы расположить, например, Милля. Ардиго, что интересно, понимает преемственную линию своих взглядов от эмпириков, просветителей и сенсуалистов прошлых веков. Но выделяя психологию в особую науку, Ардиго враждебно относится к материалистам, которые сводили сознание к материальным атомам, и в этом плане проявлялся его бессознательный стихийный идеализм (хотя он старался сгладить этот момент, и трактовать специфику мышления без признания его нематериальности). Поскольку для Ардиго (как и для многих других итальянцев) была важна фигура Дж. Бруно, то он в значительной степени был пантеистом. И тем самым, если позитивизм и так крайне похож на марксизм, особенно в версии ильенковцев, то усиленный пантеизмом он, по идее, прям обязан стать полной копией той философии, которую сегодня толкают Пихорович и Бурик. Это было бы очень забавно, но к несчастью он гораздо адекватнее этих двух ничтожеств, хотя некоторые сходства все таки видны. Начнем с незначительных сходств. Факт — краеугольный камень философии Ардиго, однако, что это такое?
«Факт имеет собственную реальность, неизменную реальность, которую мы не можем не признавать такой, как она нам дана, с абсолютной невозможностью что-то отнять или добавить. Следовательно, факт божествен, абстрактное же формируем мы, более или менее обобщенно, следовательно, абстрактное есть человеческое».
Посмотрите также, какие вопросы интересовали Ардиго. Свои книги «Естественное формирование факта Солнечной системы» (1877) и «Мораль позитивистов» (1879) он опубликовал после того, как в 1871 г. сложил священный сан. Позже, уже находясь на пантеистических позициях им были написаны работы «Истинное» (1891), «Наука воспитания» (1893), «Единство воспитания» (1893), «Разум» (1894), «Спенсеровская доктрина непознаваемого» (1899). Однако, он все же пытается сгладить свой идеализм, как мы уже писали раньше, и поэтому согласно Ардиго, вся реальность — это природа, и ценно только научное познание. «Позитивист не разделяет субстанцию и пространство, действие и время, природное и сверхприродное, — как теист». За пределами природы нет ничего. Бесконечное позитивистов (см. философия Целого), по сути, нерелигиозно. Реальность — природа, изучаемая частными науками. Философия, в свою очередь, как «общая наука» должна заниматься не первыми принципами, а пределами. Поднимаясь над частными науками, философия посредством интуиции (ощущения и мысли вместе) объемлет природу со всеми ее определениями. Кроме того, в отличие от Спенсера, Ардиго отвергает непознаваемое. Реальность — это природа, а природа познаваема, даже если ее трактовать как предел, недосягаемый для познания. Следует говорить не о непознаваемом в принципе, а о неизвестном, могущем стать предметом познания в будущем. Ещё его природная реальность подчинена закону эволюции. Но если для Спенсера эволюция — переход от гомогенного к гетерогенному, то Ардиго понимает эволюцию психологически — как переход от неразличимого к отчетливому. В начальном ощущении нет антитезиса субъекта и объекта, внешнего и внутреннего, Я и не-Я (вроде и не марксист). Но между духом и материей, Я и не-Я, субъектом и объектом очевидны различия (но вроде и да). Интересно что он все таки много места отводит чувственности, что конечно делает его меньшим идеалистом, чем Ильенкова:
«Дайте мне ощущения в их соединении, и я объясню вам все феномены. Как философ природы может отделить от науки нагромождения всего неконтролируемого и неуловимого, так философ духа смог доказать, что знать, чувствовать, хотеть… и сотня других априорных способностей есть не что иное, как цепь различным образом расположенных элементов».
Еще меньшим идеалистом его делают такие высказывания, как «бесконечное разнообразие форм не есть свидетельство высшей рациональности или провидения, скорее они результат простой механической работы». И самое греховное, что: «Человеческая мысль — один из случайных продуктов космической эволюции, случайное формирование, более или менее странная форма облака, которое, прежде чем исчезнуть, оставляет след на небе и золотит солнце».
Прям особо серьезное распространение позитивизм получил после объединения Италии (в 1870-1900 гг.), дав ощутимые результаты в криминологии (Ломброзо), педагогике (Габелли и Анджулли), историографии (Виллари) и медицине (см. пост выше, про Томмази, Мурри, Ардиго). Хотя в почти весь XIX век в Италии доминировал идеализм, и он будет доминировать снова уже с начала XX века, в последние десятилетия XIX в. позитивизм стал доминирующим в идейной жизни Италии. Крупнейшим позитивистом в историографии был Паскуале Виллари (1827-1917), который защищал позитивный метод в исторических науках, он автор таких книг, как «О происхождении и прогрессе в философии истории» (1854) и «Позитивная философия и исторический метод» (1865).
«Позитивная философия отказывается от абсолютного знания о человеке и о чем бы то ни было другом. Изучая только факты и социальные и моральные законы, терпеливо сопоставляя данные психологии и истории, она выводит законы человеческого духа. Ее интересует не абстрактный человек вне времени и пространства, скроенный из категорий и пустых форм, а реальный и живой человек, изменчивый, раздираемый тысячью страстей, всегда ограниченный и полный жажды бесконечного». (с) Виллари
Он и в других местах подчеркивает всеобщую изменчивость всего на свете, и поэтому невозможность установления абсолютных истин (к слову, эту идею также поддерживал Маркс Ардиго). Но это никак не мешало ему относится к презрением к материализму, находя место в своих взглядах и для «идеального». Характерно и то, что в юности Виллари был членом кружка итальянских левых гегельянцев. В экономике он был сторонником индустриализации, либерализма (хотя и не без социального гос. вмешательства) и критиком социализма как доктрины. В педагогике позитивизм представлен фигурами Аристида Габелли (1830-1891) и Андреа Анджулли (1837-1890). Габелли считается одним из крупнейших популяризаторов позитивизма в Италии, а его философскую концепцию считают схожей с прагматизмом американца Джона Дьюи. Вместе с Виллари он занимался созданием программы для обучения в начальных школах Италии, и старался пропагандировать либеральный подход и развитие критического мышления, по крайней мере в теории. Анджулли изначально был учеником одного из последователей Гегеля, но позже стал позитивистом. Он придерживался позитивизма, отвергал агностицизм Герберта Спенсера, и при этом находил возможным обосновать «религию человечества» Огюста Конта на основе позитивных наук. Он видел педагогику как ключевой инструмент к полному преобразованию общества, а по взглядам, как и многие другие позитивисты, был «лево-либералом». Анджулли считался прогрессивным человеком, близким к социализму, но при этом, судя по личной переписке с Марксом, с которым он встретился в Германии — социализм он оспаривал.
Вообще в Италии особой популярностью пользовались сочинения Герберта Спенсера. С ними далеко не всегда соглашались, но изучали и считались. Примером того, как подобные идеи могут приводить к научному расизму, социал-дарвинизму и т.п. вещам (что мы видели и на примере Латинской Америки), дает нам фигура Чезаре Ломброзо (1835-1909). Но поскольку он в целом идеологически враждебная мне фигура, я не буду особо много о нем писать. Хотя влияние его, безусловно было большим и общеевропейским. Весьма влиятельной в развитии социологической мысли оказалась концепция Вильфредо Парето (функционалистское учение о «социальном равновесии», теория смены элит и др.). Прежде всего экономист-либертарианец, но своими идеями заложил оправдание любой жесткой иерархии и стал символом анти-демократических деятелей, включая итальянских фашистов.
Позитивисты Германии и Австрии
Германия, которая в нашей концепции истории европейской мысли занимает особое место, и вполне сознательно и резко порывает с англо-французской традицией, что закономерно, почти не породила крупных позитивистов. Однако даже здесь определенный след сохраняется. Как минимум, о чем мы уже говорили неоднократно, марксизм можно рассматривать как радикальную вариацию позитивизма. Хотя тут можно еще спорить, немецкая это традиция или английская. Также мы упоминали о серьезном влиянии Конта на философию Дюринга. Кроме того, уже говорилось, что крайне похож на позитивиста — «монист» Геккель, и несомненно, что он находился под влиянием Спенсера и Дарвина. Кроме того, очень близок к позитивизму такой современник Конта, как Александр Гумбольдт. Мы, правда, поместили его в статью про немецкое просвещение (очередной черновик, который будет переписан), но еще будем писать про него отдельный материал. По большей части в Германии не было именно позитивистов, как осознанного «контианского» течения. Здесь также, с оговорками, не было и классического сенсуалистического просвещения. В статье, приведенной выше — я собрал основных деятелей классического просвещения и близких к ним, но они также быстро исчезли из Германии, как и появились. В каком-то виде традицию просветительского материализма продолжили Бюхнер, Молешотт, Фогт (т.н. «вульгарные материалисты»), к которым примыкает по духу тот же Геккель, но это все же материалисты, а не позитивисты. И да, они влияют на позитивизм (в т.ч. на латиноамериканский), и читаются публикой наряду со Спенсером или Миллем. Сюда можно было бы спокойно добавить имена Гельмгольца, Мюллера и многих других. Однако, повторюсь, это не совсем позитивизм. А про «естественнонаучный материализм» стоит, все же, говорить отдельно. В некоторым смысле слова, позитивистские элементы, еще до Конта, проявлялись в философии Шеллинга и Фейербаха, но в обоих случаях эти философы застали Конта, и не оценили его от слова никак. Несмотря на некоторые сходства, их акценты смещены на совсем другие вопросы. Правда стоит признать, что Фейербах оказался ближе всего к оригинальному «контизму», пускай и бессознательно.
Что же на счет позитивизма в собственном смысле слова? Это, безусловно, такие фигуры, как Евгений Дюринг (1833-1921) и Эрнст Лаас (1837-1885). При чем последний сразу сочетает в себе как сенсуализм в духе «идеологов», так и позитивизм в духе Конта. Ничего оригинального он нам не предлагает, а скорее просто систематизирует все «классические» позиции. Считается, что некоторое влияние позитивизма получили историки и политэкономы т.н. «исторической школы», такие крупные их представители, как Вильгельм Рошер (1817-1894) и его ученик Густав Шмоллер (1838-1917). Рошер предпринял попытку обосновать существование экономических законов. Для Шммолера и других представителей историко-экономического направления было характерно признание роли экономики в развитии общества. Они неразрывно связывали экономику с различными сферами жизнедеятельности: государством, религией, правом и т. д. Экономика признавалась основой исторического развития и интерпретировалась как взаимодействие психологических и природных фактором в обществе. Такая теоретико-методологическая позиция была близка к позитивизму, хотя Шмоллер и его ученики всегда подчеркивали свою приверженность принципам немецкого историзма.
Полноценное влияние позитивизма в Германии началось сильно позже, чем в других странах. Более того, Германия даже «перехватила» лидерство в международном позитивизме. Случилось это благодаря учениям Маха и Авенариуса, известного как эмпириокритицизм. Однако мы рассматривали принципиально «первый позитивизм», и поэтому они выпадают из нашего обзора (и скорее показывают, как влияние Канта перевесило влияние французов). По Германии стоит сказать только то, что отсутствие здесь позитивизма скорее «не баг, а фича». Благодаря этому та материалистическая реакция, которая началась в Германии в ответ на засилье Гегеля — была сразу предельно материалистической в своей сути. Здесь уже не было места такой умеренности, как учение «контизма».
Позитивисты Польши
И наверное последняя энциклопедическая сводка в нашей серии будет посвящена Польше. Она стоит отдельного рассмотрения, хотя бы потому, что в статьях часто упоминается польский позитивизм, как пример серьезного явления в жизни нации, и ставится рядом с позитивизмом Бразилии. И в самом деле, Польша очень интересный и специфический пример развития философии. Поляки гораздо меньше, чем те же русские, отставали от передовых новинок западной Европы, по крайней мере до момента полной потери независимости они старались «быть в тренде». Отставание начало ощущаться резче только ближе к XVIII веку, но поняв это, поляки принялись быстро исправлять ситуацию административными мерами. Просвещение в Польше отождествлялось с тем политическим крылом, которое хотело перемен и реформ в Речи Посполитой. В соответствии с философией Просвещения они старались изменить все стороны жизни в стране. Помимо политических реформ, на философию повлияли также широкомасштабные реформы образования. Обучение в духе схоластики было прекращено, распространение получили эмпиризм и сенсуализм. В учебных заведениях под надзором «Эдукационной комиссии» отказались от традиционного курса философии, естественные науки стали изучать отдельно от философии, оставили только логику (однако уже не в классическом, а в сенсуалистском понимании) и элементы этики (утилитаризм и естественное право, способствующие получению образования населением), так что в период 1780-1792 годов философия в Польше практически не преподавалась. По заказу Эдукационной комиссии Кондильяк написал свою «Логику», которая должна была использоваться как учебник. «Логика» Кондильяка занималась описанием познания при помощи чувственного опыта, а не формальных правил рассуждения, как в убранной из учебных заведений логике Аристотеля.
Польша феноменально быстро прошла три этапа развития европейской философии. Изначально, в Саксонский период, доминировало немецкое влияние (рационализм), в виде философии Христиана фон Вольфа. Его сторонниками в Польше были придворный врач короля Лоренц Кристоф Мицлер и член ордена пиаристов Казимир Нарбут. Но уже с 70-х годов XVIII века все большее признание получала французская философия и эмпиризм Джона Локка (сенсуализм). В этот период также работали философы, которых ассоциируют обычно с польской философией Просвещения — Гуго Коллонтай, Станислав Сташиц и Ян Снядецкий. После третьего раздела Речи Посполитой (т.е. после ВФР) главными авторами остаются Анджей Снядецкий, Адам Игнаций Забеллевич и Кристин Лах-Шырма, сторонники шотландского просвещения (кантианство), а также Анёл Довгирд, близкий к «идеологам» по духу, но склоняющийся к философии Канта. На этом моменте, хотя Польша и потеряла независимость, она синхронизировала свои учения с западной Европой. В начале XIX века здесь господствует романтизм и развиваются различные мистические учения, появляются влиятельные гегельянские кружки (имеющие значение даже для Германии, и как говорят, влияющие на младогегельянцев, среди которых был Маркс). При чем все эти идеалистические течения развивались в тени особого «польского мессианизма» (отсылаю к статье на Вики, но уже из названия понятно, о чем речь). В общем, Польша вполне в духе времени, и прошла основные этапы развития очень «осознанно» и четко. Что может считаться ее особенностью.
В таком виде, уже разделенная и потерявшая независимость, Польша подходила к середине XIX века. Постепенно идеализм терял силу, и пропорционально этой потере набирали силу материалистические теории, связанные с развитием наук. Тенденции позитивизма появились уже в польской философии эпохи Просвещения (особенно у Яна Снядецкого, Коллонтая и Сташица, позже также у Михаила Вишневского). В период романтизма эти тенденции угасли, но в 60-е годы XIX века возродились и к 70-м годам сформировали философию, ставшую основной до конца века. На начальном этапе (в период пре-позитивизма) важнейшими авторами были Доминик Шульц и Юзеф Супиньский. Их идеи были переходом от польской мысли эпохи Просвещения к зрелому, варшавскому позитивизму. Они первыми читали и комментировали труды Огюста Конта. Самые известные деятели философии той эпохи — Александр Свентоховский (1849-1938), и Владислав Козловский (1832-1899). Последний, к слову, может считаться даже отчасти украинским философом. Социологом, работы которого имели большое философское значение, был Людвик Гумплович (социал-дарвинист, мигрировавший в Германию).
Важнейшим центром философии была Варшава, центр варшавского позитивизма. В Варшаве работала Главная варшавская школа (1862-1869), после закрытия которой позитивизм постепенно перестал быть единым течением, а философия перестала иметь академический характер. Другими важными центрами философии были Краков и Львов. Главными источниками вдохновения были Огюст Конт, Джон Стюарт Милль и Герберт Спенсер (классика). В этот период на польский язык переведены произведения главных учёных и философов эпохи. Польские позитивисты выдвинули лозунг «органического труда», призывавший все классы польского общества укреплять экономику страны, согласованно трудиться во имя общественного блага. Второй лозунг Варшавского позитивизма — «работа у основ» — призывал шляхетскую и буржуазную интеллигенцию помогать народу, просвещать его, строить в деревне школы и больницы. В своей программе позитивисты видели единственную возможность существования Польши в условиях политического поражения.
Работали также учёные, которые, помимо своей исследовательской деятельности, издавали труды на тему философских и методологических обоснований своих наук, например, Бенедикт Дыбовский и Иосиф Нусбаум-Гиларович в области биологии, Владислав Беганьский в области медицины (польская школа философии медицины), или Мариан Смолуховский в области физики.
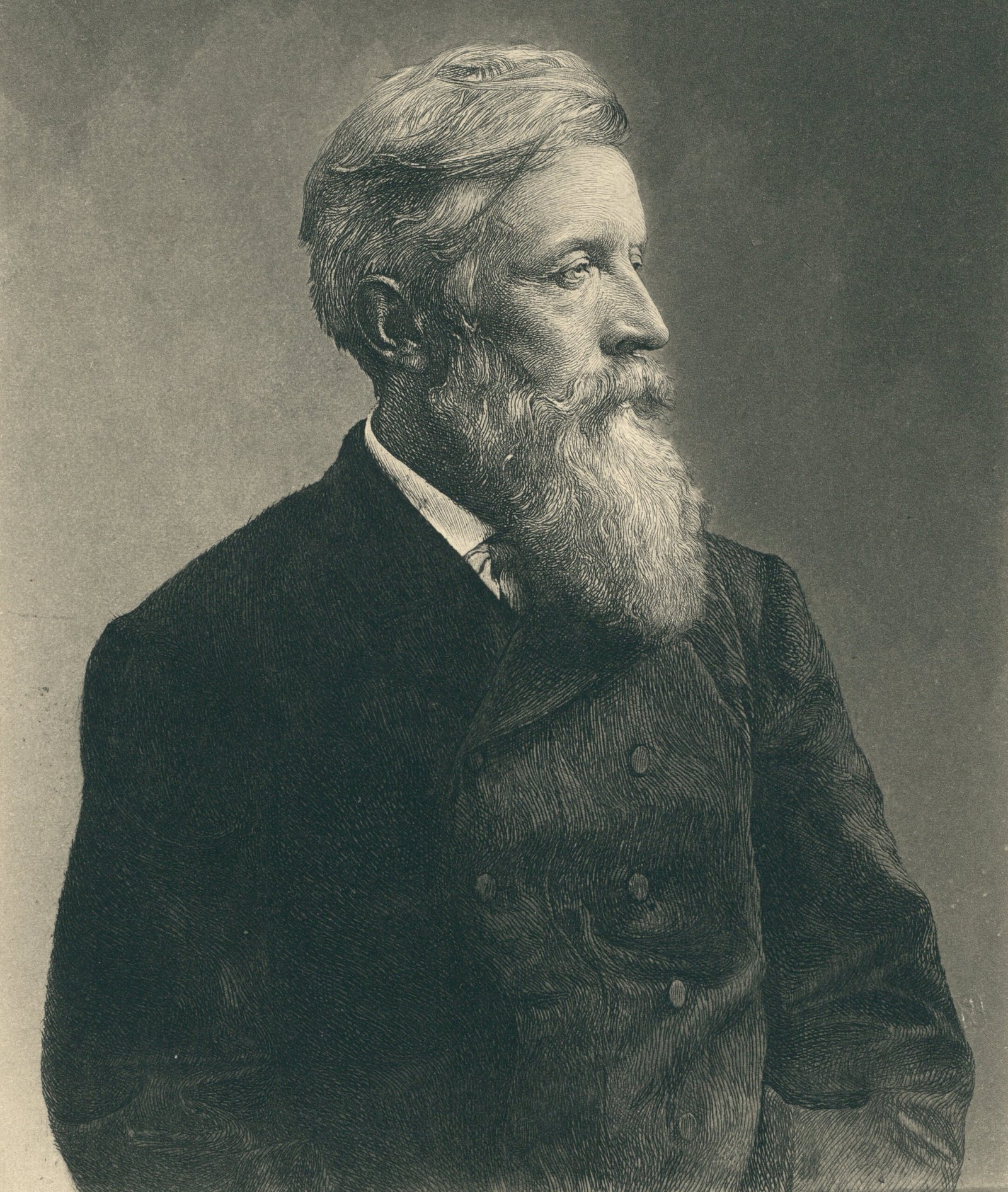
Два направления в Европейской культуре
В процессе публикаций о региональных версиях позитивизма, стало очевидно, что Испания недооценена сильно, как и Италия. Все это какой-то западноевропейский шовинизм в отношении южан, в котором мы все варимся. Потратив всего лишь пару дней на самый беглый просмотр общедоступной информации, сразу открылись просто глобальнейшие просторы. Материалы на целые десятки совершенно уникальных диссеров лежат прямо на поверхности. Правда мы пока не будем в такое закапываться, для начала надо завершить схему развития западноевропейской мысли на более простых примерах, чтобы не сбиваться в детали. А когда уже зацементируем схему развития, в которой будут нормально вписаны те же «идеологи», нормально разобрана эпоха Просвещения на отдельные внутренние направления и течения и т.д., тогда можно браться за систематизацию Испанского материала. Но главное в чем уже можно убедиться, это то, что в этих регионах есть зеркальные аналоги, и порой даже сильные аналоги, всему тому, что мы видим на примерах Франции и т.д.
При чем даже в драматургии, в Испании много сильных драматургов, которые были по сути предшественниками Шекспира, и с которых списывали англичане. И это то немногое, что в принципе признается, и об этом написано немало статей, и даже переводы испанцев на русский есть. Но даже несмотря на все это, когда дело доходит до обобщенных схем, на уровне целой Европы — испанцы вдруг исчезают.. Ну там максимум Дон Кихот. Как будто нарочно создается ложное впечатление, что Испания это провинция, оторванная от цивилизации, и что там только одна инквизиция и орудует. Наверное дело реально в том, что Испания в XIX-й век вошла с очень слабых позиций, и европейские интеллектуалы не хотели учить ненужный им язык. Зачем ехать в Мадрид, если есть Париж. А в XIX-м веке как раз основные «классические» систематизации начали создаваться. И мы провинциальность XIX-го века переносим на прошлые времена, для удобства. Но это конечно очень хреновое искажение выходит, хотя может и менее хреновое, чем то, как мы оцениваем всё на свете через призму Германии.
Не трудно заметить, что ни в Италии, ни в Испании ничего не «тухнет», они просто становятся более бедными в материальном плане, и менее привлекательными из-за этого. Ну и там политические движения за либерализацию были куда сильнее задавлены. Но они в целом развиваются в том же направлении, что и остальные страны Европы. Просто уже не хайповые, потому что изолированы в свой язык. Странно конечно, что не было испанцев, которые бы занимались переводами своих работ на другие языки. Но хотя создается впечатление, что все, полная жопа, религиозное мракобесие в хвост и в гриву, как вдруг ХОП, и мы читаем:
На материалистических позициях, но с элементами позитивизма и агностицизма, стоял испанский естествоиспытатель, врач и гистолог Рамон-и-Кахаль (1852-1934), чьи первые научные работы были опубликованы в 1880 году.
Человек получил нобелевку, отец нейробиологии. Откуда он сумел такой хороший возникнуть в Испании? Очевидно, что он там не в полной изоляции такой самородок. На самом деле ведь с чисто западной точки зрения, для людей которым нафиг не надо было учить русский язык (по тем же причинам, что Россия не привлекательное место для переезда, нищета вокруг), Россия тоже выглядит как пустошь, где ничего не было, КАК ВДРУГ начинают появляться всякие Менделеевы и Сеченовы. Даже для нас, живущих на этих территориях — большая часть нашего собственного наследия неизвестна. А историю развития мысли мы изучаем в первую очередь на примерах Германии, Англии и Франции, и ситуативно вкрапливаем, и то не обязательно, каких-то местных деятелей.
Похоже на то, что Испания оказалась в таком же положении, как Россия, и даже хуже. Потому что Россия действительно ничего крутого до Петра не выдавала, кроме вариаций на тему православия, а вот Испания (как и Италия) как раз выдавала годноту еще в эпоху Возрождения, и была крепче связана с другими странами Европы в одно идейное пространство. А по итогу к XIX-му веку Испания воспринимается даже большей помойкой, чем Россия. И если в России был свой Герцен, который никому за пределами страны не интересен, то таких деятелей в Испании или Италии ничуть не меньше. А вообще что еще в глаза бросается, так это явная зависимость нашей (пост-советской) культуры от Германии. Это реально чем дальше, тем сильнее выглядит, как раскол Европейской мысли на два крупных направления, границей которых является Эльзас и Альпы. Англо-французская и немецкая традиции, или как любят говорить еще — запад и восток.
P.S. Если кто-то из читателей думает, что я сам являюсь позитивистом, или пишу о них так много из симпатии, то это не так. Раньше я уже писал, что вижу в Конте и его наиболее последовательных учениках — не более чем лево-утопическую секту, альтернативную версию марксизма (и сходств там полным полно). Насколько я не являюсь марксистом, настолько же, и даже больше, не являюсь позитивистом. Я вижу в них две разные версии деградации материалистической философии и демократического движения. Но важно понимать, что у марксизма были альтернативы, при чем весьма влиятельные, и местами даже лучшие (хотя в некоторых важных местах и значительно слабее), и менее значительно отошедшими от материализма и демократии в их классическом смысле. По крайней мере позитивизм — это версия на французской, а не на немецкой почве, и этим уже заслуживает уважения.
Признаюсь, я ожидал от позитивизма большего, он сильно меня разочаровал своей «коммунистической» стороной. Но ни «до», ни «после» этого обзора, я не считал и не считаю себя сторонником позитивизма в классической «контовской» версии. Тему «контизма» я думаю закрыть, закончив адаптацию «Общего обзора…» Конта, и ещё адаптировав популяризационные книги про контовский позитивизм авторства Милля и Льюиса; и уже после этих трех публикаций — смогу закончить собственную статью о философии Конта, где резюмирую все прочитанное, и зафиксирую свои выводы об этом.
