
Автор текста: Friedrich Hohenstaufen
Написано в 2020 году
Версия на украинском языке
Остальные авторские статьи можно прочитать здесь
Цикл «Античная философия: гуманистическая революция»:
- Вступление (Зенон Элейский и Новые натурфилософы: Левкипп, Анаксагор, Эмпедокл).
- Первая часть (Контекст эпохи Перикла).
- Вторая часть (Протагор и Продик).
- Третья часть (Коракс, Тисий, Горгий) — вы здесь.
- Четвертая часть (Антифонт).
Демократическая революция на Сицилии
Несмотря на то, что знаменитейшим софистом является Протагор, само это направление возникло в зоне влияния элейской школы. Кроме этого, становление региональной версии софистики в Италии происходило под прямым влиянием философа Эмпедокла и поэта Эпихарма. Как мы уже знаем, оба этих мыслителя находились под сильным влиянием философии Парменида и Пифагора (и даже отчасти Гераклита). Исходя из такого синтеза, совсем не удивительно, что именно Эпихарм создавал первые «софизмы», считая, что этим он создает ироническую сатиру, и как бы иллюстрирует и высмеивает философию Гераклита в самом последовательном виде. Например, самая знаменитая сцена из репертуара Эпихарма показывала как человек, представший пред судом, доказывает, что он ничего не крал, поскольку каждое мгновение он изменяется в своих составных частях, и поэтому становится другим человеком.
Особенно интересным выглядит тот факт, что возникновение демократии в Сиракузах и Афинах — почти одновременное событие; при чем в Сиракузах это произошло даже раньше (467 до н.э., если не считать Афины до падения Ареопага поистине демократической республикой). Как и афиняне, сицилийские греки переживали вторжение персидского союзника (а именно Карфагена), по уровню экономико-социального развития и самому типажу культуры тоже весьма «восточной» страны. Так что оба региона пережили похожие события и процессы в своем развитии. И приход демократии здесь точно также сопровождается возникновением софистики. Да что там, даже позднейшее падение демократии в Сиракузах почти синхронно совпадает с поражением Афин в Пелопоннесской войне (хотя это и странно, всю войну Сиракузы были на стороне Спарты, оставаясь при этом демократическими). Таким образом, на общественно-политическом уровне мы можем наблюдать ситуацию, подобную той, которая происходила в Афинах. Но только если Афины после поражения в войне начали стагнировать, и вскоре утратили статус крупнейшего и богатейшего города Греции, то Сиракузы, наоборот, будучи одним из крупнейших городов Греции всю историю античности, после поражения Афин только ускорили темпы развития и стали важнейшим центром греческого мира, наряду с Александрией в Египие. Так что Сиракузы справедливо можно считать мегаполисом, который стабильно сохранял положительную динамику развития. Правда в рассматриваемый нами период, Сиракузы пока уступали Афинам, но даже в это время они были наиболее стабильным маршрутом для путешествий разных культурных деятелей из Афин.

После свержения тирании в Сиракузах (467 год), когда Эмпедоклу было всего двадцать три года — в регионе начали доминировать демократы. И как мы уже знаем, сам Эмпедокл из Акраганта отметился как сторонник, и возможно даже лидер партии демократов в своем собственном городе (также один из крупнейших в греческом мире, конкурент Сиракуз на Сицилии). А на какое-то время он стал даже правителем в Акраганте. В самих Сиракузах демократию возглавил другой философ, известный по имени Коракс, который благодаря своему ораторскому дарованию, встал во главе управления новой республикой. Немного позже, оставив участие в общественных делах, Коракс открыл собственную школу красноречия. Вместе со своим лучшим учеником по имени Тисий, они считались изобретателями риторического искусства в Греции; Коракс также считался и первым писателем, изложившим в письменном виде правила риторики. Его труд, служивший образцом для последующих риторических учебников, до нас не дошёл. Но что дошло, так это софизм «Крокодил» (ср. парадоксы последователей Сократа из Мегарской школы):
«Крокодил утащил у женщины ребенка, женщина стала плакать и молить крокодила вернуть ребенка. Крокодил сказал: «Если ты угадаешь, что я сделаю, я верну ребенка. Если не угадаешь, то не верну». Женщина сказала: «Ты не вернешь мне ребенка». Теперь крокодил задумался: «Если он вернет ребенка, значит, женщина не угадала, и он не должен его возвращать. Но если он не вернет, то значит, женщина угадала, и по уговору он должен его вернуть. Как же тут быть?».
Про Коракса и Тисия ходили такие же анекдоты, как и про Протагора, в том числе, та самая «тяжба о плате», по которой ученик отказывался платить учителю, за что учитель подает на ученика иск, и при любом исходе дела должен будет получить деньги. Возможно это был какой-то стандартный шаблон логического парадокса, и в реальности ни Коракс, ни Протагор, такого суда не вели. Коракс наиболее известен своей разработкой «аргумента обратной вероятности», также известного как «Искусство Коракса». Если человека обвиняют в преступлении, совершение которого он вряд ли совершил (например, физическое нападение слабого человека на сильного человека, против которого он почти наверняка обречен на провал), его защита будет заключаться в том, что здесь преступление было маловероятным. Его аргумент основан на нехватке средств у обвиняемого. Однако, если человека обвиняют в преступлении, которое он, вероятно, совершил (в случае, когда более сильный человек напал на человека слабее), он также может использовать в свою защиту то, что маловероятно, чтобы он это сделал, по той самой причине, что что это кажется уж слишком вероятным. Здесь можно опираться на отсутствие перспективы уйти незамеченным, не дурак же обвиняемый, чтобы так поступать, если все подозрения тут же падут на него. Коракс работает, предвосхищая ожидания аудитории, а затем противодействуя этим ожиданиям.
Вполне очевидно, что Коракс был немногим старше Эмпедокла (можно считать их даже ровесниками); и также ясно, что Коракс точно застал его философию, и уж точно знал поэзию Эпихарма. Современник и ученик Коракса и Эмпедокла, софист Тисий к 465 году уже был опытным ритором; и жил сначала в Сиракузах, а позже в Фуриях (та самая, основанная Периклом колония, законы которой написал Протагор), и, в конце концов из Фурий он попал в сами Афины. Свои доказательства Тисий строил на основе «вероятности» (то, что мы гипотетически допускали для Протагора и что мы видели только что на примере Коракса), проповедовал вместо «истины» необходимость простого правдоподобия речей; а также установил технику разделения речи на части. Как и всех других софистов, Платон критиковал Тисия и Горгия (о нем чуть дальше), как раз за то, что истину в речах они заменяли правдоподобностью. И это при том, что у самого Платона в диалогах полно фраз в духе: «я ни на что не претендую и пользуюсь вероятным», что позже приведет платоновскую «Академию» к разработке приемов в духе Тисия, и в результате даже к методологическому скептицизму. Чтобы исчерпать эту тему, приведем свидетельство Цицерона:
«…Сицилийцы Коракс и Тисий (а сицилийцы — народ изобретательный и опытный в спорах) впервые составили теорию и правила судебного красноречия именно тогда, когда из Сицилии были изгнаны тиранны, и в судах после долгого перерыва возобновились частные процессы. А до этого никто обычно не пользовался ни методом, ни теорией и лишь старались излагать дело точно и по порядку. Рассуждения на самые знаменитые темы, которые теперь называются «общими местами», впервые составил и написал Протагор; то же самое сделал и Горгий, сочинив похвалу и порицание на одни и те же предметы, так как главным в ораторе он считал умение возвысить любую вещь похвалой и вновь низвергнуть порицанием».
Теперь становится понятнее, почему Эмпедокл сам оказался ритором; к этому его подтолкнуло знакомство с местными софистами, их непосредственное влияние. «Софистами» Коракс и Тисий могут считаться ещё и потому, что они составили учебник красноречия именно с той целью, чтобы можно было обучить этому каждого. При этом мы видим, что данная ветвь софистики базируется на «Италийской» философии; т.е. на работах Пифагора, и, в особенности, Парменида (от которых зависели также Эмпедокл и Эпихарм). Новое направление не было прерогативой афинской школы философии. Да и как мы уже говорили раньше, с возникновением софистики прямо связывали Зенона Элейского, ведь что такое «апория», как не уже готовый «софизм»? Аристотель даже не сомневается, называя Зенона «отцом софистики». Теперь, зная о том, что основные письменные работы Протагора были представлены уже скорее после того, как он основал город Фурии — вполне возможно, что Тисий смог выступить «мостиком» между сицилийской и афинской софистикой, и можно даже допустить, что италийская школа имела приоритет над афинской, и даже могла повлиять на последнюю.
Горгий, как идеолог аристократии
В обрисованной нами выше обстановке вырос младший современник Коракса и Тисия, один из самых знаменитых софистов древности — Горгий (483-380 до н.э.). Вместе с Тисием он учился у энциклопедиста Эмпедокла в городе Акрагант, а позже они вместе изучали риторику у Коракса в Сиракузах. Кроме того, Эмпедокл был не только философом, поэтом и ритором, но и известным врачом, основателем сицилийской школы медицины. Также мы знаем, что и родной брат Горгия тоже был врачом. Поэтому Горгий подчёркивал, что «искусство убеждать» было и остаётся составляющей работы врача. Горькие микстуры, болезненные методы лечения требовали от доктора умения уговаривать больных претерпевать необходимые страдания (случайность ли, что медицинские фрагменты мы находим в наследии Продика, и авторство одного из трактатов корпуса Гиппократа приписывается Протагору?). В одном из диалогов Платона Горгий рассказывает:
«Мне неоднократно приходилось сопровождать брата или других врачей к какому-нибудь больному, который отказывался пить микстуру или не давал оперировать себя ножом или огнём; и там, где увещевания врача оставались тщетными, мне удавалось убедить больного единственно с помощью искусства риторики».
Пройдя такую подготовку, очевидно, что Горгий хорошо знал всю классическую «философию Канона», все теории натурфилософии, включая основы медицины и эмпирические эксперименты. Даже в поздний период творчества Горгия всё это сказывалось на его речах. Античные авторы оставили нам достаточно много свидетельств о том, что Горгий принимал взгляды Эмпедокла на механизм восприятия мельчайших частиц материи через поры в органах ощущений. Как мы увидим ниже в его философском сочинении, теорию ощущений он использовал вполне осознанно, понимая ее в деталях. Но есть и сторонние указания. Например, как пишет Платон в диалоге «Менон»:
— Итак, хочешь я отвечу тебе по Горгию, чтобы тебе легче всего было бы уловить смысл?
— Хочу. Почему же нет?
— Итак, не говорите ли вы (Менон и Горгий) о каких-то истечениях от существующих вещей, следуя Эмпедоклу?
— Точно так.
— И о порах, в которые и через которые истечения проходят?
— Именно так.
— И что из истечений одни соответствуют некоторым порам, другие же меньше или больше их?
— Так.
— И зрением ты что-то называешь?
— Да.
— Ну так из этого «уразумей, что я тебе говорю», как сказал Пиндар. «Цвет есть истечение от тел, соответствующее зрению и им воспринимаемое».
— По моему мнению Сократ, это — наилучший ответ,
— Может быть ответ так понравился тебе оттого, что он соответствует привычному тебе образу мыслей. И, кроме того, как я думаю, ты надеешься, что сможешь из него вывести, что такое голос, что такое обоняние и, многое другое из подобных вещей.
— Без сомнения.
Здесь Горгий изображен будто бы даже сенсуалистом, а в другом сочинении, перипатетик Теофраст рассказывает об этом еще более подробно:
Что они возжигают свет от солнца отражением его лучей от гладких поверхностей, причем присоединяют к этому трут, а от огня не зажигают, причиной этого является то, что свет солнца состоит из таких частиц, а также то, что беспрерывно текущий свет бывает более отражаемым, а тот (огненный, а не солнечный) свет не может отражаться вследствие несходства. Таким образом первый вследствие скопления своих частиц и тонкости их проникает в трут и может зажигать его, а второй, не обладая ни тем ни другим свойством, не может делать этого. Воспламенение же происходит от прозрачного камня, меди и серебра, обработанных определенным образом, а не вследствие того это бывает, что огонь уходит через поры, как говорит Горгий, и как думают также некоторые другие.
Применение сенсуалистической и материалистической риторики мы увидим во всех крупных работах Горгия, как в книге «О природе», так и в «Защите Паламеда» или «Похвале Елене». Однако, не всегда эта риторика комплементарная по отношению к материализму. И даже соглашаясь с тем, что в природе человека основным «компасом» поступков является поиск блага и избегание зла (т.е. утилитаризм), он не связывает благо с наслаждениями, а зло со страданиями. Напротив, как правило Горгий отстаивает консервативные позиции. Но обо всем этом в деталях будет сказано дальше, а пока достаточно того факта, что Горгию совсем не чужды вопросы натурфилософии.
Неизвестно когда именно, но от этих вопросов Горгий перешел к чистой риторике, и наглядно убедился в том, что язык способен творить чудеса. Точно также, как в случае с Протагором, говорили что он брал плату за обучение размером в 100 мин (позже говорилось, что Платон выкупил пифагорейские книги за 100 мин, и вообще эта цифра может быть не более, чем каким-то «мемом»), и вся педагогика Горгия была основана на убеждении, что искусству красноречия можно обучиться эмпирическим путём. Метод обучения состоял в составлении типовых образцов, которые ученику следовало заучить наизусть. Большую часть своих сочинений Горгий написал еще находясь в Сицилии, в частности свой главный философский труд: «О природе, или О несуществующем» (ок. 444 г.).
Гораздо позже (и вероятно вместе с Тисием) в возрасте уже около пятидесяти шести лет (ок. 427 г.), Горгий переехал в Афины, где помимо прочего, он обучал будущего киника Антисфена. В Афины его отправили как посла его родного города Леонтины, которому угрожало нападение Сиракуз (ср. как Продик был послом Кеоса, Гиппий послом Элиды и т.д.). Горгий должен был убедить афинян пойти военным походом на Сиракузы, которые находились в состоянии войны с Леонтинами. Это означает, что его город был союзником афинян и врагом спартанцев в Пелопонесской войне. Но большую часть жизни Горгий прожил в Лариссе, главном центре Фессалии. Здесь он особенно был дружен со своим учеником Ясоном, тираном города Феры, который впоследствии станет правителем всей Фессалии и серьезным претендентом на объединение Греции. Что отец Ясона, что он сам, что остальные правители Фессалии, все они, практически всегда были союзниками Спарты. Когда Спарта оказалась на грани разрушения войском фиванцев, именно давление Ясона привело к тому, что Спарту пощадили. Наверное не случайно, что среди учеников Горгия числился выдающийся ретроград Антисфен, и не случайно может быть то, что Горгий удостоился чести получить памятник в Дельфах, религиозном центре про-спартанской аристократии. Также не случайно, что из всех софистов Платон почему-то выделяет Горгия, как самого адекватного. К этому мнению нас подталкивает еще одно биографическое свидетельство про Горгия:
«Видя, что Эллада враждует, он стал советовать грекам держаться единомыслия, направляя их против варваров и убеждая их, чтобы греческие города сражались не друг с другом, но с землей варваров». И в другой речи: «Он подстрекал афинян против мидян и персов и проводил ту же самую мысль, что и в Олимпийской речи, об единомыслии всех эллинов».
Эти речи он произносил в Афинах прямо в разгар войны со Спартой. Мало того, что Горгий поддерживает концепцию разделения эллин/варвар, он еще и поддерживает классическую позицию аристократов в этой войне и подыгрывает спартанской пропаганде (ср. Аристофан). Наверное, в совокупности этих фактов можно сделать вывод, что Горгий был сторонником аристократии и выступал на стороне Спарты в войне, по крайней мере как идеолог.
Философия Горгия
Фактически Горгий считается вторым по значимости софистом, после Протагора. Но если Протагор, примыкая к ионийской традиции, развивал своё учение об относительности на основе чувственного познания и теории субъективности ощущений, то Горгий, примыкавший к италийской парменидо-пифагорейской традиции, основывал свой релятивизм на трудностях, в которые впадает разум. Он пытался построить непротиворечивое мировоззрение на уровне философских категорий и понятий (и здесь огромную роль сыграла чистая риторика, тогда как у Протагора больше значимости имеет таки философия, а не простая игра в слова). Эта тяга к понятийному мышлению была прямым следствием элейского стиля философствования. Но и здесь может показаться, что особой разницы между ними нет; и там и там одинаковый результат — релятивизм. К тому же понятия и категории разрабатывали также и Афинские софисты, и этим они углубляли и конкретизировали познание. Также можно сказать, что и Протагор говорит о «трудностях, в которые впадает разум», и что разницы в таком случае тоже нет. Но всё же разница была, и она была существенна. Если Протагор учил, что «всё истинно», ибо как кому кажется, так оно и есть, то Горгий — совсем наоборот, говорит что «всё ложно». Уже само название главного произведения Горгия — «О природе, или О несуществующем» – подчеркивало отличие позиции Горгия от позиции его современника, элеата Мелисса, автора сочинения «О природе, или О существующем». В отличие от элеатов, отрицающих небытие и отождествляющих бытие, речь и мышление, Горгий (продолжая, впрочем, их рационалистическую линию) наоборот отделял речь от мышления, а мышление от бытия:
«Ничто из существующего не существует. Нет никакого бытия. Если что и существует, то оно непознаваемо для человека; если оно и познаваемо, то все же по крайней мере оно непередаваемо и необъяснимо для ближнего».
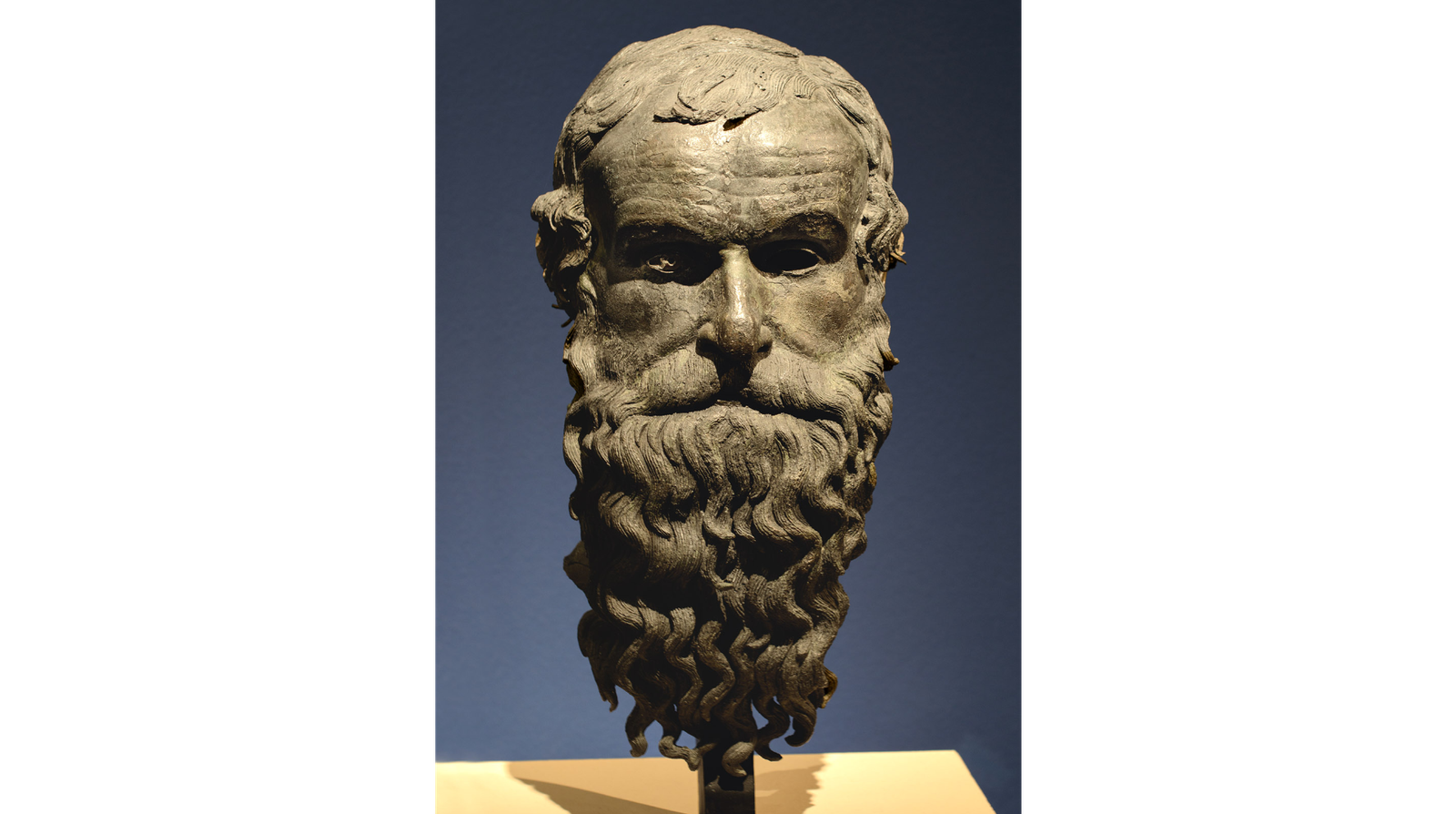
Ничто из существующего не существует. Нет никакого бытия.
Распишем этот тезис более подробно, в том виде, в котором его сохранил Секст Эмпирик в своем сочинении «Против Математиков» (существует еще краткая версия этого текста, авторства псевдо-Аристотеля, которую можно прочитать здесь). Между цитатами мы будем делать паузы с комментариями. Этот раздел может быть труден для восприятия «на лету», поэтому читать нужно вдумчиво. Однако можно пролистать этот кусок, разбор фрагмента заканчивается здесь. Аргументация Горгия начинается с тезиса о том, что Парменид прав, и что небытия действительно нет.
О том, что ничто не существует, Горгий рассуждает следующим образом. Ведь если что-нибудь существует, то оно есть или бытие, или небытие, или и бытие и небытие (то и другое вместе). Но не существует ни бытие, как он далее будет доказывать, ни небытие, как он будет убеждать, ни бытие с небытием, как он будет учить. Итак, ничто не существует. И в самом деле, небытие не существует. Ибо если небытие существует, то оно будет вместе существовать и не существовать. Ведь поскольку оно мыслится несуществующим, оно не будет существовать, но поскольку небытие есть (как понятие), оно, наоборот, будет существовать. Но совершенно бессмысленно, чтобы что-нибудь вместе существовало и не существовало. Итак, небытие не существует. И, кроме того, если небытие существует, тогда уже бытие не существует. Ибо они противоположны друг другу, и если небытию случилось быть, то бытию придется не быть. Но бытие, конечно, существует, и поэтому небытие не будет существовать.
Главной проблемой этого фрагмента является то, что даже приняв аргументацию Парменида о пустоте, Горгий вводит дополнительные параметры, которые там строго говоря не-необходимы. Даже если действительно нельзя существовать и не существовать одновременно (принимая принцип невозможности противоречия, поддерживаемый Протагором), и надо выбрать какое-то одно состояние, то все равно нет никаких причин считать, что небытие не существует. С таким же успехом противоречие можно было решить, выбрав вариант существования небытия. Доказательств того, почему надо выбрать именно не-существование, по сути, нет. Для Горгия нереальность небытия почти самоочевидна, он верит Пармениду на слово. Точно также, считая, что обязательно нужно выбрать одно из двух, он просто констатирует, что существование бытия очевидно. И это было бы нормальным, чисто элейским аргументом, если бы не тот факт, что на самом деле Горгий не считает, что «бытие, конечно, существует». Получается он использует аргумент, который для него же самого не имеет силы. Это простая софистическая уловка. Он буквально тут же делает свой главный аргумент — пустым звуком; ведь сразу после уже сказанного, он продолжает:
И однако, бытие также не существует. Ибо если бытие существует, то оно или вечно, или возникло, или вечно и вместе с тем возникло (и то и другое). Но оно, как мы далее покажем, ни вечно, ни возникло, и ни то, ни другое вместе. Следовательно, бытие не существует. Ибо если бытие вечно, ведь должно начать с этого (а почему бы не начать с возникшего?), то оно не имеет никакого начала. В самом деле, все возникающее имеет какое-либо начало, вечное же, существуя невозникшим, не имело начала. Не имея же начала, оно бесконечно. Если же оно бесконечно, то оно — нигде. Ибо если оно где-нибудь, то то, в чем оно есть, отлично от него самого, и таким образом бытие, поскольку оно чем-то объемлется, не будет более бесконечным. В самом деле, объемлющее больше объемлемого, бесконечного же ничто не может быть больше; следовательно, бесконечное не находится нигде.
Совсем не ясно, почему «не имеющее начала» обязательно должно быть бесконечным. Это очередное произвольное допущение, которое будет дальше использовано для псевдо-доказательства. Тем не менее, примерно так и аргументировали философы элейской школы, поэтому как иллюстрация ошибочности подобной философии, такой прием вполне подходит. В конце фрагмента Горгий делает вывод, что бесконечное находится «нигде», поскольку действительно, чтобы находиться «где-то» или «в чем-то», нужно допустить какой-то резервуар, не входящий в состав бесконечного-единого. Этот классический аргумент против Парменида уже использовал и даже исправил Мелисс, буквально превратив шарообразную сферу «Единого» в бесконечность. Но Горгий делает вывод, что находиться «нигде» = тоже самое, что и отсутствие. Это очередной софизм чистой воды, основанный на простом словоупотреблении и обыденной логике из мира единичных вещей. Именно это последнее и опровергают философы элейской школы. В таком смысле Горгий, опровергая элеатов, даже играет на руку философам частей, т.е. «новым натурфилософам». Предвосхищая возможный выпад от последователей Мелисса, Горгий продолжает развивать тему с «местом» и «резервуаром»:
Однако, бытие не содержится и в самом себе. Ибо в этом случае тождественным будет то, в чем что-нибудь, и то, что в самом себе, и бытие станет двумя сущностями: местом и телом. А именно, то, в чем что-нибудь, есть место, а то, что в самом себе, есть тело. Но это бессмыслица, чтобы место и тело были тождественны. Итак, бытие не находится и в самом себе. Таким образом если бытие вечно, то оно бесконечно; если же бесконечно, то оно — нигде; если же нигде, то не существует. Следовательно, если бытие вечно, то оно совершенно не существует. Но и в том случае, если бытие возникло, оно не может существовать. Ведь если оно возникло, то оно возникло или из бытия или из небытия. Но из бытия оно не возникло. Ибо если бытие существует, то оно нe возникло, но уже существует. Из небытия оно также не могло возникнуть. Ибо небытие, не может ничего породить, вследствие того, что то, что способно производить что-либо, необходимо должно быть причастным какому-нибудь бытию. Следовательно, бытие также не возникло. На тех же самых основаниях бытие не есть и то и другое вместе, то-есть вечное и вместе возникшее. Ибо эти предикаты уничтожают друг друга, и если бытие вечно, то оно не возникло, и если возникло, то не вечно. Следовательно, если бытие ни вечно, ни возникло, ни то и другое вместе, то бытие существовать не может.
В принципе, мы можем сделать вывод, что если бытие вечно и бесконечно, то оно существует без понятия «места», или включает это понятие в себя. Так что аргументация Горгия не совсем совершенна, она основана на «самоочевидности» того, что место и тело — разные сущности. А аргументом про то, что бытие не могло возникнуть, он, в принципе, только усиливает позиции элейской школы, если признать, что в примерах выше оспорить их не удалось. Это вполне догматический аргумент против порожденности Бога.
И сверх того, если оно существует, то оно есть или единое или многое. Но, как будет далее доказано, оно не есть ни единое, ни многое. Следовательно, бытие не существует. Ибо если оно единое, то она есть либо количество, либо непрерывность, либо величина, либо тело. Но чем бы из всего этого оно ни было, оно не есть единое. Но, будучи каким-либо количеством, оно будет делиться на части: будучи же непрерывным, оно будет рассекаться на отдельные части. Подобным же образом и то, что мыслится как величина, не будет неделимым. Будучи же телом, оно будет трехмерным. А именно, оно будет иметь длину, ширину и глубину. Но нелепо утверждать, что бытие не состоит из этих вещей. Следовательно, бытие не есть единое.
Эта часть аргументации особенно интересна, потому что ее вполне можно было бы развернуть и против философов-атомистов. Если атом — это тело, то оно как минимум будет трехмерным, а значит будет иметь стороны. Если оно имеет стороны, то уже фактически делится на части. Здесь под «частями» подразумеваются умозрительные части, т.е. левая и правая сторона, какие-то определенные углы и т.д. Понятно, что «неделимость» атома состоит не в этом, а в невозможности разделить его буквально на две частицы меньшего размера, но Горгий явно пользовался бы словесной путаницей, чтобы доказать, что атом делится на разные части. Впрочем, он намекает и на то, что любое тело делимо по определению самой телесности, так что особых аргументов против атомизма Горгию и не нужно, было достаточно только констатации бесконечной делимости. Но ясно, что Горгий написал эту часть не против атомистов, а скорее опять против Парменида и его школы. В следующем разделе он переходит от единого к многому, и казалось бы, вот здесь уже мы должны перейти к критике атомизма. Но как это ни странно, мы видим только это:
Но оно не есть и многое. Ибо если оно не есть единое, то оно не есть и многое. В самом деле, множество есть соединение отдельных единиц; поэтому с уничтожением единого уничтожается вместе и многое. Отсюда очевидно, что и бытие не существует, и небытие не существует.
Никакой аргументации, Горгий просто отказался от всякой проблематики, приняв позицию «философов целого», как самоочевидную. Части не могут существовать без целого, поэтому если он уже доказал, что целого нет, то из этого автоматически следует, что нет и частей. Вот и всё. И ему совсем безразлично, что в процессе опровержения целого он буквально доказал существование частей. Он игнорирует этот момент, и просто повторяет расхожее мнение элейской школы. Выходит, что математические аргументы (делимость до бесконечности) и аргументы элеатов (целое важнее частей) его полностью устраивают, как фундаментальные. И только в качестве ритора он решил их опровергнуть, забавы ради.
Легко доказать, что то и другое вместе, то-есть бытие с небытием, тоже не существуют. Ибо если небытие существует, и бытие тоже существует, то небытие будет тождественно с бытием, поскольку это касается вопроса существования. И поэтому и первое и второе из них не существует. Действительно, что небытие не существует, это бесспорно. Но только что было доказано, что бытие тождественно с ним. И оно (бытие), следовательно, не будет существовать. Но если бытие тождественно с небытием, то оба они вместе не могут существовать. Ибо если то и другое сосуществуют, то они не одно и то же; и если и то и другое одно и то же, то нельзя сказать, что существуют они оба вместе. Отсюда следует, что ничего не существует. Ибо если ни бытие не существует, ни небытие, ни оба они вместе, а помимо их ничего нельзя мыслить, то не существует ничего.
Поразительно то, что в предыдущих случаях, Горгий просто констатировал факт того, что разные вещи не могут иметь одновременно противоположные качества. Он пользовался законом невозможности противоречия. Но теперь преспокойно заявляет о тождестве бытия и небытия. Снова вся эта возможность игры с понятиями упирается в концепт строгого подхода к понятиям. Он вполне понимает, как и любой другой любитель парадоксов, чем отличается лошадь от Пегаса или кентавра (в плане существования или вымысла), но все же настаивает на парадоксе, демонстрируя ограниченность категориального аппарата людей. С какой целью он этим занимается, понять трудно. Относится он к этому, как к изъяну в языковом инструментарии, или как к выявлению сущности вещей, также не понятно. Но вполне можно допустить, что накаляя подобные рассуждения до предела, он пытается, в первую очередь, ниспровергнуть философию элеатов, и цель здесь оправдывает средства.
Если что и существует, то оно непознаваемо для человека
В последней приведенной цитате Горгий вновь возвращается к тому, что небытие существует в качестве понятия, но если оно хотя бы так существует, то оно уже бытие. В самом начале это было использовано, как аргумент о том, что понятие небытия бессмысленно. Но теперь, когда это стало удобно, он использует эту же мысль как доказательство тождества бытия и небытия. Но самое главное, что в очередной раз мы видим, как для Горгия аргументы элеатов кажутся самоочевидными, и в общем-то наиболее приближенными к истине. Да, он оспаривает их, доводя их логику до предела, но аргументы противников элеатов Горгий не считает даже заслуживающими разбора. Или, все же, намеренно их обходит, чтобы не критиковать то, что ему на самом деле больше импонирует?
Но даже если бы что-нибудь и существовало, оно было бы для человека неизвестным и непознаваемым, как это сейчас должно быть доказано. А именно, если то, что мыслится, говорит Горгий, не есть тем самым существующее, то бытие не есть то, что мыслится. Это логически правильно. Ибо подобно тому, как если бы предметы, которые мыслятся, были бы белыми, то отсюда вытекало бы, что белое есть то, что мыслится. И точно так же, если бывает, что то, что мыслится, само не существует, то отсюда с необходимостью вытекает, что существующее не есть то, что мыслится. Именно поэтому здравомысленно и логически последовательно утверждение: «Если то, что мыслится, не есть существующее, то бытие не есть то, что мыслится». Между тем то, что мыслится, и это следует заранее отметить, не есть существующее, как мы докажем. Следовательно, бытие не есть то, что мыслится. И действительно, то, что мыслимое не есть существующее, это очевидно.
Горгий исходит из дуализма реальности и мышления, вновь присоединяясь к позиции элеатов. Отсюда и парадокс, если бытие = реальность, то оно не является мышлением, и значит ни одна мысль не может быть бытием.
Ибо если мыслимое есть существующее, то все мыслимое существует, где бы кто что-ни помыслил. Это совершенно противоречит здравому смыслу. Ведь если кто-нибудь мыслит человека летающим или колесницы едущими по морю, то, отнюдь это не значит, что и на самом деле в тот час человек летит или колесницы едут по морю. Таким образом мыслимое не есть сущее. Сверх того, если мыслимое есть сущее, то небытие не может мыслиться. Ибо противоположным вещам присущи противоположные свойства, а небытие противоположно бытию. И поэтому во всех отношениях если бытию свойственно мыслиться, то небытию будет свойственно не мыслиться. И это нелепость. Ведь Сцилла и Химера и многие из несуществующих вещей мыслятся. Следовательно, бытие не есть то, что мыслится.
Снова бросается в глаза, что эти же аргументы можно было применить к небытию, которое стало тождественным бытию только потому, что оно существует в мышлении. Примени Горгий раньше эту новую аргументацию, то все его парадоксы рухнули бы. Но он скачет от одного подхода к другому, в зависимости от удобства в каждый конкретный момент. В общем смысле, аргументация Горгия вполне обыденна, и совершенно не кажется намеренным издевательством. Он буквально защищает здравый смысл и позиции науки о том, что существует разница между «истиной» и заблуждениями с фантазиями. Если любая фантазия объявляется бытием, или если стереть дуализм, то получится, что научная истина и литературный вымысел — в одной и той же категории, на одном уровне. Как мы помним, Протагор именно к этому и приходит. Правда, он не считает, что это приведет к какому-то коллапсу мышления, но в целом, соглашается, что если мы видим единорога в припадке горячки, то мы реально видим единорога, это истина. Задача только в том, как понять, почему этот объективный процесс происходит именно так. Для Протагора было бы недостаточно просто сказать, что единорога нет, ведь больной все равно будет его видеть. И это совершенно разные подходы к проблеме «истины». Здесь Горгий вновь оказывается на стороне «объективистов», подобно Пармениду, Платону и многим другим. С другой стороны, Горгий действительно прав, ведь следуя его аргументам, получается так, что даже вполне реальные объекты, например карандаш, как предмет мысли — не тождествен карандашу как материальному объекту. Это два разных карандаша, мыслимый и реальный. Один состоит из дерева и гранита, а другой из «мышления» (или из клеточного вещества нейронов, если модернизировать), это совсем разные материи. Так что, этот фрагмент Горгия очень даже важен, и он снова показывает нам, что Горгий принадлежит скорее к италийской традиции философии. Но что самое интересное, здесь Горгий называет мифологических персонажей «несуществующими», и при желании, это легко можно распространить на другие части античной религии, ведь если Сцилла — вымысел, то вымысел и всё произведение Гомера, а значит и практически вся греческая религия, включая Зевса и всех богов.
И подобно тому как те вещи, которые видятся, называются видимыми вследствие того, что их видят, и то, что слышится, называется слышимым, потому что его слышат, и мы не отбрасываем видимое за то, что оно не слышится, и не пренебрегаем слышимым за то, что оно не видится, ибо о каждом из них должно судить по его собственному ощущению, а не по чужому. Точно также и мыслимое будет существовать даже в том случае, если оно не видится зрением и не слышится слухом, потому что его надо брать с точки зрения его собственного критерия. Итак, если кто-нибудь мыслит, что колесницы едут по морю и не видит их, то он, все же должен верить, что существуют колесницы, едущие по морю. А это нелепость. Следовательно бытие не есть то, что мыслится и понимается.
В этом моменте Горгий использует аргументы сенсуализма, чтобы доказать, что мышление является шестым чувством, а значит, по аналогии с другими ощущениями, оно должно судить о той информации, которая подобает именно ему. Слух не судит о данных зрения, вкус не судит о данных слуха и т.д., и только сделав мышление шестым чувством, он может смело заявить, что оно не судит о данных всех пяти чувств, и значит любое сенсуалистическое восприятие — ничего не доказывает, равно как и отсутствие этого восприятия. Если я не вижу минотавра, но могу его вообразить, то отсутствие классического эмпирического опыта (пяти чувств) еще ничего не доказывает. Забавно, что Горгий заключает, и вполне однозначно, что «это нелепость». Т.е. он все таки считается со здравым смыслом, и не собирается доказывать абсурдные положения. Вполне можно допустить, что прием с шестым чувством — очередной продуманный софизм, но также можно допустить и то, что он вправду воспринимал мышление именно так. Правда, таким образом, хотя Горгий и продолжает верить восприятиям, он не считает их критерием истины. Поэтому Горгий не является методологическим сенсуалистом, и вообще, по сути дела, все эти аргументы выглядят идентично тому, что могли выдвигать позднеантичные скептики. В таком случае, Горгия можно считать первым методологическим скептиком на манер Секста Эмпирика, если, конечно, все эти цитаты не являются модернизацией от самого Секста.
Если оно и познаваемо, то все же по крайней мере оно непередаваемо и необъяснимо для ближнего
Но даже если бы оно понималось, его нельзя было бы передать другому. Ибо если существующие вещи, которые представляют собой внешние субстраты, видимы, слышимы и вообще ощущаемы, причем из них видимые вещи схватываются зрением, слышимые слухом и не наоборот, то каким образом эти вещи могут сообщаться другому? Ведь то, посредством чего мы сообщаем, есть слово, слово же не есть субстрат и бытие. Следовательно, мы сообщаем ближним не то, что существует, но слово, которое отлично от субстратов. Итак, подобно тому, как видимое не может стать слышимым и наоборот, точно также обстоит дело и с нашим словом, так как бытие лежит вне нас.
В своей аргументации Горгий исходит из материалистической предпосылки о том, что вещи вне нашего восприятия — это реальные объекты, воздействующие на органы нашего восприятия. Красный плащ воздействует на наши глаза, и мы получаем информацию о красном цвете. Но как можно передать словами информацию о цвете? Это тоже самое, что увидеть красноту ушами или ртом. Строго разделив все органы восприятия и мышление, Горгий делает невозможным познание, но даже если мы соединим все каналы восприятий в одном центре (мозге) и все таки выйдем из этого тупика, то передача информации посредством слов продолжает казаться непостижимой (см. современная проблема т.н. «квалиа»). Понятно, что можно грубо вызвать ощущение красноты у собеседника, если просто принести и показать ему тот же предмет. Но вызвать ощущение предмета без наличия самого предмета, это звучит, действительно, абсурдно. Правда, любому ныне читающему вполне ясно, что память и ассоциация идей справляются с этой проблемой, и мы просто создаем ряд ассоциаций, благодаря чему одного вида персика достаточно, чтобы подумать о его шероховатой текстуре. Никакого парадокса в этом нет, но строго логически, если поступить как Горгий, и максимально обособить каждый канал восприятий, не усложняя картину дополнительными механизмами, то здесь действительно можно увидеть парадокс. Для Горгия все это выглядит еще проще. Он переходит к банальному обывательскому представлению о словах и делах, т.е. словах и реальности. Мол, если я на словах подарил человеку новый дом, то никакой дом из воздуха не материализуется. Различие между словом и реальностью на таком примере наиболее очевидно, примерно таким «сущностным» различием Горгий и пользуется. Об этом всем, буквально, речь идет дальше, в последней части его рассуждения:
Не будучи же сущим, слово в своем значении не может быть показано другому. И в самом деле, говорит он, слово и его смысл образуются от доходящих к нам внешних вещей, то-есть от ощущаемых вещей. Ибо от попадания на язык вкусового вещества возникает у нас слово, произносимое для обозначения этого качества, а от знакомства с цветом — слово для обозначения цвета. Если же это так, что слово не представляет нам внешнюю вещь, то внешняя вещь открывает смысл обозначающего его слова. И в самом деле, нельзя говорить, что как видимые и слышимые вещи суть субстраты, так и слово. И что из его субстрата и бытия могут быть открываемы субстрат и бытие обозначаемой им вещи. Ибо даже если слово и есть субстрат, но и тогда оно отличается от субстратов прочих, и, в частности, весьма сильно отличаются видимые тела от слов. Ведь посредством иного органа познается видимое, и посредством другого — слово. Следовательно, слово не открывает многих субстратов, подобно тому как и те не раскрывают природы друг друга.
Этим и заканчивается философский фрагмент Горгия. Фрагмент о словах особенно важен тем, что дает нам намек на отношение Горгия к речи, как к инструменту. Не предметы объясняются словами, а слова — указанием на предмет, который это слово обозначает. Выражаясь метафорически, мы берем слово, не понятное иностранцу, и делаем его понятным, когда приносим реальный предмет и указываем на него. И было бы абсурдно, если бы мы брали материальный предмет, который не понятен собеседнику (например ананас к древнему германцу), приносили к нему слово, и после услышанного набора звуков/букв собеседник понял бы, что из себя представляет этот предмет. В ограниченном смысле такое может и бывает, но если низвести это на самый простой уровень (а философия древности работает именно на таком уровне), то это действительно абсурдное предположение. Принеси античному человеку помидор или кукурузу из Америки, и никакая аналогия тут не поможет. Выходит, что для Горгия материальные вещи онтологически важнее слов, они выступают, как базис и надстройка. Отсюда рукой подать к тому, что речь людей была предметом договора, и не является «естественной» по природе. Но об этой тематике мы еще поговорим дальше.

Горгий как отец риторики
Да, по сути, Горгий нападает на элейскую школу (оспаривает «Единое», как и Протагор). Но он делает это в рамках логики самой элейской школы. Он плоть от плоти порождение философии Италии, и это задает контраст и все различия между Горгием и Протагором. Весьма симптоматично, что Горгий явно отличается от Протагора по вопросу о наслаждениях (см. «Защита Паламеда»). Когда его спрашивали, как ему удалось дожить до глубокой старости, и при этом оставаться весьма крепким — Горгий отвечал, что это «вследствие того, что я никогда ничего, для удовольствия не ел и не делал». Это не может не показаться интересным моментом, вкупе с его ориентировкой на «разум». И тем более странным на этом фоне представляется тот факт, что если Протагор намеревался делать граждан добродетельными, то из платоновских диалогов про Горгия мы узнаем такое:
Я люблю Горгия, Сократ, больше всего за то, что от него никогда не услышишь подобного обещания (прим.: обещания быть учителем добродетели); напротив, он и над другими смеется, когда слышит такого рода обещания. Но, по его мнению, можно и должно учить прекрасно говорить.
У Горгия мы видим более сильный акцент именно на риторику, именно на то, что мы привыкли называть «софизмами». С именем Горгия связано также введение в обиход понятия «καιρός», предполагающего произнесение «надлежащих вещей надлежащим людям в надлежащее время». Отношение к риторике у Горгия, как видно, было прагматичным (т.е. вполне утилитарным). Для определённых людей достоверная и правильная речь будет прагматически неверной, так как приведёт к проигрышу. Также любая правильная речь может оказаться неэстетичной и невыразительной для тех, от кого зависит решение на суде. Главное качество речи, согласно Горгию, представляет её убедительность, способность влиять на убеждения и мнения толпы. Выступление за счёт ритмичности и циклических колебаний может и должно влиять на настроение слушателя и склонять его к нужным мнениям. Поэтому Горгий активно работал над произношением, структурой речи, и много над чем еще. Сам стиль красноречия назвали «горгианским»,а спецификой этого стиля было чрезмерное использование риторических приёмов, таких как метафоры, аллегории, образные выражения, гипаллаги, катахрезы, гипербатоны и др. Благодаря всем этим техникам прозаическая речь воспринималась как поэтическая. И хотя Платон указывал, что специализация Горгия это скорее преимущество, чем недостаток (куда хуже, когда «аморальный» софист лезет в тему добродетели) стоит все же признать, что в других местах и Платон, и Аристотель, говорят, что Горгий рассуждал о добродетели и указывал кое-что о ней. Они утверждают, что Горгий занимался перечислением отдельных добродетелей, определяя таким образом уже добродетель вообще. Платон даже приводит нам пример с этими «отдельными добродетелями», при чем их список очень удивляет:
Во-первых, если ты хочешь знать, в чем добродетель мужа, то это легко сказать, а именно добродетель мужа состоит в том, чтобы быть способным заниматься государственными делами и, занимаясь ими, делать друзьям добро, врагам же зло и остерегаться, как бы самому не потерпеть чего-либо дурного. Если же ты хочешь знать, в чем добродетель жены, то не трудно изложить, что ей следует хорошо управлять своим домом, беречь то, что в нем находится, и повиноваться мужу. Иная добродетель у ребенка, и у мальчика и девочки, и иная у старика; иная, если угодно, у свободного гражданина и раба. И есть очень много других видов добродетели, так что не представляет затруднений сказать о добродетели, что она такое. А именно соответственно каждому из занятий и возрастов в отношении к каждому делу для каждого из нас есть особая добродетель, а равным образом, как я думаю, Сократ, столь же многоразличен и порок.
Здесь мы видим, что методологически Горгий мало чем отличается от афинских софистов. Он тоже постулирует принцип специализации и конкретизации терминов. Он тоже пытается сказать, что одним термином нельзя обобщить сразу все виды оттенков реальной действительности. Но если на уровне метода Горгий вполне прогрессивный софист, то на уровне этики мы видим, что Горгий однозначно консерватор (ср. отношение к женщинам в «Экономике» Ксенофонта). И все же, если он говорит о добродетели, то быть может и Протагор, который еще чаще об этом говорил, и сам рассуждал в таком же ключе? Мы уже знаем, что окружение Протагора не выделялось особым нравственным либерализмом. И тогда опять получается, что никакой разницы между этими софистами нет? Либо Горгий просто подмазывается к «государственной» теме, ровно как и Протагор; либо нам стоит окончательно принять тезис о том, что Протагор является ничуть не меньшим консерватором.
А ведь Горгия сближает с софистами Афин и то, что он был сторонником двойных речей (нарочитых антитезисов), и прямо как автор сочинения «Двойные речи» разрабатывал систему аргументации «ни то, ни это, ни оба вместе взятые». Чуть более выраженный этический консерватизм не мешал Горгию заниматься даже более откровенной софистикой, как не мешал ему говорить, что «серьезность противников следует убивать шуткой, а шутку серьезностью». Считалось даже, что его сочинения и речи до такой степени переполнены иронией, что читатели никогда не смогут понять, серьезно он говорит, или притворяется. В связи с этим Горгия по праву можно считать отцом пост-иронии. А что ещё больше выдаёт его сходство с афинянами — это стремление к статусу «универсального человека» (Homo Universalis): «Придя в афинский театр, он отважился сказать: «Предлагайте любую тему» и он первый рекомендовал это рискованное дело, хвастаясь, что он, конечно, всё знает и может обо всем говорить без всякой подготовки». Чтобы иметь возможность заниматься импровизациями на любую тему, надо на самом деле более-менее разбираться в любой теме, т.е., обладать огромнейшей эрудицией.
В общем, получается, что в вопросе этики мы склонны считать, что Протагор и Горгий были умеренно-консервативными мыслителями, и в риторических целях они оба могли себе позволить эпатажные речи и злоупотребления. Горгий, несмотря на то, что находится ближе к консервативной по духу философии, оказывается вполне подрывным мыслителем, ничуть не уступающим Протагору. Но всё таки разница между ними достаточно велика: Протагор доверяет ощущениям, говорит об объективной истине, вводит критерий пользы, оценивает удовольствие и страдание, как способ оценки самой «полезности» (а не абстракции «добра» и «зла», как в фрагменте про Горгия); и кроме того, Протагор также однозначно выступает в пользу демократии, и выступает как догматический материалист. Всего этого мы у Горгия не увидим; поэтому по косвенным признакам все таки можем считать его более умеренным и консервативным философом, чем Протагора и афинских софистов.

Похищение Елены и Защита Паламеда
До нас дошли две полные речи Горгия: «Похвала Елене» и «В защиту Паламеда». Задуманные как парадоксы, составленные для демонстрации стиля своим ученикам, эти учебные речи ничего «парадоксального» в себе не несут. Конечно, сама тематика вызывающая, как в случае с Еленой, где Горгий оспаривает классическое мнению о том, будто бы она повинна во всех грехах и бедах ахейцев. А в случае с Паламедом, он защищает героя от клеветы. Интересно также то, что на тему мифа о Паламеде отдельные трагедии написали Эсхил, Софокл и Эврипид, т.е. все три крупнейших трагика, так что речь Горгия вполне может рассматриваться даже в контексте литературной традиции. Возможно, что местами Горгий даже сильно эпатирует публику; так, в «Елене» он обвиняет во всём сначала богов (тот еще грех), потом лживых софистов (т.е. самого себя), и потом насильника, снимая с женщины вину, и выступая, по сути, в современном либеральном дискурсе, что в патриархальном обществе того времени могло звучать очень даже вызывающим образом. В конце-концов, Горгий оправдывает Елену природой человека, дескать она была детерминирована почти как машина, и поэтому винить её не за что, можно только понять и простить. Оправдывать преступников через детерминизм — этого точно никто из древних никогда бы не принял. И тем более это интересно потому, что подобные аргументы развивались в Просветительской философии XVIII-XIX веков как раз в лагере либералов и утилитаристов, а отнюдь не консерваторов. Ну а в случае с Паламедом, Горгий использует фразы, максимально приближенные к этике утилитаризма:
«Ведь все всеми делается ради следующих двух целей: или чтобы получить какую-нибудь выгоду или чтобы избегнуть вреда».
Остается большой вопрос, считал-ли Горгий так на самом деле, или это речь ради речи? В конце-концов, основная линия аргументов в «Защите» носит консервативный характер, он осуждает наслаждения и восхваляет добродетель. Если судить исключительно по дошедшим текстам сочинений, то не совсем понятно, почему среди учеников Горгия находится много консервативно настроенной молодежи. Создается впечатление, что его целевая аудитория совпадает с таковой у Сократа. Конечно, он более консервативен, чем Протагор, он восхваляет добродетели и критикует гедонизм, но в целом, в его сочинениях настолько много радикальных и вызывающих идей, так много эпатажа и всего того, что в обиходе и начало считаться «софистикой», что его должны были осуждать даже хуже, чем Протагора. А на деле мы видим ровно обратную картину! Правда, у Горгия впоследствии будут находится также и «прогрессивные» ученики, и если с ними ещё всё понятно, тем более что они могли брать что-то из школы Протагора, то с консервативной частью дела идут сложнее. Из учения Горгия, каким мы его знаем, будет трудновато вывести всё то, что будет ими выведено.
